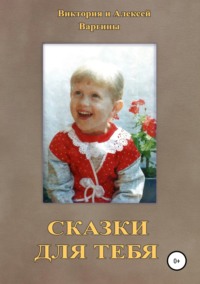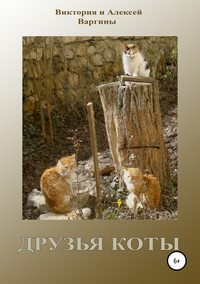полная версия
полная версияСолнечная тропа
– Помоги, голубчик, прогони со двора проклятого!..
Гришка и бровью не повёл, ровно его комод в избе передвинуть попросили, а не Лютого обуздать.
– Пошли…
А был Гриша Кудачкин медлительный, неповоротливый – как все сильные люди. Пришёл к Теребиловым вразвалочку, а бык морду в землю и попёр, попёр… Гриша его за рога схватил, как крутанёт – бык и на коленки. Следом за ним тетка Анюта на землю хлопнулась – от удивления. Рази ж она думала, что Гриша врукопашную на Лютого пойдёт? А Лютый почувствовал Гришину силу и повернулся к нему задом: ну-ка, одолей меня так, если во мне полтонны живого веса. Гриша посмотрел-посмотрел на него так и эдак, намотал бычий хвост на руку, за плечо закинул и поволок. Выволок Лютого на улицу, дал пинка под зад – тот и побежал смирнёхонько домой. С тех пор всегда Гришу десятой дорогой обходил.
Так что, Лёня, если про драки говорить, то это разве такие богатыри, как Гриша, мерялись силушкой. А если по пьянке кто-нибудь задерётся, тот же Кудачкин подойдёт да встряхнёт слегка. И всё, и привел в чувство.
– А что отец говорил, как деревня на деревню ходила?
– Так то ж пацаны! Вы же по своим законам живёте: забредёт в деревню чужой – можете и прогнать, и по шее накостылять. А там и взрослые парни втягивались… На моей памяти воевали наши пацаны с воронинскими, не один даже год воевали… А завелось-то, поди, с пустяка. Но ведь нас, девчат, мало всё это касалось, нас мальчишки не трогали и не замечали. До поры до времени не замечали…
Бабушка Тоня стала разбирать в сундуке какие-то платья, кофточки, косынки.
– Вот, – она вытащила на свет невзрачное, полинялое ситцевое платьице. – Это моё первое девичье платье, в нём уже ребята на меня заглядываться начали…
И тут Лёньку словно дернули за язык:
– Бабушка! А зачем нужно знать, где человек похоронен?
Бабушка выронила из рук девичье платье, и её губы задрожали.
– Да как же, Лёня!.. На могилке побывать – это ведь всё равно что повидаться с человеком! Поплачешь возле дорогого холмика, выскажешь, что на сердце накопилось, – и легче становится. Я вот, когда совсем невмоготу, одеваюсь в чистое и иду к родительской могиле…
– А где это?
– Возле Харина, помнишь, я тебе про мужика рассказывала, который по жене убивался? А Ивана могилка где? Есть ли вообще она?..
– А если б ты знала, где дедушкина могила? – превозмогая волнение, спросил Лёнька.
– На край света пошла бы! Хоть разок перед смертью побывать у него!..
Лёнька поднял бабушкино платье, и Антонина Ивановна некоторое время перебирала его складки, глядя куда-то остановившимся взглядом. Потом она глубоко вздохнула, словно пробуждаясь от тяжёлого сна, и чуть улыбнулась внуку:
– Ну что ж, будем дальше сундук потрошить?
Под бабушкиными нарядами в сундуке лежали пачки чистых ученических тетрадей и много спичечных коробков – все не такие, к каким привык Лёнька. Коробки были ещё деревянные, а не картонные, – с наклейками «Белка». На обложках пожелтевших тетрадок ещё не было ни таблицы умножения, ни призывов вроде «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии…»
– Бабушка, можно я немного себе возьму? – спросил Лёнька об этих симпатичных вещах.
– Тетради хоть все забирай, а спички нельзя тебе ещё.
– Ну, тогда хоть пустой коробок…
– Да пустой-то бери.
Лёнька, не мешкая, схватил подаренное ему добро, перенёс на кухонный стол и тут же вернулся к сундуку, подозревая, что тот открыл не все свои секреты.
В самом углу сундука мальчик увидел деревянную шкатулку.
– А в коробочке что? – спросил он, силясь открыть расписную крышку. – Как она открывается?
– Не знаю, Лёня, – ответила бабушка, – не помню я. Это Димитрий, мой брат, принёс на хранение, когда на фронт уходил. Он знал, как открывать. Да убили его на войне, с тех пор никто её не трогал. Твой отец к ней, правда, всё подбирался, да я не позволила тогда – берегла зачем-то.
– И что там внутри, никто не знает?
– Отчего ж не знает? Туда Димитрий свой орден Красного Знамени положил.
Лёнька ощутил некоторое разочарование, он уже решил было, что в шкатулке хранятся какие-нибудь драгоценности.
Бабушка как будто прочитала его мысли:
– По тем временам, Лёня, этот орден дороже золота был. Митя его в Финскую войну получил за очень важную боевую операцию. Благодаря этому ордену его и на Отечественную войну два года не брали. Потом всё же призвали, а через три месяца на него похоронка пришла…
– А мне он кто? – спросил мальчик уже более заинтересованно. – Я про него ничего не слышал.
– Тебе он двоюродным дедушкой приходится. А не слышал потому, что не успел Димитрий жениться, не оставил потомства после себя. Одна я и помню его ещё.
– А какой он был? Смелый, да?
– Да, был и смелый, конечно, – ответила бабушка Тоня. – А больше – несчастный…
– Несчастный?!
– Ну, как тебе объяснить… Митя у нас младший был, на шесть лет меньше меня, а сестры Зины – аж на одиннадцать, и я его с детства помню. Таких ребят, которые последними родятся, у нас поскрёбышами зовут, жалеют их как слабеньких… А Митю жалеть не нужно было, такой он бравый уродился. Ничем-то он не болел, никаких забот с ним не было! Он ведь у нас с Зиной на руках рос, потому и знаю. Вот ты спросил, смелый он был? Смелый, с детства смелый. Никого не боялся – ни собак, ни лошадей, про пацанов я уже не говорю – никому спуску не давал. Я сколько раз своими глазами видела: идёт Митя по улице от горшка два вершка, и все, кто ни попадётся навстречу, дорогу ему уступают! А после удивляются: это надо же – шибздик сопливый, а вышагивает, как будто он пуп земли!..
Да, такой он и был: в школе нашей – первый ученик, на посиделках – первый парень, а тут и в армию забрали Митю. Попал он в пограничники, через полтора года приехал на побывку – и совсем его не узнать: был орлёнком, а стал настоящим орлом… Вечеринку устроили тогда, полдеревни молодёжи собрали. Митька подпил чуток и давай приёмами всякими хвастаться. Что верно, то верно, поднатаскали его в армии хорошо, никто против него устоять не мог. Он и разошёлся: кому руку заломает, кого через себя бросит. Ходит вот эдак и куражится. Вечеринка, знамо дело, смялась, парни разбежались, девки за ними. Один Генка Тураев задержался, помню, и говорит: «Дурак ты, Митька, не знаешь, что делать со своей силой! Останешься ты в жизни один». Митька весь аж побагровел, мы думали, растерзает Генку сейчас, но он ничего, взял себя в руки.
На следующий день повстречался Митька с Генкой в тесном переулке. В таком месте никак двум орлам не разойтись, значит, уступить кто-то должен. Митька ухмыльнулся и двинул вперёд, как за всю свою жизнь привык. Но Генка плечо выставил и Митьку, ни слова не говоря, с пути оттеснил.
Такого с Митькой никогда не случалось, чтобы ему с дороги пришлось воротить. Смолчал он и на этот раз, но обиду не позабыл и Генке всё равно отомстил. Через два года, уже после Финской, когда орденоносцем с войны вернулся. Генка Тураев тогда уже в райцентре, в Синем Боре, жил. И Димитрий туда подался, в деревне оставаться не захотел – не по чину.
Вот встретил как-то Генку, и взыграло в нём ретивое, вспомнил встречу в переулке. Подошёл, шельма, к Генке с лаской, повёл в ресторан – угостить, встречу отметить. Пришли, сели, Митька поназаказывал чего душе угодно, да всё подороже выбирал. Генка от такой щедрости всё на свете позабыл. Пьют они, закусывают, официанты знай заказы подносят… Через пару часов решил Митька, что пора и рассчитаться. Встал и перевернул стол со всем, что на нём было. Посуда, конечно, вдребезги, шум, гам, вызвали милицию.
Милиция пришла, все на Митьку показывают, а он расстегнул пиджак – на гимнастёрке орден Красного Знамени. Милиционеры – по стойке смирно, честь ему отдали, а Генку забрали. Пришлось ему тогда платить за всё, что Митька заказал да разбил, и ещё за хулиганство отсидеть. Вот что этот орден в те времена значил.
Лёнька с неприязнью посмотрел на запертую шкатулку.
– Ба, а почему этот Митька всё-таки был несчастный?
– А какой же ещё? Ведь не сложилась у него жизнь – тот Генка будто в воду глядел. Ни друзей себе не нашёл, ни жены, всех ниже себя считал. И впрямь, парил надо всеми орлом и только смотрел свысока на других. А толку что? Никто-то его в жизни не любил, кроме мамки да нас с Зиной. И то мамка плакала больше… А ведь он мог, Митя, столько хорошего для людей сделать, такую память по себе оставить!.. А он… канул без следа, то ли жил человек на свете, то ли и не было его.
– Бабушка, а как этот Димитрий погиб? – спросил Лёнька.
– Странно, нелепо очень, – задумчиво ответила бабушка. – Можно было б ожидать, что он героем погибнет, какой-нибудь громкий подвиг совершит. А к нам пришла простая похоронка, что погиб, мол, при исполнении воинского долга. А через месяц пришло письмо от его боевого друга. Не знаю, правда это или так, по обычаю, другом назвался… Извинился вначале за своё письмо, долго, дескать, думал, прежде чем отослать. Да и описал Митину смерть, как на самом деле случилось. Напился тот пьяным и с другим таким же сержантом повздорил. А другой тоже, видать, несговорчивый оказался. Решили устроить дуэль. Вышли в лесок, стали друг против дружки… Митька пьяный пока руку с пистолетом поднял, тот другой его и прострелил.
Бабушка Тоня взяла братову шкатулку на колени, погладила красновато-коричневую крышку с иноземным узором, от которого веяло сладостью тысяча и одной ночи, и протянула внуку:
– Возьми-ка, Лёнюшка, её в Москву. Может, и откроете с отцом как-нибудь, и ордену применение найдёте.
– Давай! – и ещё один бабушкин подарок переместился на стол.
– Дальше смотреть будем? – устало спросила бабушка. – Это документы, всякие бумаги, облигации, тебе неинтересно. Это – одежда умерших, на память лежит. А это постой-ка…
Антонина Ивановна достала из сундука нечто похожее на фотоаппарат, но железное:
– Не знаю, понравится тебе?.. Ты же к телевизору привык, к мультфильмам. А это фильмоскоп и диафильмы, Серёжина забава. Будешь смотреть? Ну, бери.
На этом осмотр сундука завершился. Лёнька оттащил все приобретения к себе в комнату и стал изучать их. Тетради и коробок, понял он, заимеют ценность лишь в Москве, и мальчик отложил их в сторону. Туда же вскоре отправилась и шкатулка: открыть её один Лёнька не мог.
А вот фильмоскоп и плёнки оказались подарком что надо. Заряжаешь плёнку в аппарат и смотришь на свет, как в подзорную трубу, а объектив увеличивает изображение. И пускай оно не движется и не озвучено, но внизу есть надписи, и как только Лёнька вчитался в них, неподвижные картинки ожили…
Лент в картонке было немало, тут отыскались и знакомые Лёньке истории, и совсем неизвестные. Он брал их и по очереди просматривал, направляя фильмоскоп на окно. Но вот в руки ему попался фильм о мальчиках, которые летней ночью с лесником дедом Савелом отправляются искать клад. Дед Савел рассказывает любознательной четвёрке пацанят про поверье о том, что в ночь на Ивана Купала, один раз в году, цветёт папоротник и его цветок открывает нашедшему спрятанные под землёй сокровища. А поскольку дед Савел рассказывает об этом накануне Ивана Купала, мальчишки уговаривают старого лесника пойти на поиски клада. С наступлением темноты они и отправляются в рискованный поход.
Яркие картины ночных ужасов и опасностей, подстерегавших кладоискателей, рисует художник диафильма. Но мальчики ничего не испугались, они отыскивают цветок и находят поляну, полную искрящихся самоцветов. Уставшие и счастливые, они засыпают в окружении сказочных богатств, а когда поутру просыпаются, с удивлением обнаруживают вокруг лишь упавшие гнилые деревья. Дед Савел объясняет ребятам, что гнилушки выделяют фосфор: он-то и светится в темноте, превращая останки деревьев в алмазные россыпи.
…Отложив фильмоскоп, Лёнька долго сидел в задумчивости. Нет, его тронула даже не легенда о зарытых сокровищах. Где-то внутри себя мальчик услышал зов леса, тихий и властный одновременно. Он закрыл глаза и увидел ночной костёр, брызжущий искрами в темноту, почувствовал запах сосновых веток, потрескивающих в огне. Возле костра сидел старый лесник дед Савел и ворошил угли. Лёнька отчего-то не мог представить Савела таким, каким нарисовал его художник, и вместо этого видел Акимыча. У Лёньки заныло в груди. Он почти физически страдал от того, что деда нет рядом. Акимыч – да, он понял бы, что происходит с мальчиком… Он что-нибудь придумал бы… А кстати, когда это Ивана Купала? Правда ли то, что говорится в фильме о папоротнике? Дед Фёдор должен всё это знать.
Мальчик убрал свои вещи, вышел на улицу и, как к магниту, потянулся к дому Акимыча.
ДОМА ЛУЧШЕ
Лёнька сидел на подоконнике в своей спальне и смотрел в вечернее небо. Сначала оно было пустым, как гигантская перевёрнутая чаша с сине-фиолетовым дном. А затем высоко над садом, размытым ленивыми сумерками, зажглась первая звезда и приковала к себе взор мальчика.
Чем больше смотрел Лёнька на эту единственную, безумно отдалённую от него звезду, тем меньше и затерянней представлялся он сам себе, вместе с бабушкиным домом, вместе с Песками и даже вместе со всей Землей, которая была такой же маленькой светящийся пылинкой в океане космоса. Лёньке казалось, что он стремительно теряет самого себя в этих необъятных просторах, что вот ещё одно мгновение – и он окончательно исчезнет…
Но произошло совершенно обратное: что-то внутри Лёньки вдруг стало расти, расширяться во все стороны… Оно сделалось больше Лёнькиного тела и уходило дальше и дальше, за пределы видимого, в бесконечность… Мальчик становился всем, что вмещало в себя его сознание: маленькой деревней и всем человечеством, безымянной звездой и межзвёздным пространством… Всё это было рядом, всё было едино и свободно текло через Лёньку, принося чувство полноты и завершённости. Времени больше не существовало. Волны безбрежного покоя и блаженства несли Лёньку, как огромные крылья нежности.
Он не знал, сколько продолжалось это невероятное путешествие, но когда вернулся к себе в комнату, за окном светилось уже много звёзд и отыскать среди них ту, первую, было невозможно.
Внезапно Лёнька понял, что в его комнате что-то изменилось, в ней угадывалось чьё-то присутствие.
– Хлопотун, – позвал Лёнька.
– Да, – ответил шелестящий голос, – я не хотел тебе мешать…
– Я смотрел в небо, – проговорил мальчик. Больше он не мог ничего сказать.
– Знаю, – молвил Хлопотун. – Если ночью долго смотреть в небо, можно улететь в такую даль… И если хоть однажды улетишь, это обязательно повторится ещё и ещё…
– Откуда ты знаешь? – поразился мальчик. – Ты что, летал? Домовые летают?
Не ответив, Хлопотун обнял Лёньку сильными мягкими лапами и снял с подоконника. На миг мальчик уткнулся в его шерстяную грудь и вдохнул смешанный добрый запах деревенской жизни: запах хлева, привяленной травы, запах парного молока…
– Хлопотун, почему ты не приходил вчера? Я тебя ждал… Где ты был так долго? – ласково пенял он, поглаживая тёплую барашковую шерсть.
– В Харине, – ответил домовой.
– А зачем?
– Помнишь, Пила про ведьму рассказывал?
– Ну и что?
– Вот я и ходил разведать, как там.
– И что ты разведал?
– Плохо дело, – не скрывая досады, ответил Хлопотун. – Ну, да ладно, ты-то как?
– Я хорошо… Ой, ты знаешь, Панамка же уехал в город!..
– Как это уехал? В какой ещё город?
– Он с Мойдодыровым уехал! Мойдодыров утром домой собрался, Панамка и уехал к нему жить!..
Хлопотун всё понял. Он стоял, прядая лошадиными ушами, и молчал. Лёньке сделалось нехорошо от этого молчания. Он ждал, что доможил начнёт ругать его, а отругав, уйдёт и больше никогда не явится к Лёньке.
– Эх, пустой я чугунок! – вдруг безжалостно обругал себя Хлопотун. – Как же я про это не подумал, а?
Лёнька вспомнил, что как раз в последнюю ночь, когда Хлопотун отсутствовал, Панамка и соблазнился идеей переехать к писателю.
– Что теперь будет, Хлопотуша? – виновато спросил он у домового.
– Не знаю, Лёнька… Давай думать, что всё образуется. А больше этого мы с тобой всё равно ничего не сумеем. Ну, пошли к Толмачу.
В доме Толмача было тихо. «Неужели и они куда-то исчезли все?» – испугался Лёнька, проходя через тесные сени. Но четверо домовых были на месте, правда, сидели молча, как-то отъединённо друг от друга и выжидающе смотрели на дверь. Когда она отворилась, Кадило даже вскочил.
– Долгой ночи, добрых дел, – бросил Хлопотун в эту напряжённую тишину.
Кадило, видимо, обманувшись в своих ожиданиях, тут же снова сел и уставился в окно.
– Долгой ночи, – ответил за всех Толмач. – А мы думали, Панамка прибежал. Что-то нету его сегодня…
– Не будет его сегодня, Толмач, – без всяких предисловий сказал Хлопотун. – Панамка в город уехал.
– Что?
– Куда?
– Как уехал?
Лёнька вышел из-за спины Хлопотуна.
– Он к писателю уехал. Он ведь всё время о своём доме мечтал, а магазин это не дом, Панамке там плохо было. Поэтому он и поехал с Мойдодыровым. А иначе он бы умер тут!.. Это я ему сказал, что писатель уезжает, – добавил Лёнька и втянул голову в плечи.
Под тяжёлой лапой Толмача скрипнул стол, хотя старый домовой не шевельнулся. Не нарушал своего обычного молчания и Выжитень. Кадило с непроницаемым лицом продолжал что-то высматривать за окошком. Один Пила не считал нужным сдерживать свои чувства:
– Вот, ещё одного недотёпу в город потянуло! Это после того, как Куличик оттуда без оглядки сбежал! В магазине, значит, ему плохо было, а у писателя на антресолях будет хорошо!..
– Не каркай! – остановил его Хлопотун. – Никто не знает, как ему там будет. Может, и привыкнет ещё…
Пила бросил на него уничтожающий взгляд.
– Ты, Хлопотун, в домашних делах, может, и впрямь дока, но дальше кухни ум твой не идёт.
– А если он вернётся ещё, вернулся же Куличик… – в голосе Толмача Лёнька впервые почувствовал растерянность.
– Не вернётся он, – сказал мальчик.
– Почему?
– Боится, что его засмеют.
Все головы, как по команде, повернулись к Кадилу.
– Так вот кого нам благодарить нужно! – с нескрываемым злорадством объявил Пила. – Это из-за тебя, задрипанное помело, Панамка в городе сгинет!.. Все знают, как ты его травил!
Кадило подпрыгнул как ужаленный, вся шерсть у него встала дыбом.
– Врёшь ты! – закричал он не своим голосом. – Никого я не травил! Это ты его вечно пилил за всякие пустяки!..
– Ну чего расходились? – повысил голос Толмач. – Что толку теперь шуметь? Мы все виноваты… А ваша перебранка ему не поможет.
– А что ему поможет? – спросил Лёнька у бывалого домовика.
– Нам всем нужно думать, что Панамке хорошо.
Несмотря на такое указание Толмача, оптимизма в маленьком домике не прибавилось. Здесь каждый знал историю жизни Панамки и опасался за его будущее. Но едва ли не самым подавленным из всех был Кадило. Он сидел, обхватив голову обеими лапами, безразличный ко всему вокруг.
«Знал бы Панамка, как о нём беспокоятся», – думал Лёнька, вспоминая, каким одиноким и отверженным казался домовёнок накануне отъезда.
В эту ночь разговор на посиделках не клеился. Несколько раз Толмач пытался расшевелить домовых, но те упрямо отмалчивались. Даже Хлопотун угнетённо молчал, словно позабыл о том, что думать надо про хорошее. Кадило давно уже не смотрел в окно, за которым разворачивалась феерия ночного сада – расцвеченного луной и звёздными огнями. А посмотри Кадило туда, он мог бы заметить, как от ближних кустов скользнула к дому небольшая тень и притаилась у крылечка.
Минутой позже Выжитень обратился к Лёньке с престранным вопросом:
– Ты говоришь, Панамка в город уехал?
Мальчик даже отшатнулся от него.
– Да или нет? – повторил Выжитень.
– Ну, уехал… Я же сразу сказал, – пробормотал Лёнька в совершенном недоумении: «Спал он, что ли, в своём углу?»
– Никуда он не уехал и не уезжал.
– Ты что? – сурово спросил Толмач. – Что это за фокусы? Зачем это мальчик нам врать будет?
– Какие фокусы, – спокойно ответил Выжитень. – Лёньке просто показалось, что он уехал. Ну, может, привиделось что-то такое… А Панамка и не собирался ни в какой город.
– Ну и где же он тогда?
Выжитень показал на дверь:
– Там и стоит. Сейчас войдёт.
Домовые и Лёнька уставились на дверь так, что она вполне могла открыться от их взглядов.
– Ну, заходи, чего стоишь? – настойчиво, но вместе с тем мягко, почти просительно позвал Выжитень, и дверь отворилась.
В дверном проёме стоял Панамка, не осмеливаясь войти в горницу. Лёньке он почему-то показался ещё меньше, чем был на самом деле.
– Где ты был? – спросил Толмач, стараясь казаться грозным, но в его голосе явно не хватало твёрдости. Тем не менее Панамка затрепетал. Он беспомощно посмотрел в глаза Лёньке, потом Кадилу, Выжитню…
– В Раменье он был, – ответил за Панамку Выжитень тем же уверенным тоном, каким сообщил, что домовёнок стоит за дверью. И, предупреждая дальнейшие расспросы, продолжил:
– Он на писательской машине прокатиться решил, когда ещё такой случай представится? Так, Панамка?
Домовёнок кивнул, с мольбою глядя Выжитню в глаза.
– Ну, доехал до Раменья и вылез, – усмехнулся Выжитень. – Потом ещё пошатался по селу, поглазел и – обратно в Пески.
Толмач недоверчиво переводил взгляд с Выжитня на Панамку.
– А чего заходить боялся? – спросил он у последнего.
– Я услышал, как вы говорили, что я… в город сбежал… Я испугался, что вы мне не поверите, – заикаясь, проговорил Панамка. Он по-прежнему глядел в глаза Выжитню, словно читал по ним.
У Толмача, судя по всему, ещё оставались вопросы, однако он предпочёл их не задавать.
– Ну а чего же ты дальше не поехал? – вдруг медоточивым голосом спросил Кадило. Он уже успел сменить позу, беззаботно развалившись на лавке.
Панамка снова струхнул, он не доверял Кадилу.
– Куда… дальше?..
– Да во Владимирово же! К Мойдодырову в гости. Тебе разве не интересно, как он там живёт?
Домовёнок не знал, куда ему деваться. Совсем неожиданно на помощь Панамке пришёл Пила.
– Если бы он к писателю уехал, то некоторые, – Пила, подражая Кадилу, сделал упор на слове «некоторые», – некоторые бы тут со скуки померли. Они ведь только и делают, что над другими издеваются.
Кадило сразу подобрался, в один миг вся бесшабашность слетела с него, как шелуха.
– Ну, ты сам посуди, что было бы, если б ты к писателю уехал, – уже совсем иначе сказал он. – Там же чужое всё, нашего брата нет, а этот Мойдодыров!..
– Правильно Кадило говорит, – вступил в разговор Хлопотун. – Не место нам в городе, и хорошо, что ты туда не поехал. Ну, хочется тебе собственный дом – иди к писателю на дачу жить.
– На дачу?..
– А чем не дом? Мойдодыров всё время в городе, за дачей присмотреть некому. Или не по нраву она тебе?
– По нраву… – всё ещё робея, ответил Панамка. – А если Мойдодыров не захочет, чтоб я там жил?
– А ты сделай так, чтоб он захотел, – сказал Хлопотун веско. – Мойдодыров ведь не глупый, авось поймёт свою выгоду. А если не поймёт, приходи ко мне жить. Места нам хватит, а хозяйство у меня большое – не заскучаешь.
Лёнька чуть не бросился обнимать Хлопотуна. Подумать только, Панамка будет жить в доме его бабушки!
– Это почему он к тебе должен идти? – ревниво спросил Кадило. – У других что, домов нету?
– Дома-то есть, – не возражал Хлопотун, – только чему его эти другие научат? Над хозяевами своими измываться?
– Ты в эти дела не лезь, – ощетинился Кадило, – ты лучше вообще помолчи. И я помолчу. А Панамка пускай сам скажет, где он хочет жить. Где ему веселее будет?
Лёнька обомлел: ну и Кадило, вот так, за здорово живёшь, взял и перешёл дорогу им с Хлопотуном. Но неужели Панамка выберет дом бабки Долетовой?
Панамка на всякий случай придвинулся к Хлопотуну.
– Я лучше у писателя попробую, – сказал он.
– Правильно, – похвалил его Толмач. – Такой домище без глазу оставлять нельзя, дача это – не дача… А писатель – может, и оботрётся ещё у нас, станет хозяином. А я вот что спросить хотел. Хлопотун, ты часом не в Харине вчера был?
– Угадал.
– Что, о Федосье слухи проверял?
Хлопотун хмыкнул:
– Так глупый слухам верит, умный не верит, а мудрый возьмёт да и проверит.
– Ишь ты! – не удержался Толмач. – Ну, давай говори, чего ты там выходил.
Воспользовавшись тем, что общее внимание переключилось на Хлопотуна, Лёнька подсел поближе к Панамке.
– Как же ты догадался вернуться? – шёпотом спросил он.
Панамка широко улыбнулся:
– Мы ехали, ехали, уже за Раменье выбрались, вдруг мне так грустно сделалось, так стало жалко из Песков уезжать!.. Я ведь ни в одной деревне кроме Песков не задерживался, а тут вот остался да и привык. И магазин мой вспомнил, всё-таки не так уж плохо мне в нём было… Вышел я, да в Раменье задержался: интересно было посмотреть. Хотел до ночи вернуться – не успел…