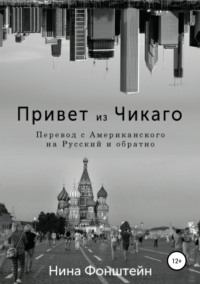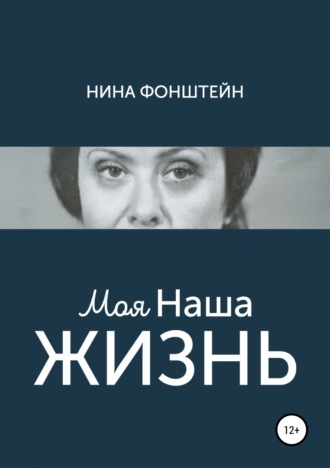 полная версия
полная версияМоя Наша жизнь
Спустя шесть месяцев после первой встречи с Юрой, когда выяснилось, что альтернативы нет, Сергеев (будущий Юрин начальник) свел Юру с кадристами его института. На счастье заведующий кадрами ВНИЭМа оказался бывшим военпредом «Компрессора», на котором Юра работал более трех лет после института, и получился разговор «за жизнь», что и помогло Юре начать новую карьеру металловеда магнитотвердых материалов. Тут ничье вмешательство, кроме счастливого случая, помочь не могло.
Однако совершенно откровенная несправедливость с моим племянником подвигла меня на попытки борьбы, что закончилось не просто большим ничем, но и новым взглядом на ситуацию и на некоторых близких мне людей, которых антисемитами никогда не считала и которые, скорее всего, ими и не были.
Боря (Борис Глейзер) поступал в МИСиС на физику металлов и набрал 15 баллов из 15 (считали в тот год какие-то три основных предмета). Тем не менее, его на эту специальность не приняли и предложили поступать на прокатное производство, что в итоге он принял.
Я уже была давно кандидатом наук, часто бывала в родном институте, чувствовала себя вправе зайти к председателю приемной комиссии Вулию Аршаковичу Григоряну (когда-то он преподавал у нас физхимию) и с обидой изложила суть дела. Григорян стал утверждать, что сдавших на все пятерки было больше, чем мест (я проверила это заранее, но мне было неудобно ловить его на неправильном изложении фактов), что прокатное производство – тоже хорошая специальность и т. д.
Мне стало неловко за Григоряна, и я ушла переживать куда-то по коридору, в кабинет Юрия Васильевича Пигузова, с которым дружила и которого искренне уважала. В студенческие годы мы считали, что именно его биография попавшего в плен летчика была в основе чухраевского «Чистого неба».
Юрий Васильевич интерпретировал мне ситуацию весьма своеобразно:
– Ты сама посуди. Сколько у нас всего евреев в стране? Один процент. А среди людей с высшим образованием? Восемь. (Я не могла оспаривать достоверность этих данных). А среди кандидатов наук? Наверняка все двенадцать. И так далее до докторов. Можно понять, что надо как-то вашего брата, не обижайся, придержать, чтобы улучшить пропорцию.
Постепенно до меня (иногда и задним числом) доходило, что и евреи, уже достигшие каких-то высот, принимали эти соображения разумного «сдерживания» в расчет, и это было самое обидное, потому что лишало надежд и на поддержку единородцев.
Вспомнилось, что, когда я в 1965-м подала документы в аспирантуру ЦНИИчермета, меня пригласил на предварительное собеседование Рувим Осипович Энтин, большая умница, известный ученый, заместитель директора Института физики металлов, правая рука академика Курдюмова.
У меня были сданы иностранный язык и философия, предстояло сдавать только специальность.
Энтин после нескольких общих слов сказал:
– Вы должны понять ситуацию заранее. Уверен, что вы сдадите специальность на пятерку, но мы вас все равно не примем, потому что в этом году надо принять Леню Клейнера (Принять двух евреев сразу – опять нарушать пропорцию?) Он из Перми, ему дополнительный месяц заочника нужнее. А вы москвичка, будете и так к нам приходить, мы будем помогать, вы и так сделаете диссертацию.
Я ушла от него подавленная, но когда пришло официальное письмо, что меня не принимают «по конкурсу» (со всеми пятерками), секретарь отдела аспирантуры, Олимпиада Николаевна (светлая ей память) строго посоветовала документы не забирать:
– Весной будет дополнительный прием не прошедших по конкурсу троечников из детей и племянников. Будет с руки добавить в обращении к министерству и вас. Вы с вашими пятерками улучшите картину: и такие, мол, тоже не прошли по конкурсу, дайте дополнительные места.
Так и случилось.
Однако горечь от разговора с Энтиным осталась. Спустя семь лет его младший сын сбежал из дома и уехал в Израиль, разрушив карьеру и фактически жизнь отца (того немедленно сняли с его поста и только Курдюмов смог оставить его в институте и даже выделить впоследствии лабораторию). Я тогда подумала, что это могло быть реакцией молодого человека на постоянное сдерживание, предотвращение всякого «высовывания». Образцом сверхскромного поведения, в соответствии с папиными рекомендациями, был старший сын Рувима Иосифовича, и по моей логике это могло дополнительно мотивировать младшего к эгоистическому (сверхэгоистическому) бунту.
Наверно все члены наших семей были вышколены не хуже старшего сына Энтина. Кто-то был удовлетворен достигнутым положением, остальные не смели думать об эмиграции, чтобы не подвести родню. Про коллективную ответственность понимали все. Когда вскоре после войны к бедствующей Белле обратились из Международной юрколлегии относительно американского наследства родственников ее погибшего мужа, напуганные московские родственнички убедили ее заверить, что это просто однофамильцы, а родственников за рубежом у нее нет и быть не может.
И детей мы так же воспитали. Миша окончил институт в 1981-м, когда уже было известно про первые потоки эмигрантов 73-го и 79-го годов. Но Юра работал в «ящике», даже в пору перестройки его лишили какого-то уровня секретности, когда Миша женился на Веронике, русской «постоянно проживающей за рубежом» в тогдашней ГДР (никто не знал, что через два года было бы еще хуже – она оказалось бы живущей в капстране).
Поэтому Миша рос в сознании, что его эмиграция будет смертельным ударом по родителям.
Так уж вышло, что те из членов семьи, кто наверняка смог бы найти себя за рубежом, не смели об этом думать, чтобы не подвести родителей. В результате при наличии многочисленной родни у нас не было ни одного родственника в Израиле.
Литературные опыты в институтские годы
Поступив в институт, я немедленно стала высматривать, где и как я смогу продолжать свои литературные искания.
Я хваталась за все. В институте готовился спектакль Эстрадного театра института стали (ЭТИС), некий сборный капустник на актуальные темы, которому авторы хотели придать связный сюжет. Увидев объявление: «Приглашаются актеры, литераторы, музыканты», я немедленно устремилась на обозначенную встречу. Наверняка гордо произносила про трехлетнее пребывание в литературной студии, что было выслушано со снисходительной насмешкой.
Театром ведали ребята с четвертого курса, с некоторыми потом дружила долгие годы. Руководил этой талантливой и склонной к хулиганству бандой Юра Карпов, по определению директор, которым и был всю оставшуюся жизнь, вплоть до директора Гиредмета и избрания академиком. Арнольд Шарапов, Леня Однопозов, Костя Натансон писали смешные и складные стихи, Павел Квин прекрасно их исполнял, Валера Парецкий играл на пианино.
Будущий спектакль обрастал вставными номерами на глазах, Юра Решетников был не только режиссером, но и придумщиком декораций, которые расписывали размером в стены. Мне и во сне не мечталось так острить, но когда надо было придать какой-то смысл соединению отлично придуманных сцен свадьбы и распределения на работу, я предложила: «А пусть родители подводят к ней разных женихов и при шёпоте в ухо: «Воркута», – она готова обниматься-целоваться-жениться с каждым». В единственной женской роли выступала наша прима Ирина Ржевская, прекрасная Роксана в постановке институтского драмкружка «Сирано де Бержерак».
Моя роль свелась в основном к помощи с реквизитом (больше всего помню прошивание ваты для чучела верблюда) и еще участия в маленькой сцене ошалевших машинисток, которые чередовали трескотню на машинке с поцелуями (смысла сцены не помню, как не помню, с кем было назначено целоваться).
Спектакль имел успех и повторялся через год следующей весной в каком-то большом клубе. Я знала его наизусть и была счастлива предвидеть реплики на несколько секунд раньше сказанного вслух, но я уже вышла замуж, была в «интересном положении» и участвовала в спектакле из зала.
Также вскоре после начала учебы в институте я поднялась на четвертый этаж, где в маленькой комнате находилась редакция институтской многотиражки «Сталь» и предложила свое участие и там. Этот счастливый шаг обернулся практически постоянной занятостью репортерской деятельностью и дружбой с редактором газеты Германом Бройдо (на фотографии).
Это было не редкостью: молодым журналистам было нелегко найти работу в массовых изданиях, что и украшало их профессионализмом небольшие редакции, вроде нашей многотиражки. Герман был не только высокого уровня журналист и редактор, но и тактичный учитель и просто приятный человек.

Я писала небольшие заметки по заданию, а к какому-то дню, то ли Советской Армии, то ли Победы, Герман дал мне прочитать несколько строчек из Нового Мира. Уже и не помню, чьи это были военные мемуары, но в числе прочего было написано «…в Дахау подпольную организацию возглавлял Григорий Тёрушкин, бывший студент Московского Института Стали». Мне было поручено написать, какой он был человек, и это было настоящее журналистское расследование.
Я встречалась с его женой, которая работала на электроламповом заводе, расспрашивала преподавателей, что работали в институте до войны. Не все сразу его вспоминали, приходилось показывать фотографию, которую я достала в архиве. Только Борис Григорьевич Лифшиц сразу переспросил: «Терушкин, Григорий?». И начал перечислять запомнившиеся ему (спустя, как минимум, пятнадцать лет) особенности этого студента. Он-то и вспомнил, что тот был женат, подсказал, как найти жену.
Еще более сильное потрясение памятью Бориса Григорьевича пришло много позже. Спустя еще почти тридцать лет на защиту моей докторской диссертации в Московском же институте стали и сплавов в качестве оппонента пришла Ксения Алексеевна Ланская, тоже выпускница МИСиС, которая не была в здании института десятилетия. Все какое-то время стояли в ожидании кворума, Лифшиц ее немедленно узнал, Ланская и я вслед за ней стали восторгаться его памятью, а он заявил:
– Я всех студентов помню. Помните, вы приходили спрашивать меня про Терушкина?
У меня не было слов.
Статья про Терушкина заняла всю полосу и, по-видимому, понравилась. К 20-летию со Дня Победы, когда я уже окончила институт, ее снова напечатали и мне прислали экземпляр газеты домой.
Над моим стилем Герман Бройдо посмеивался:
– Я в Нининых статьях, еще не читая, убираю «И» в начале предложений и заменяю тире двоеточиями.
Это верно до сих пор, и я, перечитывая, что уже написала, вспоминаю слова Германа и правлю, как делал он, потому что все в моей манере писать так и осталось.
Позже я стала литературным редактором стенгазеты факультета «За металл», то есть в мои обязанности входило придумывать направленность номера, редактировать заметки, но я не отвечала за их распределение и сбор. С этим было связана одна неловкая история, при воспоминаниях о которой многие годы краснела.
Мы уже были на четвертом курсе, Мише было под два года, но я была (теперь могу утверждать с гордостью) полная невежда, когда речь шла о пошлых обозначениях сексуального поведения. В частности, я еще несколько лет не знала двойного смысла слова «давать» и терпеть его не могу по сю пору.
Случилось, что старательное выполнение задания нашей многотиражки (я не переставала сотрудничать со «Сталью») значительно обогатило мой словарный запас. Как-то мне поручили написать фельетон про порчу студентами институтского имущества, и я неутомимо ходила из аудитории в аудиторию, удивляясь терпению, с которым студенты выцарапывали довольно длинные изречения на скорбно терпящих партах. Тут были и «Здесь было безжалостно убито время», «Начну новую жизнь в новом году», «Лучше всего у меня получается ничего не делать».
Осуждающий фельетон я написала, процитировав некоторые перлы, вроде «Здесь Фима протирал штаны», «Умный в гору не пойдет», «Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать»… Герман был доволен.
Вскоре состоялось заседание редколлегии «За металл». На предыдущем обсуждался срыв номера по вине Юры Беленького, официального редактора, ответственного как раз за сбор материала. После его основательной и суровой «проработки» в прошлый раз, теперь материала было предостаточно и в срок. Довольная, я прокомментировала:
– С Юрой получилось, как в том изречении, что я видела вырезанным на парте: его любовь без палки не загорается.
Я искренне думала про стимулирующее наказание в виде битья палкой. В аудитории я была единственной девицей. По тому, как до синевы покраснело лицо Бори Мастрюкова, тогда аспиранта и нашего куратора от партбюро, и как, переглянувшись, отводили глаза мальчишки, я поняла, что ляпнула что-то невпопад. После окончания заседания Борис, не глядя на меня, сказал негромко:
– Нин, ты лучше не употребляй выражений, смысла которых не понимаешь.
Я в ужасе помчалась домой к Юре за разъяснениями. Он до сих пор копит мои «перлы» – эта была не единственная.
Не отходи – я твой защитник
Поскольку у моих записок нет другой задачи, как на конкретных эпизодах моей жизни воссоздать детали ушедших эпох (не одной, а нескольких), то не могу не написать про нашу первую (в 1961-м году) поездку к Черному морю, а точнее в Грузию. Страна была большая, но все тогда было просто и без всяких опасений.
Это была как бы традиция института: ехать к Черному морю перед завершающим курсом. После четвертого курса была производственная практика на рабочих местах, на которой студенты зарабатывали в металлургических цехах приличные деньги (существенно больше предстоящей инженерной зарплаты).
Мама с Валей с присущей им жертвенностью приняли на грудь обязательства возиться с Мишей. Ему было уже почти два, я воспользовалась преимуществами студентки и получила без очереди для него место в яслях, и мы укатили (улетели) в Адлер. Как выяснилось позже, Миша три дня подряд в яслях плакал, плакали, глядя на него, и мама с Валей. Через три дня, воспользовавшись его простудой, они его больше в ясли не понесли, и на этом его ясельная карьера кончилась.
Мы же по плану доехали на поезде из Адлера в Гудауты, где сняли комнату в типичном гнезде отдыхающих, в тенистом дворе, где рос инжир, увитый виноградом, скрывая многочисленные двери в комнаты подобные нашей.
Мы наслаждались морем, фруктами. Я настолько объедалась гранатами, что вокруг ногтей появились маленькие пузырьки – как выяснилось потом, от избытка витамина С. Совесть мучила, что мама с Валей этих фруктов не видят, посылали в Москву посылки, я варила, в первый и последний раз, изумительно вкусные экзотические варенья из айвы, инжира, персиков для перевозки в Москву.
Мы много ездили, разглядывая окрестности, выбирались то на поезде в Пицунду или даже Сочи, то на автобусе в Афон и Сухуми. Автобус в Сухуми был переполнен, меня кидало из стороны в сторону, наталкивая на пожилую загорелую женщину русского типа. Постепенно разговорились. Говорила она ломано: «Моя Володька», давно была замужем за грузином, живет в грузинском селе. Муж тоже доброжелательно подключился. Мы сказали, что мы студенты, много ездим. Они пригласили:
– Приезжайте к нам, на Черную речку, в Отхары, можете погостить.
– А что Вы делаете в Сухуми?
– Приехали сына навестить.
Мы не спрашивали деталей. Навестить сына так естественно, если не в пионерском лагере (может, они были немного староваты для этого), то в больнице.
Это была наша первая поездка куда-то не только вдвоем, но главное без мамы и ее понимания бюджета. Денег было много, обратный билет оплачен. Это была наша первая поездка вдвоем, мы играли в игру «Глава семьи», и Юра сунул все деньги в карман пиджака, доставая по мере необходимости. Через две недели (наша поездка была рассчитана на четыре) Юра полез в пиджак и с удивлением обнаружил, что деньги практически кончились.
Телеграфировать в Москву с просьбой денег было неудобно (мы заработали на практике три тысячи, хоть после недавнего обмена всего триста, но огромные деньги), менять билет и уезжать раньше не хотелось. Не помню, кому пришла в голову мысль поехать в Отхары, но мы освободили комнату, собрали вещи, оставили часть (в том числе огромные банки с вареньем) на хранение хозяйке и затряслись на маленьком автобусе, который полз с большим скрипом неизменно в гору, пугая вероятностью покатиться задним ходом вниз.
Оказалось, что Отхары – горный сванский поселок, с протекающей холодной Черной речкой, в которой обильно водилась форель, и с огромным колхозным садом, вокруг которых, как почти везде в те времена, жили достаточно бедные колхозники, преимущественно на своем натуральном хозяйстве.
Нам сразу на остановке объяснили, как найти Ратиани, и, к нашей радости, они встретили нас, как дорогих гостей. В их дворе росли высокие платаны, обвитые виноградом, было много грядок табака. За едой, сопровождаемой молодым вином, мы договорились, что за постой Юра помогает хозяину собирать виноград с высоких веток, а я – хозяйке собирать табак.
Деньги в расчет не входили, у них их не было, а нам надо было только дожить до самолета. На следующий день Юра собрал пару огромных корзин винограда, и они вместе с хозяином весь день давили его роликами над большой бочкой, а вечером пробовали молодое вино, «маджарку».
Обстановка была достаточно необычная, заходили и уходили соседи, всегда мужчины, нередко молодые, все говорили на грузинском, до Юры доходила потенциальная опасность ситуации, но он был пьян настолько, что лег на лавку около бочки и не мог поднять головы.
Время от времени в чем-то подобных обстоятельствах Юра вспоминает с улыбкой заветную фразу, который он произнес тогда, держа меня за руку: «Не отходи от меня, я твой защитник».
Как выяснилось потом, никакой опасности не было. У нас был статус не просто гостей Ратиани, а гостей всего сванского поселка. Хозяева зарезали последнюю курицу, чтобы сделать сациви, соседи приносили еще куриц, форель, а когда я уже не могла переносить приторную изабеллу, добывали белый виноград цоликаури из колхозного сада.
Мы подружились, я шила хозяйке домашнее платье из байки. Швейной машинки у них не было, и я плотно соединяла части на руках «вперед иголочкой». Она мне на ломаном русском языке рассказывала семейные истории: как встретила мужа, что делает их дочь. Постепенно выяснилось и то, что они делали в Сухуми, где мы встретились. Они навещали сына в тюрьме, куда он попал за ношение огнестрельного оружия. Оружие у него было не случайно. Год назад в драке в Батуми убили их старшего сына, и отец («Володька») велел младшему: «Пойди и убей». Муж согласно кивал при этом рассказе. В перестрелке со старшим сыном участвовало двое, младший убил обоих. А когда с логичными подозрениями в поселок приехала милиция, все жители в один голос заверили, что у Ратиани нет сына: был один, и тот убит. Когда младшего сына все-таки арестовали в Батуми из-за участия в перестрелке (жертв не было), с предыдущими убийствами это не связали, и ему присудили всего один год тюрьмы.
Мы прожили в Отхарах две недели, унеся на всю жизнь сознание неизменности вековых законов мести и гостеприимства, по которым живут сваны.
В 1993-м, больше чем через тридцать лет, Олю Гирину с семьей увозили из Пицунды на военном катере. Кто-то хорошо сыграл на готовности горячих кавказцев к взрыву и втянул их в долговременную и разрушительную войну, после которой исчезли изумительные в их обустройстве Афонские пещеры, красивые нависшие с гор балконы Гагр. Что стало с Гудаутами и Отхарами, мы не знаем.
Я выбираю, меня выбирают (распределение)
В наше время учеба в институте завершалась обязательным распределением на работу. Нигде в мире не было столько инженеров, часто выполняющих работу, не требующую институтских знаний. Уже много позже в США и Европе я столкнулась с институтом бакалавров, что-то вроде наших выпускников техникумов, которые отлично справлялись со многими видами инженерных работ, как мы себе их представляли. В годы перестройки, когда новые условия заставили предприятия жить по приходам, что привело к значительному сокращению инженерных рядов, обязательное распределение, гарантирующее работу, воспринималось бы с радостью. Но где было найти столько вакансий для многочисленных выпускников технических вузов, и поэтому они устремлялись в автоцентры, переучивались в программисты, были вынуждены уйти просто в торговлю.
Другое дело было прежде. Исправный Госплан балансировал поступления новых учителей, врачей, инженеров – выпускников институтов – со спросом возможных потребителей свежих сил, не интересуясь реальностью заявленных требований.
Пришла и наша очередь быть распределенными. Накануне официального мероприятия нам дали список возможных мест, в котором было легко опознать порядок от лучшего к худшему. В Москву и область мест было восемь. Места по стране были разбросаны широко и далеко.
На спектакле ЭТИСа в сцене распределения на столе комиссии лежала большая карта, с краями под столом. Кажется, Фима Фишкин (распределяемый) показывал сначала Москву – комиссия отрицательно кивала головой, потом «поближе к металлургическому сырью и Черному морю» – то же, и наконец, ему указывали глубоко под стол, на самый край карты, отсюда не видать.
В нашем списке лучшим местом в Москве был НИИлитмаш, головной институт нашего профиля, но с упором на оборудование, чем мне заниматься не хотелось. Затем шел ЦНИИТмаш, институт тяжелого машиностроения, с большим литейным отделом, с известными публикациями по самотвердеющим смесям, с которыми была связана моя дипломная работа.
У меня был самый высокий балл, я должна была идти по распределению первая и, значит, могла выбирать из всего списка.
Сама процедура распределения была обставлена очень торжественно. От ректората был только что назначенный проректор молодой тогда Юрий Федорович Шевакин, потенциальные заказчики прислали своих представителей отделов кадров.
Вопреки моим ожиданиям, первым вызвали Ивана Тарасенко. Балл у него был ниже моего, но ему добавили сколько-то за активную общественную работу (он был уже в комитете комсомола института). Оказалось, что накануне он женился на москвичке и, стало быть, мог выбирать из всех московских мест. К счастью, он выбрал НИИлитмаш, чем никогда потом не воспользовался, потому что ни одного дня не провел на инженерной работе: сначала он был инструктором райкома партии, а через сколько-то лет оказался заместителем председателя (кажется Ленинского или Гагаринского) райисполкома района Москвы, включающем Молодежнаую улицу, куда переехали мы.

Я вошла следующей, и обстановка поначалу была достаточно теплая. Юрий Федорович зачитал фамилию, средний балл, семейное положение, оказалось, что запомнил, что мы ходили на ноябрьскую демонстрацию с двухлетним тогда Мишей. (Мы ходили на все демонстрации). Спросили про мой выбор. Я назвала ЦНИИТмаш. После некоторой паузы сидящий в углу немолодой серьезный дядя мягко предложил:
– А какой ваш следующий выбор? В ЦНИИТмаше у вас могут быть проблемы с отделом кадров.
К такой откровенности я была не готова. Потом я узнала про реальные проблемы в случаях, когда ребят не предупреждали заранее: надо было получать официальное письмо с причиной отказа и снова обращаться за перераспределением. Так, например, случилось, с Володей Бейлиным, с которым потом всретились на «Эмитроне». Мне сэкономили не только время: был шанс, что в ЦНИИТмаше с их сильными исследователями мне могло понравиться, и я бы навеки застряла в земледелках. А так, спрятав слезы обиды, я ткнула в следующее название, где еще недавно работала Алла Эйгелес: НИИтракторосельхозмаш, и была направлена туда.
Попытка работы в «настоящей» газете
Герман Бройдо, наконец, пробился в профессиональную журналистику и перешел работать в «Лениское знамя». Я только что окончила институт, работала в НИИтракторосельхозмаше. Кто-то передал мне его новый телефон, и я поехала повидаться. По-видимому, жаловалась на тусклость жизни. Хотелось что-то делать вместе, писать.
Пообсуждали несколько тем, которые могли бы быть газете интересными, но я уже работала, и днем должна была быть на службе. В итоге Герман предложил:
– Сейчас мы популяризируем движение «За коммунистический труд» и людей коммунистического труда. Институт у вас большой, выбери кого-то интересного у себя на работе и напиши о нем очерк. Только согласуй его кандидатуру с партбюро.
Окрыленная, я помчалась на работу.
Относительно кандидатуры у меня сомнений не было. Я была, как все молодые сотрудницы отдела, влюблена в нашего начальника, Авенира Самуиловича Мириенгофа, но уже была достаточным реалистом, чтобы не поднимать разговора о его кандидатуре в партбюро. Хотя вся его история с добровольной жизнью в ссылке в Средней Азии, куда он последовал за будущей женой, отца которой арестовали, а всю семью сослали, была очень романтична, а сам он, прямолинейный и резкий, но безупречно справедливый, конечно, был образцом для подражания.