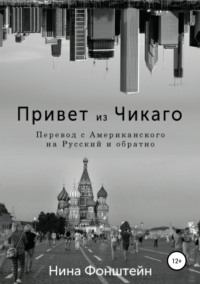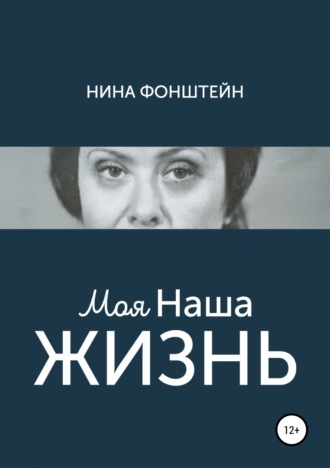 полная версия
полная версияМоя Наша жизнь
– Не скажете, где сойти у «Салюта»?
– Это что, бывший сорок пятый?
– Не знаю.
Обсуждал весь трамвай, пока кто-то не объяснял:
– Да это, где самолеты делают.
Наш п/я переименовали в «Эмитрон» и перевезли с Щербаковской улицы около метро «Семеновская» (бывшая «Сталинская») в Черемушки, оставив в пользу другого предприятия новое тогда начинание – выращивание кристаллов для лазеров и создав работу многочисленным дояркам из ушедшей в прошлое деревни Черемушки.
Начинала я с выяснения факторов, вызывающих хрупкость вольфрамовых подогревателей, но вольфрамом и сплавами на его основе я и моя группа занимались и все последующие годы.
Перемещаясь по заводу, я часто напевала: «Она по проволоке ходила, махала в воздухе ногой». Объектом наших исследований были разные фигурки: спиральки или сложенные плоские зигзаги из тончайшей проволоки, которые и разглядеть порой было нелегко, не подложив под них лист бумаги.
Проволоку отжигали, перематывая через маленькую печь, наполненную водородом (нагретый вольфрам моментально окислялся на воздухе). Печка время от времени взрывалась, если давление водорода было недостаточно и происходил подсос кислорода воздуха, вызывая образование гремучей смеси. Я была довольно трусовата, но печь длиной в тридцать сантиметров была диаметром не больше стакана, так что я к этим хлопкам постепенно привыкла.
В связи с отжигом вольфрама известна была повторяемая и не теряющая актуальности быль, относящаяся к военному времени. Московский электроламповый завод имел в своем составе цех производства вольфрамовой проволоки. В мое время начальником этого производства был довольно пожилой Алексей Федорович Синяков, который и в эвакуации двадцать с гаком лет назад был в этой же должности, как и главный инженер МЭЛЗа Роман Алексеевич Нилендер. Как-то в те военные годы Нилендер вызвал Синякова со строгим вопросом, почему стоит цех:
– Так водорода же нет…
– С водородом и дурак сделает.
Время от времени я подстегивала себя и других этим «с водородом и дурак сделает». Такова жизнь: все легкие задачи решены до нас.
Мы много ездили и по другим электроламповым заводам, отбирая образцы вольфрамовой проволоки для сравнения. Такие цеха имела «Светлана» в Ленинграде, Саратовский и Новосибирский электроламповые заводы, завод тугоплавких металлов в Черчике.
В командировки мы часто ездили вместе с Ирой Мазиной, которая была немного старше, но при моем появлении не захотела взять на себя руководство и стала моей «замшей». Почему-то в Чирчик она поехала одна, и привезла оттуда забавную историю.
На выходные Ира захотела съездить из Чирчика в Ташкент, автобус был переполнен, она с трудом воткнула себя последней. Было жарко и душно, автобус сделал остановку, и когда снова все рассаживались-уплотнялись, оказалось, что один пассажир не сумел «влезть» и остался на улице. Он бушевал, потому что до остановки занимал место где-то в комфортной середине, публика сочувствовала, вспомнили, кто садился последним (последней) в Чирчике, и постановили, что по справедливости, если кому-то страдать, то Ире, которую вспомнили, нашли в толпе пассажиров и которой пришлось выйти и ждать на жаре следующего автобуса.
У Иры хватало самоиронии, чтобы рассказать нам по приезде эту историю без особой жалости к себе. Вообще у нее было исключительное чувство юмора и потрясающая память на анекдоты. Как-то мы поехали с ней в Ленинград дневным поездом. С небольшим перерывом на чай – бутерброды, она без устали делилась со мной энциклопедией анекдотов, а когда мы уже сошли на перрон и Ира увидела встречающую нас ее тетку, она быстро сказала:
– Пока тетя Муся не подошла: в поезде едут…
Я вела какие-то разработки, боролась с браками (кстати, главный инженер завода научил меня правилу, которое верно в любом производстве: если тебе кажется, что ты знаешь причину брака, сумей получить его искусственно). За те несколько лет, что я дорастала до внедрения новых сплавов, я поборола много браков и приобрела определенный авторитет на заводе. После этого у меня возникла уверенность, что ценность работника видна объективно, потому что меряется количественно, и это придает независимость от чьей-то любви или нелюбви. Однако я с этой уверенностью и ложным ощущением независимости вскоре серьезно обожглась, работая на кафедре, где каждый виден только одному высшему начальнику – заведующему кафедрой и целиком зависит от его восприятия.
Важный вывод, к которому пришла и который несу в себе всю жизнь, потряс меня, когда уже после написания отчета, из-за которого меня взяли на работу, я стала изучать многочисленные черновики моей заболевшей и впоследствии умершей предшественницы, руководившей до меня проектом по предотвращению хрупкости вольфрама. Я взяла за основную посылку рост зерна и стала оптимизировать отжиг, прогнозируя температуру рекристаллизации методом внутреннего трения, и достигла определенного улучшения.
Как выяснилось, моя предшественница, химик по образованию, напротив, делала много экспериментов по влиянию примесей в газовой атмосфере при окончательном отжиге покрытых алундом подогревателей. Кто знает, дала бы эта гипотеза дополнительное улучшение или была бы доминирующим фактором, – главным для меня было, что все делалось бы по-другому, и открывшаяся неправда утверждения, что незаменимых нет. Мне хотелось не просто утверждать, хотелось кричать, что все люди незаменимы.
Иофис
Главным инженером завода «Эмитрон» и ОКБ при нем был Наум Абрамович Иофис, совершенно необычный человек. Когда я увидела его впервые, ему было пятьдесят лет, незадолго до этого он получил Государственную премию и защитил кандидатскую диссертацию, был автором не просто более ста изобретений, но и практически всего оборудования, которое работало или планировалось к работе на заводе.
Поскольку это было продолжением некоторых его начинаний, позже вместе с ФИАНом и сотрудниками академика Прохорова он освоил выращивание фианитов (цирконатов) и придумал целый ряд оригинальных применений этих кристаллов с уникальными свойствами, за что получил в 1980-м Ленинскую премию.
Начальником он был очень оригинальным. Дверь в его кабинет никогда не закрывалась, секретарь Тамара не служила контролером расписания, и зайти в кабинет мог практически любой. Однако попытки односторонних жалоб (например, со стороны кого-то из начальников цехов) были безнадежны. Стоило кому-то из начальников цехов начать:
– Меня подводит Кричевский…
– Тамара, вызови ко мне Кричевского…
Появлялся Кричевский.
– Теперь начни с начала, что собирался сказать.
Все были готовы к такому развороту событий, это было результативно и экономило время.
Когда я впервые прочла рассказ И. Грековой «За проходной», я была уверена, что ее Чиф написан с Иофиса. Как правило, он не давал прямых ответов, а рассказывал притчи, анекдоты или цитировал классиков.
Мог сказать застрявшему у него в кабинете гоголевское:
– Ну что же ты стоишь, братец, ведь я тебя не бью.
В хорошем настроении любил розыгрыши, часами ходил по корпусам завода, беседовал одинаково на равных с начальниками и рабочими (вернее, работницами, которых было большинство).
Как-то послали меня для участия в комиссии в Новосибирск: искали причину поломки вольфрамового подогревателя (хрупкость вольфрама была и темой моей диссертации). Наличие разрушенного подогревателя в одной из ламп сбитого во Вьетнаме самолета было не совсем удивительно, но искали виноватого в том, что самолет все-таки упал. Я пришла к Науму Абрамовичу за инструкциями к возможному поведению.
Его иносказательная рекомендация вошла потом в фольклор моей черметовской лаборатории.
– На киностудии ищут каскадера, который должен прыгать с небоскреба. Приготовили страховочные стропы, батуты, оговорили большой гонорар. В качестве добровольца вызвался еврей, залез на крышу, посмотрел на все вокруг и заявил: «Об спрыгнуть не может быть и речи, об слезть мы можем договориться». Вам понятно, Нина Михайловна?
Другой стратегически установочной притчей стал впоследствии широко известный анекдот про заседание кнессета в Израиле по вопросу радикального улучшения экономического положения страны. Бракуются все предложения, пока не возникает блестящая идея объявить войну одновременно СССР и США:
– Они нас победят, разделят, и каждая будет помогать своей зоне.
Все возбуждены, обсуждают детали: когда начинать, когда сдаваться, какая часть отойдет к США, и только Рабинович тянет руку. Все от него отмахиваются, но он упорен:
– Ну что у тебя?
– А если мы победим?.
Как потом неоднократно оказывалось, быть готовым к победе совсем не гарантировано.
Когда нас переводили из старого здания на Щербаковской улице, нас перевезли не просто в Черемушки, а в уникальное герметичное кондиционируемое здание из бетона, стекла и алюминия. Разделенные стеклянными стенами цеха с высокими потолками были насквозь прозрачными, всё здание по определению просилось в образцово-показательное, а на дворе был 1967-й год, юбилей революции, приехали самые высокие гости из всех стран, и им нужно было что-то показывать.
На нас пришлись руководители Болгарии и ГДР, то есть Георгий Живков и Вальтер Ульбрихт с Вилли Штофом.
Все они говорили по-русски, переводчики не требовались, но специальные люди в штатском по несколько раз выверяли запланированные маршруты высоких гостей, которым предстояло подниматься по лестницам, спускаться в туннели. Особенно тщательной была проверка регламента германской делегации: боялись эксцессов.
Мне принадлежала очень высокая лабораторная установка, которую из-за размеров (не влезала в комнату) разместили в цехе. Она была под три метра высотой и привлекала внимание. Я стояла рядом на страже, но взглянув на лицо Живкова, Иофис стал лепить бессмысленное сочетание громких слов, считая это достаточным усилием:
– Это молекулярный резонатор…
Прекрасно сошло.
Назавтра были немцы, и краткое, но более точное пояснение доверили мне. Я была в своем белом халате и по привычке сунула руки в карманы. Какой-то из сопровождающих искусствоведов проговорил мне в ухо:
– Девушка, выньте руки из карманов.
Я немедленно их выдернула, но Штоф смотрел на меня с явной симпатией, разговор затянулся, я, забывшись, снова втянула руки в карман и тут же почувствовала крепкое сжатие запястья правой руки. Слова были не нужны: если бы в ней был пистолет, он бы обязательно выпал.
Гости прошли через завод и поднялись на широкую лестницу одного из цехов, откуда митинг должен был виден всему заводу. Ульбрихт стал вспоминать, что во время войны он жил в России, когда казалось, что и женщин нет, а сейчас появились и выросли симпатичные девушки. (Я даже подумала, что он вставил эту ремарку после общения со мной).
Формовочные автоматы продолжали работать, но какая-то из работниц засмотрелась, поскользнулась и выронила бутыль с эмульсией, содержащей ацетон. Та потекла под центрифугу с искрящимися клеммами, пламя вспыхнуло до потолка, охватив работницу, которая только что выпустила бутыль. Её, как положено, тут же укутали одеялом, помешав инстинктивному порыву бежать, куда глаза глядят, но Иофиса вызывали куда-то не один раз давать объяснения, почему пожар возник на том месте, где за пять минут до этого проходила высокая делегация.
Однако, несмотря на огорчительное происшествие, встреча и рукопожатия со столь высокими людьми дали мне повод разыгрывать Мишу, что в ГДР выйдет почтовая марка с изображением Ульбрихта, жмущего мне руку.
Через год я защитила диссертацию (Иофис дал разрешение нескольким молодым инженерам поступить в заочную аспирантуру). Когда я вернулась после защиты на завод, увидела на стене перед дверью нашей группы «Даёшь докторскую!».
После обеда зашел Наум Абрамович, поздравил, но я услышала в его голосе некий скрип:
– Конечно, Нина Михайловна сделает докторскую, но это произойдет не вдруг.
Назавтра он вызвал меня к себе.
Докторская диссертация Иофиса
Я догадывалась, что речь пойдет о его собственной докторской диссертации. Завод много делал прогрессивного в области металлургии, сам Иофис стимулировал применение новых сплавов и приобретение уникального оборудования для обеспечения их высокой чистоты, привлекались вузы и Институт металлургии АН СССР. Нужно было придумать, как все получаемые результаты объединить под одной обложкой и его именем. Меня сама идея вдохновила. Раз Иофис собирается делать докторскую диссертацию, он будет поощрять исследовательские проекты, которые принесут некие новые фундаментальные знания.
Со временем я стала большим мастаком разрабатывать планы-оглавления будущих диссертаций, но это была одной из первых попыток. Было ясно, что уже есть и что надо доделывать. У меня накопилось много и текущей работы, и приходилось таскать домой экспериментальные данные, полученные в районе «белых пятен» планируемой диссертации, составлять таблицы и графики. Наум Абрамович остро и быстро оценивал прогресс, ставил новые задачи. Примерно через год я принесла ему черновик потенциального «кирпича», и тут произошло роковое непонимание.
Иофис взглянул на папку с текстом, полистал, подержал её «на вес» и произнес роковое: «Запускайте в печать». Я аж подпрыгнула. Автореферат моей кандидатской правился десять раз, текст готовой диссертации полностью перепечатывался дважды, а тут автор даже не хочет редактировать текст, за который должен отвечать. Слишком свежи были во мне нормы поведения диссертантов, обычных, надо сказать, диссертантов.
– Тогда я оставляю эту папку вам и больше к ней не прикоснусь.
Возмущению Иофиса не была предела.
– Вы пользуетесь тем, что вы монополистка в этом вопросе и никто, кроме вас, помочь мне не может.
Действительно, вокруг было много химиков, электронщиков, но нужным металловедом была я одна.
Я была непреклонна в моем понимании того, как диссертант должен работать над собственной диссертацией. На дворе был декабрь, в марте мне нужно было сдавать большой отчет:
– Я доработаю до конца марта и уволюсь.
Так закончились мои почти семь лет работы на заводе «Эмитрон» и, казалось, дружба с этим незаурядным человеком.
Легко было объявить, что я ухожу, но мне даже не виделось, как я могу найти работу. После защиты мне часто думалось о переходе в научную организацию, в среду исследователей, научных сотрудников. Однако, хоть на заводе я считалась всего ведущим инженером, но с надбавкой в 50 рублей за кандидатскую степень и заводскими премиями я получала больше, чем старший научный сотрудник в любом институте. При моей фамилии и беспартийности найти подобающее место и зарплату было сильно непросто, однако везенье и совпаденья помогли, и я с конца марта начала работать в Московском вечернем металлургическом институте.
Мы с заведующим кафедрой Константином Захаровичем Шепеляковским оба пришли в институт с заводов. Остальные преподаватели даже не подозревали, что такое промышленность, читали лекции по пожелтевшим кажущимся довоенными конспектам, мысль о каких бы то ни было инновациях была им странна и чужда.
Я периодически заезжала на Эмитрон, продолжала там некие эксперименты. Однажды во время моего визита в комнату моей бывшей группы позвонил Иофис:
– А что, Нина Михайловна боится, что уже и не пройдет в двери моего кабинета? Пусть заходит.
Мы встретились, как будто не было ссоры и моего хлопанья дверью. После сравнения Иофиса с преподавателями кафедры МВМИ мне стало стыдно, что я отказала в помощи человеку, на котором держится многопрофильный завод и которому просто некогда записывать и зарисовывать то, что он придумал и продумал.
Все началось снова и потребовало еще пару лет.
Когда дело приблизилось к финишу, Наум Абрамович приходил к нам домой (благо мы жили симметрично близко по обе стороны Ломоносовского проспекта) и часами задавал сам себе вопросы и спорил со мной насчет ответов.
Когда он дошел до защиты, ему было 60 лет. Не утверждаю, что помню все детали защиты, но речь Федорова, тогдашнего заместителя министра электронной промышленности, приехавшего поддержать Иофиса, врезалась в память навсегда.
– Я знаю Наума Абрамовича более 30 лет. И, пожалуйста, представьте, что он, при его фамилии (он сказал это с откровенным нажимом), стал главным инженером и им оставался (при всех известных вам перипетиях) с двадцати девяти лет лет. И всегда он брался за новые задачи и выполнял их. В войну он наладил выпуск радиоприемников, потом радиоламп к ним, первым взялся за производство полупроводников, потом лазеров. Все передовое, где он достигал успеха, передавали другим производствам, а перед ним ставили новые задачи или он сам придумывал их.

Наум Абрамович (слева) получает очередной диплом.
Наум Абрамович умер в 2010 на 98-м году жизни, посвятив последние 30 лет новым направлениям в медицине, в частности применению фианитов в офтальмологии. Работая с кардиологами, создал (и довел до промышленного производства) оригинальные искусственные клапаны сердца, инициировав создание экспериментально-производственного предприятия Роскардиоинвест, где был научным руководителем. Знаю, что клапаны МИКС (Московский искусственный клапан сердца) имплантированы многим десяткам тысяч человек.
Пока мы были в Москве, контактировали часто, позже навещали его и из Штатов. Каждый раз Наум Абрамович удивлял нас отличной памятью на имена и даты, широкой эрудицией, как всегда подшучивал над другими и над собой.
И я рада, что мне удалось помочь этому выдающемуся человеку преодолеть одну из ступенек важного для него самоутверждения.
Болгария и Марк Розовский
Часто жизнь сталкивала меня с широко известными людьми совершенно случайным образом.
В 1970-м в шумной компании познакомилась в командировке в Ленинград с Сашей (Самуилом) Лурье, тогда начальником отдела прозы журнала «Нева», позже с известным эссеистом, с которым изредка виделись в России (забегада в редакцию «Невы», когда бывала в Лениграде»), а когда возникла электронная почта, поддерживали эпистолярный контакт до его смерти. После нашего отъезда видеться не удавалось, но Саша ухитрялся пересылать его острые книги «Железный бульвар», «Такой способ понимать», «Нечто и взгляд», всегда с самыми теплыми надписями, или я скачивала их с Интернета как «Архипелаг Гуляк», «Листки перекидного», «Муравейник».
В марте 1974-го мое место в самолете в Ереван оказалось рядом с Александром Пумпянским, будущим главным редактором журнала «Новое время», тогда ответственным секретарем «Комсомольской правды». Уже посадив в самолет, нас долго не отправляли. Мы разговорились, Александр нервничал, потому что его друзья в Ереване готовили к его приезду любимый хаш. Через несколько дней мы опять встретились в Цохкадзоре и продолжали контактировать в Москве.
В 1967-м каким-то образом получилось, что меня послали в Болгарию, одну с «Эмитрона». Не было никаких объявлений, никто не собирал заявлений. Просто сказали оформлять паспорт и сдать деньги. Наверно, так попало по разнарядке. Как позже шутил про разнарядки Павел Лазарев, биолог из Пущино (в то время уже венчурный капиталист из Сан-Франциско):
– Допустим, по разнарядке нужна доярка, окончившая техникум, с двумя детьми и непьющим мужем. Конкурса быть не может. Таких всего одна.
Мне повезло, и я оказалась такой незаменимой дояркой. На всю оставшуюся жизнь сохранилось впечатление, что все болгары – красавцы. Было видно, что они очень неплохо относятся к русским, однако постепенно прорезалось:
– Мы любим Россию, помним про Шипку, но зачем на каждом заборе и большом здании напоминать, что Болгария и СССР – братья навек, что СССР – …?
Ехали параллельно несколько групп из разных республик Союза. В Софии были общие встречи, и в одной из групп я увидела широко известного любителям КВН Алика Аксельрода, который многие годы возглавлял команду медицинского института, уступив позже свое капитанство Грише Горину. Он был в неизменном обществе какого-то парня. Когда разговорились, обозначив общих знакомых, я спросила:
– А этот тоже? (Имелась в виду причастность к лицам общего круга).
Алик ответил:
– Еще больше. Это Марк Розовский.
Действительно, хоть его тогда еще не показывали по телевизору, имя было уже широко известно. Мое знакомство с Марком началось с его обиды, потому что мне в голову пришел его недавний фельетон в «Литературке ««С кого вы пишете балеты?». Оказалось, что я попала в больную точку, потому что большую часть им предлагаемого не печатали, как потом и не ставили в театрах, выбирая самое беззлобное и, на его взгляд, самое безликое.
Поездка была длиной в две недели, и мы подружились, много разговаривали. При легком подпитии Марку нравилось эпатировать окружающих, появляясь, например, без рубашки с завернутыми наполовину джинсами в самом центре Софии. При этом он грозил:
– Если вам за меня стыдно, вы не мои люди.
В международном молодежном лагере в Приморско праздновали День Нептуна. В бальный зал нельзя было войти, не «сыграв» свой костюм. Марк режиссировал несколько групп. Казахи спрятались под простыней, изображая «корабля пустыни «– верблюда, на котором сидела полуобнаженная красивая девушка со Спидолой в руках, что отражало движение в современность. Наша группа вышла с бумажными душами и песней «А без воды… и не туды и не сюды…», потому что в бунгало, расположенных ближе к вершине холма, вода не поступала. Марк придумывал быстро и весело.
В Варне они с Аликом навещали Василия Аксенова, который жил в то время в местном Доме творчества. Пришли, восторгаясь его дисциплиной и работоспособностью: Аксенов проводил каждый день обязательное число часов за «писанием». Принесли от него какие-то деньги и с четким указанием только проесть или пропить отдали нам (они назавтра уезжали) со строгим запретом тратить на шмотки.
Розовский в это время был одновременно директором и режиссером театра-студии при МГУ «Наш дом». Как выяснилось, директорство (администрирование), за которое ему дополнительно к 60 рублям за должность главного режиссера платили еще 30, отнимало у него кучу времени. Неизвестно почему (большая часть нашего общения проходила на пляже) Марку с Аликом пришло в голову, что я могла бы быть удачным директором. Они так серьезно развивали эту мысль, что и я загорелась и поверила, что смогу сочетать работу, переводы, аспирантуру и восьмилетнего уже Мишу с параллельной работой по вечерам.
Юра, как всегда, меня поддержал, но мы на минуточку забыли про маму. Репетиции в «Нашем Доме» заканчивались только под угрозой закрытия метро. А мама никогда не засыпала, пока все не собирались дома. Мое первое участие в вечерней репетиции оказалось и последним. Марк все понял, я ходила на все его спектакли и дневные репетиции, часто брала Мишу с собой. Мой ребенок заставлял повторно смеяться весь зал, когда выдавал громкий детский хохот в двусмысленных местах, которые понять явно не мог.
Вскоре в качестве директора появился Семен Фердман, будущий Фарада, выпускник МВТУ, который присоединился и к актерам.
Труппа искрила талантами: Александр Филиппенко, Михаил Филиппов, Илья Рутенберг, Петр Точилин, со вставным номером выступал ученик циркового училища Геннадий Хазанов.
Пару лет прошло с переменным успехом. Марк успешно репетировал у Владимирова в Ленсовете «Мистерию Буфф» (Алиса Фрейндлих ждала ребенка, и можно было думать о спектакле без нее в главной роли), но искусствоведы революционной столицы спектакль не выпустили.
В МГУ успешно шли «Мы строим наш дом», «Пять новелл в пятой комнате», но очень острое Кирсановское «Сказание про царя Макса Емельяна», где, в частности, Филиппенко был блистателен в роли Смерти, вызвало яростное сопротивление «искусствоведов», а после буквально нескольких (если не одной) постановок «Из реки по имени факт» в 1969-м театр закрыли. («В Чехословакии тоже все началось с театра»).
Спектакль был действительно еще более острый, яростно ехидный. Цитаты из Зощенко (с левой стороны сцены) насмерть развенчивали как бы блистательные факты победы социализма, декларируемые с правой стороны, но зал в тихом восторге оценивал смелость все это проговорить, как и возможность это слышать. Знаю, что на заседании соответствующего «органа», принимающего решение о закрытии театра, Марк взывал, что им будет стыдно, как исключающим Солженицина из Союза писателей, – не помогло.
Какое-то время Марк искал «приемных родителей», пробуя Дом ученых, отраслевые клубы. Ставил далеко от Москвы нашумевшие спектакли как «Убивец» в Риге, позже «Холстомер» в БДТ (он мне рассказывал лично, как Товстоногов тонко устроил «изъем» его авторства, что позже я прочла в подробностях и в его книге).
Вначале студию пригрели в Доме медицинских работников, потом появилась перспектива Театра у Никитских ворот, который много лет оставался заветной морковкой и долго перестраивался, в то время, как все поклонники, включая нас, ездили на Войковскую в «Лебедь».