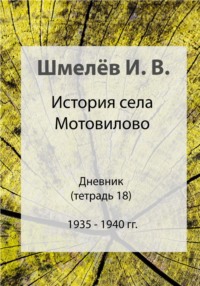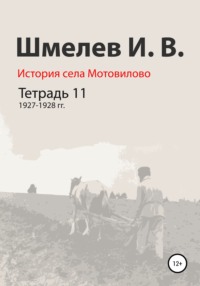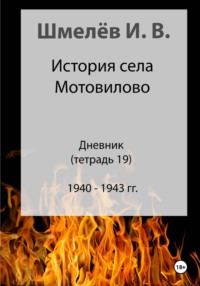полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 9 (1926 г.)
В два счёта доехав до загона с поспевшей рожью, семья, разобрав серпы с телеги, не дожидаясь хозяина, когда тот распрягал лошадь, выстроившись во всю ширь загона, приготовились ринуться сокрушать серпами стеной стоявшую густую, колосистую рожь. Василий Ефимович, распрягши Серого и привязав его к телеге к накошенному на ней клеверу, вооружившись серпом во всеуслышание, провозгласил:
– Ну, с Богом, начинайте, а руками кончайте!
И жнецы, блестя серпами на солнце, пошли в наступление на рожь. К правой меже (как по обычаю) встал сам хозяин, левую по традиции обжинать встала хозяйка Любовь Михайловна. Рядом с отцом вяловато орудовал серпом Санька, рядом с ним Минька с Анной, а рядом с матерью Манька. Сплошным, колыхающим на ветру морем, стояла перед жнецами спеющая рожь. Жнецы серпами податливо укрощали волнующее ржаное поле. Горсть за горстью захваченные стебли, подрезали серпом, горсть за горстью, подрезанная золотая рожь, укладывалась в небольшие кучки, из которых могучими и ловкими руками, увязывались снопы. Снопы стаскиваются на середину загона десятками и ставятся бабками в виде нахлобучек, попов и крестов. Под ногами жнецов, обутыми в традиционную крестьянскую обувь – в лапти, безжизненно шуршит колючая жнива. Низовой ветерок, колыша соломенные пеньки, тихо свистит в полупустых стебельках жнивья.
Не подражая людям, не торопясь с выездом на жнитво, в этот день Трынковы собирались в лес на сенокос, который они не успели закончить вместе с людьми.
– Прасковья! Вставай, затопляй печь, готовь завтрак, а я за лапоть возьмусь, доплетать засяду, а то никак доплести не могу: то за делами, то кто-нибудь меня от дела оторвёт.
Так будил в этот горячий деловой день Иван Трынков свою Прасковью. Неторопливо ведёт себя в делах Иван, всю жизнь он живёт, придерживаясь русских мудрых пословиц: «Работа не волк, в лес не убежит!», «Солнышко садится, лентяй веселится!». А на критические замечания мужиков, которые удивляясь его нерасторопности в делах по хозяйству, пытались поучать его, он хладнокровно и невозмутимо отвечал: «Если слушать хорошего чужого ума, тогда свой плохой-то, куда девать?!»
И мужики отступали.
– Да лепёшек больше напекай, чтобы с собой их в лес взять, – наказывал Иван встающей с постели широко разинувшей в виде раскрытого кошелька рот в позевоте, Прасковье.
– Как ведь говорится: «Едешь в лес на день, бери хлеба на неделю!» – с деловитостью добавил Иван. – И на самом-то деле, плох обед, когда хлеба нет! Вот ты боишься лепёшек побольше напечь.
– Муки-то ни мучинки нет, третьеводни из ларя всю муку выскребла, – известила хозяина хозяйка о наличии муки.
– Ну ты, Прасковья, тогда вот ты, что вместо хлеба-то мясца с собой побольше захвати.
– И мясо-то всё вышло.
– Всё не всё, а по случаю заканчивания сенокоса сколь-нибудь, а изыщи!
– Что я тебе от своей ляжки отрежу что ли? – козырнула раздасованная Прасковья.
– Ну, ладно, не горюй, Прасковьюшка, вот закончим сенокос, на жнитво поедем, нежнём, намолотим, намелем и хлеба с лепёшками напечём, тогда ешь – не хочу! Мечтательно улыбаясь, успокоил он Прасковью.
Иван, запрягши свою кобылу в телегу и усадив в неё Прасковью, двинулись в лес на луга за последним возом сена.
– Ты, чай там, в лугах-то, пока косил, не всю росу с травы-то сбил, чай и для меня оставил? – смутил Трынков.
– Оставил, оставил, – она ещё не вся пообсохла, – ответил Василий.
Савельевы в поле на жнитво уехали все способные владеть серпом. Для первого благословенного для начала жнитва, в поле поохотилась поехать и сама хозяйка Любовь Михайловна, оставив годовалого ребёнка Никишку на попечение бабушки Евлиньи. Ваньку в первый день жнитва в поле не взяли, его оставили дома присматривать за братишками, Васькой и Володькой, и вообще за сохранностью дома. Уезжая в поле, мать наказала Ваньке с Васькой выполоть гряды, натаскать с озера воды и нарыть на усадьбе картошки и намыть её. Выполнив все задания с утра, Ванька властно приказал своим младшим братьям неотлучно сидеть дома, а сам собрался с товарищами Панькой и Санькой на озеро купаться. Бабушка Евлинья, принимаясь укладывать Никишку спать, вслух рассуждала сама с собой:
– Ребёнок что-то куксится, видно, спать хочет. Надо его положить в зыбку. Ты баиньки хочешь? – обратилась она к несмышлёному Никишке. – Иди-ка я тебя бай-бай уложу и сказку про волка расскажу.
Ребёнок не особенным желанием хотел одиноко лежать в колыбели, закапризничал, завозился.
– Лежи, лежи, а то вон бука тебя съест! – постращала бабушка ребёнка.
– Бабка, ты его совсем застращала, он бояться будет! – с сожалением к братишке заметил Ванька, выходя из дома на улицу, где его поджидали друзья.
Из избы слышалось мерное покачивание колыбели, подвешенной на пружине к потолку в верхней избе. Бабушка, укладывая ребёнка, нарочито изменив голос и сделав его грубым, припугивала Никишку:
– Спи, спи, а то баба-яга тебя заберёт, в сумку посадит. Спи, спи, бай-бай, бай-бай, – мерно повторяла она.
На озере ребятишки в первую очередь до озноба в теле выкупались, а потом принялись за забавы. Тёплый, знойный день способствовал детским развлечениям, надолго удерживал беззаботную детвору на улице.
В жаркий, пышущий зноем июльский день, редко кому не хочется искупаться в тёплой воде озера: Санька Лунькин, 26-летний холостяк, здоровенный, как боров, видимо, вылезши дома из-за станка, раздевшись на берегу и обнажив своё мохнатое, как у медведя, тело, с разбегу бултыхнулся с мостков в воду. Он долго не появлялся из воды, а оптом, вынырнув, его бритая голова показалась около лопухов жёлтой кувшинки в метрах двадцати от мостков.
– Санька, а тебе не донырнуть вон до тех цветков белой лилии, – кто-то подзадоривал его с берега.
– Санька, а ты чирни-мырни, да и не вынырни! – шутливо кто-то предлагал ему.
А Санька, не обращая ни на кого внимания, широко взмахивая руками и издавая целый каскад брызг, поплыл на середину озера и вскоре доплыл до одинокого видневшегося островка, откуда слышался задорный утиный кряк и гусиное гоготание. Пообсохнув на островке, Санька приплыл на середину Хорева Пруда.
– Санька, а ты вставай ногами, тут не глыбко!
Санька, послушавшись, опустился и вскоре всплыв, буйно затряс головой освобождая от воды голову.
– До дна никак не достал, знать, тут глубоко! – отозвался из воды Санька.
Заметя полоскавшую бельё на мостках смазливую Тоньку С., Санька мигом очутился около неё. Он своими лапищами разъярённо сграбастал её, и у всех на глазах людей, которые были на берегу, хотел увлечь с собой в воду. Тонька, размахнувшись намоченными Николаевыми штанами, обороняя себя, со всего размаху ошпарила Саньку штанами, от чего у Саньки пропал пыл и озорство.
От слабого дуновения ветерка по поверхности озера разгуливается мелкая зыбь. Солнце, играя, отражаясь от воды яркими бликами, режет глаза. От поверхности воды еле заметно, лениво тянется дымчатая испарина. В озере гуляя, трепещется рыба, отчего на поверхности воды зыблется серебряная чешуйчатая россыпь. В ясном небе, задорно твизикая, над озером кружились стрижи, резвясь летают ласточки. Летя над самой поверхностью озера, желая выкупаться, ласточки своим тельцем, приняв форму фигурки, слегка касаясь поверхности воды, купаются. Панька, наблюдая за полётом стрижей, заметил, как один, вцепившись в конёк крыши, стоявшею на берегу озера, амбара, скрылся в щели. Недолго думая, Панька по углу амбара полез на него с целью достать и овладеть стрижом. У Паньки дьявольская ловкость и, как у обезьяны, цепкость в руках. Чудом держась у самого конька амбара, который, находясь у самого озера, причудливо отражался в воде вниз крышей; в воде отражённо видна была и красная сатиновая рубаха Паньки. Панька в зубах держал прутик, которым он намеревался вышугнуть стрижа. И тут произошло непредвиденное: только было он из зубов взял рукой этот прутик, как другая рука, не выдержав, сорвалась, и Панька, к великому наслаждению в смехе наблюдающей за ним публики, шлёпнулся в воду. Оправившись от удачного падения и выжав досуха рубаху и портки, Панька искал, чем бы ещё заняться. Около тростников он заметил беспризорно плавающую чью-то лодку, он, мигом добравшись до неё и вооружившись доской вместо весла, сказал:
– Ванька прыгай сюда в лодку!
И они поплыли вдоль тростников на середину озера. Сзади лодки, плюхая, плескалась вода. В стороне, погрузив голову в воду, доставал чего-то со дна долгошеей серый гусь. На середине озера, среди лопухов и цветов жёлтой кувшинки, слегка раскачиваясь, плавала полузатонувшая кадушка; видимо, выскользнувшая из-под мостков, кем-то принесённая на озеро для замочки. Из густых зарослей тростника и палочника, вымахавшего к этому времени лета в человеческий рост, слышалось лягушечье кваканье и неугомонно торопливая песенка птички камышёвки-барсучка. Окрайки плавучих тростников, обросшие пахучим трилистником, зыбко качаются от волны порождаемой движением лодки. В глубине воды Ванька разглядел растущие на дне разнообразные водоросли: корневища жёлтой кувшинки и паукообразные растения телореза. Прибрежная вода, из-за теплыни её, покрыта буйной порослью осоки, разнообразной водяной травы и стрелолиста. Не обнаружив ни одной чужой «морды», из которых можно было бы поживиться уловом рыбы – карасей, Панька с некоторой досадой, угребаясь доской, направил лодку к берегу. Не доплыв до берега, саженей десять, Панька принялся, раскачивая, болтыхать лодку с коварным намерением затопить её, и вынудив Ваньку измочиться в воде. Наполнившись водой, лодка стала постепенно грузнуть и грузнуть и совсем затонула под тяжестью ребят. И они оба по шею ухнулись в воду. Обругав Паньку, Ванька не в меру напугавшись, до берега добрался вплавь. Взбаламученная прибрежная вода пузырилась, лёгкая волна, взбитая ветерком, тихо шепча, смачно целовала берег. Обсыхая на солнышке, на берегу Ванька, вспомнив о доме, вскочил с прибрежной травы, вскачь побежал домой.
Из верхней избы разносился детский закатистый плач. Видимо, от надоедливо кусающих мух спящий Никишка сначала испуганно во сне отмахивался, а потом, захныкав, завозился, колыбель судорожно затряслась, и он взвыл от боли. Разбуженная от дремоты бабушка Евлинья, тут же вскочив с дивана, доскочила к зыбке и, приговаривая уёмные слова, принялась его уговаривать и успокаивать, чтоб он не плакал, усиленно качая колыбель на пружине. А Никишка, наревевшись вдоволь, успокоившись, долго, обидчиво всхлипывая, видимо соскучившись, вспоминал об отсутствующей матери.
А в поле в это время жнецы, изнывая от духоты и жарищи, напористо наседали на волнистое море ржи. В зное и духоте, перекипая, томился день: ни тени, ни малейшего дуновения ветерка. Небольшое облачко, одиноко застрявшее в зените, нудно изнывая, остановилось и ни с места. Но по мольбе жнецов всё же свалилось к югу и вяло наплыло на солнце, загородив на время палящее его лицо. Жнецы облегчённо вздохнули, ощутив на разгорячённых телах своих приятную прохладу тени. Но эта прохлада тешила людей не долго; облачко плавно переместилось к юго-востоку и снова жарень, зной – дыхнуть нечем. По спине чутко струится пот, всё тело обнимает неприятная липкая мокрядь – хоть выжимай. Безветрие не осушает мокрющие от пота спины. От жарищи во рту горьковатая сухмень. Снять рубаху и жать без неё нельзя, – тут же спалишь спину.
– Ну и денёк выдался сегодня! – припадая ртом к бочонку с холодным квасом, промолвил Василий Ефимович.
– Денёк хорош! Нечего сказать, весь день с утра на небе появлялось не больше пяти облачков, – поддержала его и Любовь Михайловна.
– Квасок-то хорош, только молод, видать ты не дала ему как следует выкиснуть, – с подсосью, вытирая усы рукавом рубахи, хвалил Василий Ефимович квас.
– Я его и так два дня квасила, должен выкиснуть, – оправдывалась Любовь Михайловна.
– Вон, слышь, вчера в Пустыни и дождик сильный был, – сказала она. – Так они говорят, молебствовали с явленной иконой «Успение»! Эх, и нам бы помолебствовать, сходить бы в Пустынь за «Успением», или в Оранки за иконой «Владимирской»!
– Да, бают, ушли в Оранки-то!
– Ну-у, а я и не слыхала!
– Значит после жнитва помолебствуем. Как дожнём этот загон, переедем к Колодезю, там у нас широченный загон с пол десятины будет, там и обедать будем, а загон около мокрой грани, пусть дозревает, там низина! – советуясь с хозяйкой, высказался Василий Ефимович.
– Вы обедать-то куда собираетесь ехать-то? Мы – к Колодезю, а вы? – спросил Василий Ефимович Шабра Ивана Федотова, дожиная первый загон ржи.
– Мы у Колодезя-то уже выжали, поедем к Коровьему болоту, там и обедать будем! – отозвался Иван.
Переехав к Колодезю, Савельевы для обеда расположились на лугу в тени развесистого вяза. Невдалеке тут же обедали Крестьянковы. Присаживаясь к столешнику, на котором были разложены ложки, чашки, хлеб и остальная продукция, Василий Ефимович набожно перекрестился на крест над часовней колодца, его примеру последовала и Любовь Михайловна, перекрестились и остальные жнецы. С незапамятных древних времён и неизвестно, кем построенная часовня над колодцем, бессменно стоит на поляне среди кустов орешника. В дождь и в зной, благодарственно и гостеприимно укрывает она людей от капризов природы. В стороне от часовни стоит покосившийся от времени крест-памятник человеку, погибшему здесь от молнии во время дождя. Посреди часовни вырыт неглубокий колодец с источником холодной воды. Ежегодно во время молебствия сюда стекается множество богомольного народа с иконами и хоругвями. Здесь служатся молебны о ниспослании дождя в засушливое время, с выходом «на межу» …
Савельевы, начав обед, сперва ели крошево: огурцы с квасом, а потом ели пироги с морковной начинкой, прихлёбывая топлёным молоком, а наверсытку съели по куску варёного мяса, привезённого из дома.
– Василий Лаврентьевич! Вы чай, сколько нажали на этом конце-то? – поинтересовался Фёдор у обедавшего во главе своей семьи, тут же, одного мужика, жителя улицы Слободы.
– Без двух снопов тысячу! – наивно, с простотой, но с арифметической точностью, без задержки ответил Лаврентьевич.
– Ну и мы, наверное, столько же нажнём, у нас ширина-то загона такая же, как у вас, – удовлетворённый ответом, отозвался ему Фёдор.
– Скорее разобедывайте, рожь-то перестоится, отсорится! – прикрикнул Василий Ефимович на семью первым поднявшийся от места обеда. – Расселись и целый уповод разобедываете, как век не едали. Пока рожь стоит, надо жать, а не рассусоливать!
– Не даст как следует пообедать! – злобно, но притаённо проворчал на отца недовольный Санька.
– Ты чего там бурчишь? Или пырнуть чем-нибудь в пузо-то и будешь знать, как огрызаться в деловую пору! – злобно обрушился отец на Саньку, наблюдая, как от села Ломовки замолаживает; отдельные облачка, собираясь в одну синеватую тучку. Закончив с обедом, и для первого дня зажина, не отдохнув, Савельевы с серпами в руках приступили укрощать второй загон ржи. Не прошло и получаса, как дождевая туча, настойчиво надвигалась на поле, где жали Мотовиловцы. Огненный хлыст блеснувшей молнии, полосуя, пронзил тучу от неба до земли. С угрожающим, оглушительным треском лопнули обручи невидимого небесного чана, осколки его разлетелись в разные стороны и вода хлынула на землю ливнем. Крупный, ядрёный дождь больно захлестал по спинам наклонившихся над серпом жнецов. Жнецы побросали серпы, побежали скрываться от дождя под телегу и под десятки, сложенные из снопов.
– Пап! А ты иди скорее, что мочишься! – окликнула из-под телеги Манька отца, который, уминая коленкой, довязывал сноп.
– Ну как вас тут под десятком-то не замочило? Он вон какой приурезал, – ныряя под десяток, где, спасаясь от дождя, сидели Минька с Санькой, а бабы попрятались под телегой.
– Только бы ржи не было, а то дождик сквозь солнышко всегда ржой на землю садится, огурцы портит. А бают, такой-то дождик грибной бывает.
– Эт, когда как, когда грибной, а когда огурцы губит!
– Эх, мне за шиворот капнуло! Вон, гоже матери-то да Маньки с Анной, на телеге-то кожа, она не пропускает.
Лошадиная кожа, выделанная сыромятью, разостланная в телеге, засохнув, приняла сферическую форму, спасает от дождя, как крыша. Крупные дождевые капли, тупо и угрожающе стуча о кожу, и звуча, как о барабан, собравшись в потоки, сливаются с кожи, не моча спасающихся от дождя, прятающихся под телегой. Дождь собрался быстро и утих внезапно. Жнецы, выбравшись из укрытий, блаженно потягивались, расправляя затёкшие руки и ноги, разгибали спины.
– Ну и дождик силён был! – вылезая из-под телеги, проговорила Любовь Михайловна.
– Да, нечего сказать, дождичек, так дождичек! – отозвался Василий. – А с чего он взялся?
– Да почти ни с чего, маленькое облачко вдруг засинело, вот и дождик народился! – вступил в разговор, вышедший из укрытия колодезя, Иван Пушлин, где он скрывался от дождя.
– Ну, как, Василий Ефимович, дело-то идёт? У тебя вон, сколько жнецов-то!
– Бог помочь бишь вам! Бог спасёт! Дело идёт. Вот уж второй загон дожинаем, ещё шесть осталось, – отозвался Василий.
Под самый вечер, едва осилив второй загон, Савельевы собирались ехать домой. Василий Ефимович запряг Серого, стал укладывать в телегу накошенную на низинах загона траву. Жнецы устало посели на телегу. Застоявшийся за день и соскучившийся по дороге Серый, перетаптываясь с ноги на ногу, готовясь ринуться в путь, тормошил телегу, словно обдумывая, с которой ноги начать бег, дёргая, стрижа ушами и лупя глазами назад на хлопотавшего около телеги хозяина, в ожидании беспокойно наблюдал за его поведением. Василий для удобства сиденья, расстилая траву в телеге, злобно ворчал на Серого:
– Стой! Дьявол! Дай усесться-то! А когда все по удобному уселись в телегу, и Василий Ефимович последним вскочил на своё место и, цапнув в руки вожжи, он с силой и злобно приурезал Серого выжженной петлёй по боку.
– Теперь вот беги! – заорал он на лошадь.
Серый бешено скакнул. Рывком сорвал телегу с места. Седоки в телеге по инерции невольно поклонились взад. В задке телеги буйно загремел пустой бочонок, из которого жнецы выпили с ведро квасу. Вскоре Серый сбавил бег, от внезапности седоки теперь поклонились вперёд. Съезжая с горы, Василий Ефимович, как нарочно, поддал Серому вожжой, который в бешеном скоку попёр телегу ещё быстрее. Бабы, морщась от боевой тряски, вцепившись руками за задки телеги, едва удерживались на ней; когда телега, тарахтя, наскакивала на придорожные кочки, ухабы и выбоины, баб сильно встряхивало, их на ветру трепыхавшиеся платки, едва держались на головах, сползали на плечи. Болезненно наморщив лицо, Любовь Михайловна с упрёком уговаривала Василия, чтоб он не так быстро гнал, но слова её, от тряски рвущиеся на части, не доходили до уха Василия. Из-за стукотни колёс, он не слышал просьбу, чтоб сбавить бег лошади. Ему было слышно только странные звуки: а-а-а! и-и-и! у-у-у! Подъезжая к селу за Савельевыми, вихрем клубилась взбаламученная колёсами придорожная пыль.
– Здесь дождя не было, дорога покрыта пылью.
По приезде домой Любовь Михайловна едва оправилась от взбалмошной езды, она болезненно совсем измаялась в такой бойкой дороге. Тряская дорога в конец измучила её слабое здоровье, хрупкое тощее тело.
– Всю спинушку изломало! – без жалобы, поведала она о проведённом целом дне на жнитве бабушке Евлинье, которая с рук на руки передала ребёнка матери.
На второй день жнитва в поле взяли и Ваньку, а мать осталась дома. Жнецы уселись в телеге. Василий Ефимович, дёрнув за вожжи, крикнул на Серого:
– Но!
Серый рванул с места телегу и бодро зашагал по улице. Незаметно выехали в поле. Ванька, сидевший чуть ли не в самом задке телеги, при выезде из села окинул глазами простор ржаного поля, кое-где пестревшего снопами поставленных в десятки в форме «попов». Вдали он завидел знакомую по детству казарму, издали она казалась игрушечным домиком с белыми трубами. Около казармы виднелась так же знакомая с детства, замечательная дубрава с верхней неровной зазубренной кромкой, издали она казалась похожей на пилу, поставленную зубьями кверху. В нос Ваньке удерил пресный запах созревающей ржи, а когда переехали за большую дорогу и поравнялись с Ломовским полем цветущей гречихи, он ощутил сладковатый медовый аромат, который ветерком доносился до него с того цветущего гречного поля.
Ванька свой взор перевёл назад, в сторону своего села. Он наблюдал, как постепенно удаляется и уменьшается, белокаменная колокольня, а когда телега стала медленно опускаться в низину, около болота Ендовин, из-за изгиба дороги и из-за ржи, колокольня и вовсе пропала из виду. Опустив взор вниз, Ванька стал наблюдать за дорогой, которая беспрерывной зелёной лентой из-под телеги уплывала назад. Он с большим интересом наблюдал, как белые цветы ромашки и голубые цветы дикого цикория, росшие на бровках дороги, покорно приклоняясь под вертящимися ступицами колёс телеги, измазанные дегтярной осью, снова упруго распрямлялись, вибрируя, как бы сбрасывали с себя излишки дёгтя. Ванька слышит, как колёса телеги сипло ведут свой непрестанный разговор; причвакивая ободьями в глубоких колеях, заполненных густоватой грязью, образовавшейся после вчерашнего дождя.
Извиваясь гигантской змеёй, дорога шла то прямо, то извилинами. Саженях в двухстах от большой дороги протекает небольшой ключ. Мосточки, во влажной глубине которого колесами проделаны выбоины. Редкий воз не претерпит здесь несчастья: или на бок повалится, или колесо хрястнет, или оглобля переломится, или, не выдержав натуги, тяж лопнет.
Впереди чётко виднелась приближающаяся деревня Михайловка. Не доедя до неё версты две, Василий Ефимович повернул лошадь влево, направил Серого к поросшему ивняком, Коровьему болоту.
Тут у Савельевых широченный, в десять сажен, загон ржи, укрощать который, вооружившись серпами, принялась семья. Вскоре сюда же приехали на жнитво и Трынковы.
– Бог – помочь! – крикнул Иван Василию, подъезжая к болоту.
– Бог спасёт! – громогласно отозвался Василий Ефимович.
– С Начином вас! – добавил Иван, подыскивая лучшее место. – Где бы выпрячь и поудобнее поставить телегу? Мы уж второй день жнём, вчера два загона выжали! – с довольным расположением духа, отвечая Ивану, выкрикнул Василий.
– Ну и мы начнём, и вместе с другими кончим. Вчера только с сенокосом распутались!
Выжав этот загон, Савельевы переехали на четвёртый по общему счёту загон, расположенный у так называемой «Мокрой грани», тоже не вдалеке от Михайловки.
Склоняясь к вечеру, день запасмурился, жнецы не изнывали от жары, не так часто прикладывались к бочонку с квасом, как во вчерашний знойный томительный день. А когда под самый вечер Савельевы дожинали этот второй сегодня загон, всё небо заволокло тучами, стал накрапывать редкий, но зернистый дождь.
– Вы дожинайте, а мы с Ванькой будем ставить десятки! – распорядился Василий Ефимович.
– Ванька! Скорее стаскивай снопы в десятки, дождик-то вон какой расходится!
Жнецы, торопливо действуя серпами, захватисто забирая горстями, хватали последние стебли, прижатой к самому концу загона, стоявшей на корню ржи. Санька и тот видя вблизи дороги, поднажал и, не расклоняя спины, напористо наступал на стенку печально поотвисшейся от дождя колосьями ржи.
– Рожь сжата, утянуты поясками последние снопы, десятки поставлены, пора и в путь домой.
Усевшись в телегу, жнецы, накинув на себя одежду, понуро ёжились, огораживая себя от назойливого дождя. От дождя дорога залоснилась, в глубоких колеях склонилась вода. Ободья колёс по колеям вперёд волнами гнали грязную жижу. Колёса заботливо с причвакиванием целовали влажную землю. Почти у самого села Савельевы догнали чью-то телегу, едва волочившую уставшей лошадью. По извилистому зигзагообразному следу, перекосившегося обода колеса можно было догадаться, что впереди едет Семион Селиванов. Семион со своей Марфой тоже возвращался из поля с жнитва. Изрядно измочившись, покашливая от озноба, он с озабоченностью понукал свою пегую кобылу, без нормы вваливая ей кнута, слышалось, как кнут тупо шлёпал по тощим кобыльим бокам. Но кобыла, попривыкнув к кнуту, не реагировала на его удары и вяло плелась по дороге, дождевая вода грязными струйками стекала с её мочалистого хвоста. Тряхнув вожжами, этим приободрив Серого, Василий Ефимович обогнал Семиона, из-под колёс полетели шматки липкой грязи, обляпало седоков в телеге.
– Эх, как вас перемочило! – встречая, открыв ворота, провозгласила Любовь Михайловна.
– Мы всю дорогу дождём ехали! Промокли! – за всех ответил Ванька, промокшей курицей спрыгивая с телеги.
Домой приехали, все промокшие до нитки.
Русский крестьянин – труженик, христианин; в праздник не входит в поле на работу, даже в жнитво. «Удалой труженик – серп, своё возьмёт!» Для него время хватит и в будни.
Ваньк! Пошли в лес за конобобом, – пригласил Санька Федотов Ваньку Савельева, в воскресенье, в которое, как в праздник, не поехали в поле на жнитво.