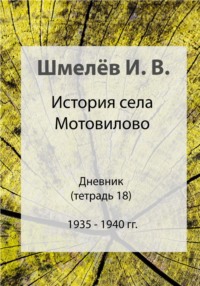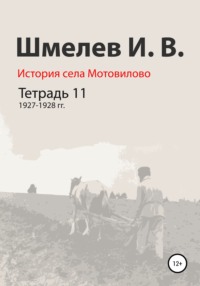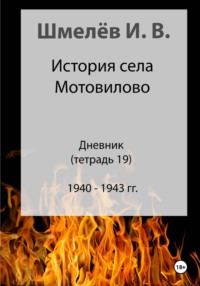полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 9 (1926 г.)
После этих Николаевых слов мужики ещё пуще рассмеялись и гогоча хохотали, катаясь по примятой, под солнцем присохшей, траве.
– После этого конфузного случая, – продолжал свой рассказ Николай, – я долго стыдился Дуньки. Избегал с ней встречаться. А прошло недели две, я снова отважился, и втемяшилась мне в голову задорная мысль. Дай, думаю, схожу к ней по старой дружбе. Забрякался однажды ночкой к ней, а она, узнав, зачем я пожаловал, заскочила в чулан, схватила там ухват и угостила им меня так, что я едва пятки успел убрать. С тех пор у нас с ней дружба врозь! А всё я сам виноват, клин мне в голову! – с высвистом от самозабвения, брызжа слюной и шепелявя языком, закончил Ершов рассказ о своих любовных похождениях. И как бы в оправдание перед мужиками, о причине своей шепелявости в разговоре, Николай разговор перевел на другую тему.
– В детстве, когда мне было годика четыре, я на дворе лизнул языком от мороза побелевший топор. Язык прилип к железу, я с испугу дернул, а кончик-то языка так и остался на топоре. Изо рта кровища хлынула, я в избу, домашние всполошились: не поймут, в чём дело. Я от боли мычу, на рот показываю. Покойная бабынька поняла, в чём дело-то, мне во рту салом гусиным смазала. Вот с тех пор мой язык и не стал чисто слова выговаривать, стал с посвистом присепетывать. А как покойная моя мать рассказывала, я родился как раз в жнитво. Дело-то в поле было. Мой покойный тятя с моей тоже покойной мамой в поле дожинали последний загон ржи, который у нас был недалеко от колодезя. А мама в то время с большим брюхом ходила, в котором, конечно, находился я, т.е. Николай Сергеич Ершов. Вдруг тогда, ни с того, ни с сего, моя мамаша от боли в животе присела на сноп и заохала. Отец-то, видимо, докумекал, в чём дело-то, и давай бежать по полю-то в поисках повитухи (она непременно должна быть в поле тоже на жнитве). Пока отец бегал, разыскивал, спрашивая жнецов: кто не знает ли, где жнёт старуха-повитуха, я и родился. Мать-то рожала меня в полном бесчувствии и ее, конечно, не интересовало, куда из неё ребенок выпадет, а как видимо, я лицом-то угодил прямо на колючую жниву. Вот с тех пор, можно сказать, от самого рождения я и стал рябоватым. Иногда меня в ругани двоешкой обзывают, и правда, как после я узнал, что вместе со мной родилась девочка – сестрёнка моя. Или из-за того, что я первым выскочил и всю силу себе забрал, или ещё из-за чего, только сестрёнка моя вскорости умерла, а я вот до сих пор живу и здравствую! А когда тогда отец с повитухой прибегли к маме-то, глядят, а мы вместе с сестрёнкой, уже высвобожденные из материнской утробы, лежим на мамином запоне и, как ни в чём ни бывало, на солнышке обсыхаем, особенно я. Грит, лежу и от радости руками и ногами сучу и голос свой на полевом просторе пробую. Повитухе не осталось больше дела, как стащить нас к колодезю, обмыть нас родниковой водичкой и подсунуть к материной титьке. Я, маленький-то, был спокойным, не ревел. Насосавшись молока вдоволь, и спать. А сосал, грит, я подолгу и молока высасывал помногу, видимо, я молоко-то за двоих высасывал, заграбастывал и этим сестрёнку свою обворовывал, потому что она, как после рассказывали, через неделю умерла от хилости. Вот, я всю свою жизнь и живу здоровым, как кряж. Силы во мне – хоть отбавляй, как в Илье Муромце. А это все потому, что я родился в поле, на вольном воздухе, а не то, что в жаркой бане, как родятся некоторые. Бывало, когда я был совсем ещё отроком, ещё не отличая правой руки от левой, я в ватагах наравне со взрослыми дрался. Кулак-то у меня не так, чтобы больно велик, но зато увесист, весом фунтов пять будет. И если в драке я своим кулаком-молотком угощу кого, то так и знай: тот два дня просмеётся, а на третий – задохнет! – самохвально сказал Николай под общий одобрительно осуждающий смех мужиков, некоторые из которых, пригнувшись к земле телом, вздрагивающе хохотали.
– А потом, когда я уже в летах был, к жениховой поре подвигался, мы с братом Иваном из поля снопы возили. Он снопы на воз кидает, а я от него принимаю, в воз укладываю. И как-то по нечаянности Иван, бросив снопом, угодил мне прямо в харю и сделал меня ещё рябее. Но ничего, я на рожу-то красивым выдался, если не красивым, то, во всяком случае, приглядчивым, девки меня любили. В невестах я долго шевырялся, всё выбирал себе девку себе подстать, поприличнее, и выбрал себе в жены Фросю, которая среди баб – одно загляденье. Конечно, в нашем мужицком деле над своими бабами ухо держать надо востро, а то и не почаешь, чем объешься! И не осознаешь, где беды наживёшь, особенно по пьянке. Ведь всем же известно, что пьяная баба своему струменту не хозяйка. А что касаемо меня, то и сейчас бабы меня не отталкивают, особенно Дунька, – с чувством самовосхваления закончил свой рассказ Николай.
– Ну, вставайте, мужики! Поели, отдохнули, наслушались, – пора домой отправляться, вон солнышко-то на спокой просится, скоро за лес спрячется! – ещё улыбаясь от воздействия рассказа, проговорил Михаил, поднявшись с травы, увязывая свой кошель и половчее приспосабливая его за плечом. Домой возвращались молча. Мужики-старички плюхали сзади, домой пришли усталыми, неразговорчивыми.
– Ну, как луга? – спросила Любовь Михайловна Василия.
– Трава хорошая, нам пай достался обширный, с сеном будем.
– Завтра спозаранку едем на покос. Готовь продукты!
Сборы на сенокос. Косьба. Санька, Ванька Гирынковы
В день выезда на покос, Василий Ефимович встал рано, как только рассветало. Он, хлопотливо готовясь к отъезду в лес, на луга, долго шумел во дворе, подмазывая телегу, укладывая в неё грабли, вилы, звенел косами, укладывая их в телеге так, чтобы они не звенели по дороге и не порезаться об них. У него долго не ладилось в поисках косьих брусков, он, обшарив все уголки двора и погребушки, раздражённо вбежав в избу, про себя, но чтоб все слышали, бурчал:
– И куда только подевали брусок, новый, который я только летом купил, с ног сбился искамши. Ребятишки, чай, бесьи, куда-нибудь запхотили, теперь и не найдёшь! – ворчал он во всеуслышание.
– Миньк! Саньк, Маньк! Ваньк! Вставайте, ладно вам нежиться-то, в сенокосную-то пору не до неги!
– А брусок-то в мазанке не видел? Вроде, ты сам туда прятал, – надразумела Василия, Любовь Михайловна.
– Готовь для семьи, уезжающей на сенокос, завтрак. А, пожалуй, пойду сбегаю в мазанку-то, а вы скорее попроворнее собирайтесь! – приказом бросил он детям, выйдя из двери в сени.
– А ведь правду ты сказала, вот он, брусок-то, в мазанке был!
– Я, чай, тебе баяла, что ты его сам там спрятал.
Развяленный сном Ванька лениво ходил по избе, позёвывал старчески, шаркал обутыми в лапти ногами по полу. При обувании он сильно перетянул портянки на ногах, отчего ноги стянуло, стеснив кровообращение. Расхаживаясь по избе, разминался, чтоб ноги попривыкли к обуви.
– Что ты какой-то куренастый, – с раздражением обрушился отец на Ваньку. – Никак не проснёшься. Сам-то проснулся, а глаза-то, видимо, у тебя всё ещё спят! Поди во двор, из лошадиной колоды умойся, сон-то от тебя живо провалится. Лошадь стоя мало когда спит. Иль вчера вечером-то на улице долго прошлялся, теперь вот и кувыркаешься как пьяный!
Ванька на это отцово замечание только улыбнулся.
– Ты не скалься, а то вот двину по башке-то и будешь знать! – ворчал отец.
– Вам на сенокос-то кваску-то в бочонок наливать что ли? – стараясь прервать Васильево бурчание спросила Любовь Михайловна.
– Нет, не надо, там по нашему полю ручеёк родниковой воды протекает, водичка в нём славная и холодная – зубы ломит. Я такую люблю, так что квас не понадобится.
Семья, кроме спящих ещё малышей и бабушки Евлиньи уселась за стол завтракать. Василий Ефимович торопко хлебая щи и с хрустом жуя подгоревшую на пылу картошку, озабоченно поглядывал через окно на улицу. Он страстно не любил, чтоб кто выехал в поле или на сенокос раньше его. Заметя, кто-то на лошади проехал по дороге, он, напыщенно нахмурившись, злобно пережёвывал своё недовольство недружными сборами семьи:
– Вы скорее проклажайтесь, в такое горячее время некогда подолгу за столами рассусоливать. Люди-то вон уже поехали, а мы всё разобедываем, брюхо гладим! – вылезая из-за стола проворчал отец на семью.
– Ну скорее выхлобучивайтесь из избы-то. Я пошёл запрягать, – приказно, выходя во двор, бросил он с порога.
В соседнем доме у Федотовых тоже шли сборы к поездке на сенокос. Сам Иван, побудив семью, стал переодевать рубаху, вместо исхудившейся ему, в честь сенокоса, Дарья подала чисто-свеженькую. Накинув не голову рубаху, Иван, запутавшись в подоплёке, долго не мог её надеть на себя. С досады чертыхаясь, он разнервничался, отчего складки на коже его шеи обозначились сильнее, яснее обозначились на ней отдельные фигурки – ланки и делянки. Состояние кожи лица человека, бороздки на ней, раньше всего показывает, что человек входит в пожилые годы: морщинки, появившиеся на лице, свидетельствуют о том, что человек, миновав пору своего расцвета, начинает стареть. У баб вдобавок к морщинкам на лице к старости появляются ещё вертикальные мелкие складочки на верхней губе.
– Видать, стареешь, вот и не можешь в рубаху влезть, – добродушно заметила Дарья Ивану, который так долго путался с рубахой, надевая её.
– И ты не молодеешь, – шуткой отговорился Иван, когда его раскрасневшееся на улыбе лицо наконец-то появилось из рубашечной шейной прорехи.
Облегчившись, Иван вышел во двор. Пока Иван задом выпячивал со двора телегу, его семья, предназначенная для поездки на сенокос, уже была в сборе.
– Ну, как, поехали! – окликнул Ивана выезжавший из ворот Василий.
– Сейчас запрягаю, да вон семью-то никак не доторыкаешься: бужу, бужу – никак не добудишься, спят как убитые, ешли их в пятки-то! – шутил Иван, запрягая лошадь в телегу.
Савельевы, рассевшись в телеге, на покос выехала вся трудоспособная половина семьи, тронулись. На правой стороне с вожжами в руках сидел сам отец, рядом с ним расселся клевавший носом Санька, в задку расположился дремавший Ванька. На другой стороне телеги сидели Минька со своей молодой, а рядом с ней Манька. В глубине телеги покоился провиант, продукция для пропитания сенокосцев на лугах. Тут и картошка, тут и свинина, тут и хлеб, пироги, лепешки, яйца и пшено.
В это время Иван Трынков тоже готовился к выезду в лес на сенокос. Пока его Прасковья хлопотала у печи, приготовляя пищу, Иван, выведя со двора к окошку свою кобылу, неторопливо, деловито принялся заплетать в лошадином хвосте косу.
– Иван! Поехали! – кликнул Василий с дороги, поравнявшись с домой Трынковых.
– Да вот, голова, мы с «Зорюшкой» ещё не готовы, – отозвался Иван, – сейчас запрягать стану! – добавил он.
– Ну, в случае езжай быстрее, догоняй нас.
– Тише едешь дальше будешь! – отозвался Иван.
– От того места, куда едешь! – с насмешкой, уже издали крикнул Василий.
– Догоню, так догоню, что и один доеду, теперь я дорогу на луга знаю, один не заплутаюсь, – размышлял про себя Иван, старательно навевая косу в хвост.
А кобыла, чуя, что хозяин хлопочет около её хвоста, блаженно дремала и в безмятежном забытьи немного приподняв хвост, выпустила из себя порцию скопившегося у неё в брюхе спёртого вонючего воздуха.
– Вот, балуй у меня, невежа, ишь нашла время! – укоризненно браня заворчал Иван на свою «Зорюшку».
Он гадливо сплюнув отворотился от кобыльего хвоста, засуетился и поспешил поскорее закончить с плетением косы. Завязав на конце косы узелок из красной тряпочки, Иван пошёл в избу завтракать. Кобыла же как ни в чём не бывало продолжала мирно стоять, готовая всегда к запряжке, и слушая незлобливые укоры хозяина, покорно стригла ушами, переминаясь с ноги на ногу, блаженно всхрапывала. Иван, разбудив сына Кольку, принялся над чугунком умываться. Рукомойника у них в доме не было: вся семья умывалась в чулане над чугунком. В чулане в углу под лавкой у них стоит старая, обёрнутая полосками из бересты (чтоб не развалилась) глиняная корчага, в ней плесневеют и киснут пищевые отходы, распространяя по всей избе дурной запах, похожий на гнилостный вонючий запах кислых овчин и рыбы.
При выезде из села Василий Ефимович остановил лошадь. Его от самого дома досадовало и беспокоило то, что при запряжке второпях получился перекос: правое переднее колесо, всё время забегая вперёд, выкатывается из колеи. Пока он перепрягая исправлял ошибку, Федотовы догнали их. Иван, придержав лошадь, для порядка вежливо крикнул Василию:
– Мир дорогой! Или что поломалось?
– Да вот колесо, забегает и забегает в сторону, пришлось распрягать. Сейчас поедем!
– Эх, я вчерась и уморился, изустал, еле доплёлся до дому! – от нечего делать высказался Иван.
– Оттуда не ближайший свет, верст 15 будет, так что поплюхаешь! – отозвался Василий, садясь в телегу и с некоторой досадностью хлыстнул Серого вожжами. – Но!!! Застоялись! – прикрикнул он на лошадь.
Забывшийся было Серый, сильно рванул телегу с места, от чего сидевшие в телеге невольно по инерции наклонились назад.
К сенокосу всё село готовилось, как на праздник. К нему подкапливают мясцо, маслице и яйца. Одеваться стараются по-праздничному нарядно. На покос выезжают чуть ли не всем селом, в селе остаются стар и млад. Луга для сенокошения находятся у кого где, у кого в поле, в болотах или в оврагах, а у кого в лесах. В день начала сенокоса с восходом солнца из села по дорогам в разные концы потянулись люди: кто пешком, мужики с косами на плечах, а бабы с граблями, а кто целыми семьями, рассевшись в телегах, едут на лошадях. В сенокос мужики одеты по-обычному: в сатиновых рубахах и в молескиновых штанах. А бабы в сенокос стараются одеться по-праздничному нарядно, расцвечиваясь в добротные наряды, на головы повязывают цветные платки, снежно-белые кофты облегают их упругие тела, клетчатые юбки. На ногах искусно вывитые белые портянки и новые лапти.
Проехав Ломовку и доехав до винзавода повернули вправо, а когда поравнялись с самим заводом, Василий Ефимович, заглядывая внутрь его, втягивая в себя приятный запах спирта, улыбаясь, проговорил:
– Эх, гоже пахнет! Вот люди живут, всегда около шпирту работают, – с нескрываемой завистью заметил он.
– Шабёр, чуешь, чем пахнет?! – окликнул их сзади идущий Иван.
– Я то же баю! – отозвался Василий.
Потом долго ехали вдоль железной дороги, на которой громыхая колёсами быстро промчался пассажирский поезд.
– Он, чай, не измял там нашу траву-то, – шутливо улыбаясь крикнул Иван Василию.
– Нет, не должно, он по лугам-то не ездит, у него на это свои колеи есть! – так же шутя отозвался и Василий.
Все сидящие в обеих телегах с большим интересом наблюдали за проходящим мимо поездом.
Особенно долго смотрели ему вслед Ванька и Санька Федотов, который, как и Ванька, сидел в своей телеге и до сего времени в полудремоте клевал носом. Свернув ещё несколько вправо въехали в густой березняк и липняк, среди которых возвышались и могучие дубы. В лесу в вершках деревьев весело распевая порхали птички.
– Эх, вот бы лучковое ружьё со стрелами из дома захватить, была бы лафа и потеха, – подумалось Ваньке.
Дорога сначала шла прямо, а потом стала изгибаться, а около болотистого места и совсем изогнулась какой-то загогулиной.
– Ну вот, кажется, мы и доехали, – облегчённо проговорил Василий. – Тут место хорошее, и трава по пояс, и вода рядом, – добавил он. – Ты, Миньк, распрягай лошадь, а вы, Санька с Ванькой, подберите хорошее место под шалаш, а я пойду пай обойду, как бы кто не набаловал, пока дома-то мы проклепались, – наказывал отец, поспешно скрываясь за зарослями густого кустарника.
Санька с Ванькой, выбрав подходящее место под развесистой кудрявой берёзой принялись за оборудование стана, стали сооружать шалаш-лачужку. Манька с Анной стали с телеги стаскивать пожитки и провиант, помещая всё это под берёзой. Минька, распрягши лошадь, пустил её на траву, взяв косы из телеги повесил их на сучья берёзы.
– Ну, кажись, всё в порядке! – объявил отец, вернувшись из кустарника, – берите косы и давайте приступать! – люди-то вон уже косят.
По лугам раздавалось звяканье кос. По лесу эхо разносило мерные постуки молотка, пробивающего косу, и мелодичное позвякивание бруска о косу. Отец и Минька с Санькой каждый свою разобрали висевшие на сучьях берёзы косы. Каждый свою начали брусками точить, уткнув концы косьев в землю. Косы зазвенели, зазвякали вперебой. Набожно перекрестившись, засучив рукава и поплевав на ладони, отец резво принялся за дело.
– Ну, благословляйтесь, начинайте с Богом! Я вот сначала обкошу траву около телеги, чтобы зря не приминать её, а вы начинайте от межи, видите затёсы вон на той берёзе и осине – это межа нашего пая. Хотя я сам начну от межи-то, а вы зачинайте от овражка, там межой не ошибётесь, по самый овражек вся трава наша, так что начинайте! – подбадривая, нацеливал отец сыновей на работу.
При первом взмахе косой перед отцом легла подсечённая трава. В форме полумесяца размером в добрую сажень перед ним появилось оголённое место прокоса. Коса, издавая своё обычное «вжик», пошла вперёд, забирая под себя всё новые и новые полукружья скошенной травы. Мастерски отбитая и хорошо навострённая коса своим жалом бойко подрезала сочную, ещё не обсохшую от росы траву, как бритва, оставляя после себя ровную низкую щетину травы. Перед глазами косца внизу ровной густой стенкой стояла трава в выжидании очередного взмаха косы.
Под косой трава, мгновенно вздрагивая, безжизненно валилась и косьём сгруживалась в вал, где обсыхая от росы вяла и сохла на солнце. Ноги косца, поставленные ступнями раскосо, медленно, но податливо передвигаются всё вперёд и вперёд по голому прокосу, оставляя промни в отаве. Но вскоре отава на следу косца начинает выпрямляться, топорщиться, отливая цвет густо зелёного оттенка. Минька с Санькой тоже ринулись в косьбу за отцом следом. Отец остановившись оглянулся назад, по выражению его лица можно было догадаться, что он доволен и находится в радостном расположении духа. Он особенно торжественно наслаждался тем, что за ним следом с косами в руках, подкашивая траву, так же как и он идут его сыновья. А братья, не замечая ликования отца, взмахивая косами шли следом за отцом. За косцами пролегли три полосы-прокоса: широченная в сажень за отцом, поуже, за Минькой и совсем узкая за Санькой. Снова повострив косы, косцы «завжикали» косами по траве – то одновременно, то вперебой. Тела косцов в такт взмахов мерно покачивались то вправо, то влево, слегка приседая на чуть раскоряченных упругих ногах. Их головы и спины слитно покачивались в такт взмахам кос. За отцом окосиво тянулось ровное и гладкое, словно из-под бритвы, нигде не оставлялось ни единой неподкошенной былинки. За старшим сыном кое-где виднелись выпрямляющиеся, не совсем подсечённые травинки, а за Санькой же в непрокосе топырилось и колыхалось много травинок. Потревоженные косой и оставленные на месте, они кланялись словно благодаря Саньку, что он их не подсёк и оставил жить. Для очередной точки косы отец остановился первым, глядя на него остановились и сыновья.
Отец с оценкой качества косьбы взглянул на ряды сыновей и с благосклонной улыбкой заметил:
– За тобой, Саньк, трава снова растёт, «топорщится». На второй укос просится!
– Да коса что-то не косит, – сваливая вину на косу, оправдывался Санька.
– Коса востра, да руки, видать, не теми концами у тебя вставлены! – упрекнул его отец. – Вон, гляди, за Минькой трава-то не растёт! – в Минькину похвалу сказал отец, отчего Минька самодовольно кратко улыбнулся.
– Да ты умеешь ли как следует владеть косой-то?! Косить это не то, что у девок титьки щупать, да книжки почитывать! – козырнул отец столь необычными словами в Санькин адрес, от которых Санька пристыженно опустил голову и приумолк, учащённо дыша от непривычной работы.
Старший Василия сын Минька с малолетства окунулся в труд, с восьми лет он уже помогал отцу по хозяйству и в поле. Он и обличием-то в отца: такой же чёрненький и характером в него, за что и любил его отец больше, чем Саньку. А Санька в науку попёр, по примеру дяди Алексея, книжки почитывал, газеты, журналы выписывал.
– Плохой из него косец, да и согребальщик хреновый, – с мужской деловитостью заметил Минька о Саньке. Выточив косы, все трое снова принялись сокрушать траву.
– Вот мы и приехали! – громогласно возвестил подъехавший на своей «Зорюшке» Иван Трынков. – Долго ли, коротко ли ехали, а всё же доехали! – Бог помочь! – поприветствовал он Савельевых мужиков-косцов.
– Бог спасёт! – вежливо ответил Василий на Иваново приветствие.
– Вы уж, чай, половину пая скосили, а мы вот только являемся! – наивно улыбаясь проговорил Иван.
– Полная-то, не полная, а вот эту яланку уже докашиваем, – отозвался Василий.
– Ну и мы ещё накосимся-наработаемся, работа не волк, в лес не убежит! – продолжал балагурить Иван, слегка побалтывая свесившимися с телеги ногами, поглядывая на свою Прасковью, которая угнездившись блаженно сидела в глубине телеги. – Но, милая – поедем на тот конец пая, на свои луга.
И телега Трынковых, колыхаясь от кочкастой лесной дороги, стала постепенно скрываться за отдельно росшими по лугу кустами. Издали видно было, как колыхаются у сидящих в телеге головы, самого Ивана, Колькина и его матери Прасковьи, по случаю сенокоса цветно разнаряженной праздничным платком. По приезде на место, на свою обширную луговую поляну воскликнул: «Вот, где раздолье-то, Иван Трынков». В первую очередь он позаботился об лошади, чтобы ей было уютно и чтоб комары не кусали. Кольке с матерью он приказал строить шалаш, а сам впрягши свою кобылу принялся за устройство для её стойбища. Он выбрал очень подходящее место для своей «Зорюшки». Немножко в сторонке от полянки, где они расположились станом, как по Иванову заказу росли дружной окружной кучкой молодые липки, а в середине их пространство величиной как раз где можно расположить лошадь, что Иван и сделал. Он ввёл свою «Зорьку» в это место, как в домашней конюшне. Лошадь не стало видно ни с какой стороны, она оказалась закрыта со всех сторон плотно стоявшими липками, а имеющиеся случайные дыры Иван загородил приставленными кустами, чтобы ни один комар не пробрался к «Зореньке» и коим грехом не побеспокоил её. Накосив сочной травы, Иван задал её «Зорюшке», а сам из кадушки, в которой он намеревается для разнообразия делать замеску для лошади, достал часы-ходики, стал старательно их приспосабливать, вешать к стволу высоченной сосны. Он и в поле на пашню и сев, а также и на сенокос всегда брал с собой часы-ходики и по ним определял время обеденного перерыва, а ночуя вставал только по часам.
– А как же определять время-то?! – отвечал он допытливым мужикам, которые спрашивали его и в насмешку и всерьёз. – Ведь на глазок или по солнышку точно-то время не определить, – объяснял он мужикам. – Или, к примеру, в лесу: хотя и солнышко будь на своём месте, но ведь из-за деревьев его не видно! – деловито объяснял он.
Прасковья с Колькой хлопоча с постройкой шалаша за стройматериалом углублялись в лес. Колька устанавливал «стропила», а мать ушла «в лес» за палками-тычками. Не прошло и пяти минут, Прасковья «в лесу» тревожно зааукала.
– Ау! – Кольк, где вы?!
Колька во всё горло отозвался:
– Мамк! Вот мы!
Вскоре Прасковья вышла на поляну с пустыми руками и в растерянно-испуганном виде.
– Я чуть не заплуталась. Отошла и окружилась, думала, что и не найду вас.
– Ну и бестолковая! – удивился Иван. – Как же ты умудрилась в трёх соснах заплутаться-то? – Тут кругом люди косют: туда пойдёшь – на Лабиных наткнёшься, туда – на Федотовых наскочишь, а если туда пойдёшь – там Савельевы косами звенят!
А Савельевы в самом деле звенели косами. Дело у них шло споро и податно. Время от времени они как по уговору все трое останавливались и звеня точили косы. У Саньки, вроде, дело пошло лучше, настроение у него поднялось до сочинительства стихов. Махая косой и подрезая траву под корешок он до того лирически погружён в раздумья, что стихи сами по себе просились на язык. «Косой махнул – лишь слышен «вжик». Налёг рукой, коси мужик!» Таким вышел первый стишок у Саньки, который он после дома записал в тетрадку по памяти. Отец заставил Саньку обкашивать отдельно стоящие на лугу кусты, за что он принялся с большим азартом. Кусты, обкошенные Санькой кругом, казалось, повзрослели, теперь освободившись от вокруг их высоченной травы они как бы значительно стали выше и самостоятельней. Отец с Минькой принялись косить в низине в порослях ольхи, откуда скошенную траву отец приказал Ваньке, Маньке и снохе вытаскивать на яланы. Старательно таскает Ванька, охапки мокрой травы из чащобы кустов на поляну, где траву растрясают, чтобы она сохла на солнце. Растрясши одну охапку, Ванька спешит в чащобу за другой. Под ногами, обутый в лапти, чует Ванька мокредь низины, под ногой смачно флюкая жемыхается вода, просачиваясь сквозь лапти и портянки, ноги ощущают прохладную сырь. Спотыкаясь ногами о торчащие из земли корни корьятника, которых из-за охапки травы не видно, Ванька чуть не падает, а выроненное из рук беремя травы, снова сгребает руками и волочёт на ялань. В некоторых труднодоступных местах чащобы Ваньке приходится к траве подбираться, пригибаясь чуть ли не ползком, на карачках и вытаранивать оттуда клочки мокрой травы. Ближе к обеденной поре из чащобы мокрую траву стали вытаскивать все. Санька с непривычки к такой трудноватой работе и обстановке, часто падал, спотыкаясь о корни. Ему чертовски не нравилось это дело. Падая в мокредь всей плашнёй, он про себя чертыхался и в душе проклинал отца за его жадность: отец готов скосить траву не только в чащобе, но и во впадине – по грудь в воде. Таща очередное бремя травы, Санька из-за невидимости из-за охапки травы нечаянно напоролся глазом на сучок. Из глаз посыпались искры, в глазу долго виднелось какое-то похожее на куриное яйцо фиолетово-синее пятно, Санька выронив траву, от боли зажав глаз потаённо от отца выругнулся: