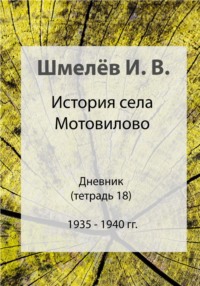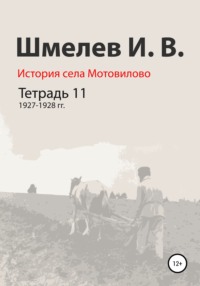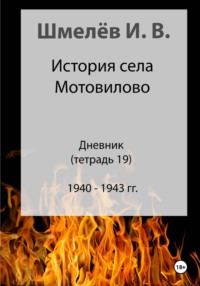полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 9 (1926 г.)
Стрижи уже улетели, а ласточки всё ещё резвясь, летают над озером и селом, и они, собираясь в большую стаю, тоже готовились к отлёту, они, кружась над озером, справляли свой прощальный концерт, дружно щебеча и в воздухе кувыркаясь.
– Погодите тут меня, я схожу по своей надобности, вон в промежку! – сказал Панька товарищам, а сам скрылся в промежках между мазанкой и погребушкой. Присевши, Панька кряхтел и тужился, выдавливая из себя лишний «груз» опорожнившись, он по привычке своей вытер пальцем себе зад, а чтобы избавиться от прилипшего к пальцам кала, он с силой встряхнул рукой, больно зашиб о забор палец. Морщась от боли, Панька всунул зашибленный палец в рот, отогревая его, а вспомнив, что палец-то грязный, долго плевался, ругая себя за забывчивость. Выйдя из укрытия и завидя бежавшую по дороге маленькую собачонку, Панька фигуристым свистом подманил её к себе. Ребята дружелюбно приласкали собачонку, торжествуя, гладили её.
– Давай, присвоим её! – предложил Панька,
– Давайте! А как мы назовём её? – высказался Ванька.
– Шариком! – отозвался Панька.
На том и порешили ребята. Они перво-наперво решили накормить собачку и всей ватагой вломились в дом Паньки, разумеется и собачка вбежала в избу за ними. Собака в доме Крестьяниновых пробыла сравнительно не долго, пока бабушка Дуня отыскивала в чулане кочергу, чтоб её выдворить, и дедушка слезал с печи, и, указывая на растворённую дверь, притопнув на собаку, крикнул:
– Вон!
Собака, прижав хвост, повинуясь дедову приказу, вышмыгнула в сени незамедлительно. Панька за собачкой выпорхнул следом и чтобы она не убежала совсем, стал её ловить. Собака, огрызнувшись, больно укусила Паньку в руку. С досады Панька поддал собачке пинка, и та с визгом выскочила на улицу.
– Что? Додразнился собак, получил по заслугам? Получил за храбрость?! – издевательски стал насмехаться дед над Панькой. – Эх ты, дуралей! Да не дрыгай ты ногами-то!
– Ай, больно! За собаку ругаете, с самодельными ружьями заниматься не велите! Так чем же нам в детстве забавляться-то? – с гневом и обидой высказался перед дедом Панька.
– Хоть бы на войну угодить, да там пули взаправдашние подбирать после боя! – мечтательно добавил он.
– Эх, глупцы! Молокососы! Вот погодите, вырастите большие, силком попадёте на войну-то. Там дадут вам в руки винтовку, а в ней весу с батман будет, эх, как надоест таскать её; да её там не бросишь, заставят поднять! Тогда вспомните мои слова, спохватитесь, да будет поздно! Понимаете ли, вы это, олухи! Разбойники с большой дороги! – строго, но не злобливо высказался перед ребятами дед. – Вон, бают, в лесу больно грибов много, а обилие грибов всегда к войне бывает! – как бы между проговорил дед. – Завтра, пожалуй, я вознамерюсь в лесок за грибами сходить.
– Деденьк! Возьми меня тоже за грибами с собой!!! – обрадовавшись такому известию, встрепенулся Панька.
– До завтра-то ещё дожить надо! – укротив Панькин пыл, спокойно проговорил дед.
На второй день Панька с дедушкой в лес за грибами отправились спозаранку. Дед повёл Паньку во второй лес, за реку Серёжу, на свои приметные грибные места. Находившись до устали, обедать сели около родничка – холодной лесной живительной воды. Из-под вывороченной ветром седой ели, с хлопотливым люлюканьем по мелким камешкам сочится родничок, здесь берёт начало лесной приток реки Серёжи.
В этот день Санька Савельев, никого не взяв с собой, тоже отправился в лес по грибы. Он единолично намеревался посетить в лесу своё излюбленное место в надежде набрать корзинку рыжиков. Лес встретил Саньку благодатной тишиной, его обдало смолистым запахом сосновой хвои. Над самым носом у Саньки принялась безотвязно кружиться надоедливая муха, где-то вдали надрывно каркала ворона, зазывая дождь. На рыжиковом месте Санька грибов не нашёл, он вынужден углубиться подальше в лесную глушь. И там грибы как на зло попадались редко, так что Саньке пришлось обойти большое лесное пространство и немножко поплутать в отдалённом лесу за Серёжей.
Набрав с полкорзинки разногрибья, Санька случайно вышел на кардон жданчиху, а от него вдоль дороги направился к Серёже – его уже объяла усталость и томительная лень. Около Серёжи отдыхали от устали дед и Панька, около их наполненные с верхом грибами стояли лукошко и корзинка.
– Грибов в лесу – уйма, а в одном месте мы наткнулись на станицу подгрузков, вот по целым кузовам набрали, – не без гордости хвалясь, встретил такими словами дед Саньку и кивком головы указывая на полнёхонькие кузова грибов.
– Да у тебя сверх лукошка-то, целое лукошко будет. Вон какой верх-то ты увязал! – не без зависти отозвался Санька.
– Да мы с Панькой немножко сплоховали, – с видимой шуткой заметил дед.
– А что? – перепросил его Санька.
– Надо бы косу с собой захватить.
– А куда она тебе спонадобилась, или сенокос углядели?
– Да нет, вручную грибы-то собирать натужно и неспоро, так мы бы их косой-то с воз накосили.
– Неужто столько их было? – ужаснулся Санька.
– Вот спроси у Паньки, он скажет.
– Как бы война не завязалась, грибы всегда к войне. Как напрештова, кажется, в тринадцатом году! Грибов было полное изобилие, – с чувством угадывателя глаголил дедушка. – И грибы-то в лесу надо собирать умеючи, без ножа за грибами не ходят. Грибы не надо рвать из корня, а надо осторожненько подрезать ножечком, чтоб сохранить в земле грибницу.
– А я, дед, на этот счёт имею другое понятие, об этом я где-то в журнале вычитал. Вот ты баишь, – срезая гриб, ты сохраняешь грибницу, а я, вырывая с корнем гриб, обрезаю корешок, держа его в руках, и отбрасываю корешок в сторону. Этим я и грибницу сохраняю и грибы рассеваю. Ведь где рос гриб, там так и так остались грибные споры, а там, где упал обрезанный корешок, образуется новая грибница!
Дед, слушая вполне логичное рассуждение Саньки, не стал ему возражать, а только спросил:
– А что у тебя в корзинке-то грибов-то мало?
– Да я облазил, изшвырял почти весь лес, а грибов так и не нашёл вдоволь. Там грибов оказалось меньше, чем около края, – опечаленно проговорил Санька. – Недаром вчера я от Булолейки слыхал, она баила: «Ходила, говорит, эта в лес и не принесла ничего. Нет говорит, гриба, да и только!»
– Ну уж пускай она не врёт, понапрасну лясы не точит! Сам видишь, по сколько мы с Панькой набрали! – утверждал дед.
– Оно, конечно, грибы-то в лесу и есть, да я забрёл в такую чащобу, где комарья тучи, а грибов нету. Да тут ещё как нарочно глянь вверх, а белка карабкается по сосне к верху, к самой вершинке. Любуясь ей и преследуя, куда она ускачет, я и окружился совсем и умучился, что хоть караул кричи! Ладно я вскорости на кардон набрёл, а то бы…
– А я вот никогда в лесу не плутал, потому что надо по муравьиным кочкам ориентироваться. Пойдёшь влево, на железную дорогу наткнёшься, пойдешь вправо – на Криушу набредёшь, а если назад повернёшь, то непременно к Серёже выйдешь! – поучал ребят дед. – Правда, однажды сплоховал, обкуралесил весь лес, инда изустал, ноги повиноваться перестали, выбрел на поляну, смотрю – селение. Я-да к нему, спрашиваю попавшего встречь мужика.
– Это какое село-то?
– Румстиха! – отвечает тот.
– Эх, далёхонько я, видно, позабрёл, плутая по лесу в бессолнечный день, – рассказал дед про себя.
А про котомку дед промолчал. Когда, будучи ещё совсем в юности, возвращался он из Нижнего Новгорода с Ярманки пешком с котомкой за плечами. Решил пойти наикратчайшим путём, напрямик лесной дорогой. День клонился к исходу, а в лесу совсем завечерело. В лесном полумраке, за его котомку зацепился сучок сосны, сдёрнув её с плеч. С чувством испуга до вздыбления волос он, не оборачиваясь, припустился бежать, думая, что котомку-то с плеч сорвал вор-разбойник. Дома обдумавшись, наутро он решил сходить на место происшествия, оказалось, его котомка валялась невредимой на том самом месте, где сдёрнуло её с плеч кустом. Об этом-то и утаил дед…
– От тебя Саньк, в хозяйстве, никакого приполну нет, а только один голый убыток. Ведь только подумать надо, полдня проходил, прошалберничал без дела, а грибов не принёс! – таким укором ещё у порога встретил бранью отец Саньку. Только и глядишь, как бы от работы увильнуть, от дела отлыниваешь, бездельничаешь целыми уповодами! – А откуда бы всё бралось? Ведь не с неба всё валится, надо везде руки прикладывать. И на что только бьёте, на что надеетесь! Под лежачий-то камень вода не течёт! – поучительно и ворчливо бранился отец.
Санька, сознавая свою вину, молчал, а потом не выдержав, стал оправдываться перед отцом:
– Какой-то олух в лесу непрошено и нахально вторгся в мои грибные владения и побрал все мои грибы и мне ни одного гриба не оставил. После-то я излазил почти пол леса и ничего не нашёл, вот и пришлось домой возвернуться, с почти пустой корзинкой, – закончил свою оправдательную речь Санька, отмахиваясь от надоедливой мухи-жигалки и, вывалив из корзинки свои грибы, он принялся за чистку и сортировку их. – Эх, я и устал! – неосторожно высказался Санька.
– Ты что, камни ворочал что ли?! – упрекнул его отец. – Сходил в лес и устал!
А вечером из Санькиных грибов на ужин сварили отменную похлёбку, которой наелась вся семья. Бабушка Евлинья ела да похваливала. И от матери Санька получил похвалу за хорошие грибки.
– Ну, Саньк, грибы твои вкусны на славу! – похвалил грибы и отец.
Осень. Рыжьё. За дровами. Семион
– Красное летичко прошло и не видели, как! – глядя в окно проговорила бабушка Евлинья. – Листва на деревьях пожелтела, вон, грачи с скворцами собрались к отлёту в тёплые края! – С тоской в голосе проговорила она, наблюдая, как листочки с деревьев срываются, спадая, летят, словно порхающие птички, а стайка скворцов в отлёте, ей кажутся, подобно листьям, летящим с берёзы во время налёта порывистого ветра.
– А после отлёта пернатых гостей и буйного листопада жди, полетят и хлопья белого снега! – навевая зимнюю унылость на ребятишек, продолжала высказываться бабушка Евлинья.
К окну припали и Ванька с Васькой, они с большим интересом наблюдали, как ворона, найдя где-то рыбью голову, уселась на высоком столбе забора. Придавив добычу ногой, ворона деловито принялась толмачить её клювом. Отдельные отщеплённые сухие косточки падали на землю, а которые посмачнее, угождали вороне в рот. Расправившись с находкой, ворона встрепыхнувшись всем телом, клювом пригладила перья на спине и крыльях. Из-под её хвоста на землю выпал извилистый комочек, сдача от находки.
Вот и снова осень, вот и снова картофельное рытьё. Ссыпая в подпола нарытую в поле картошку. Панька с Ванькой занялись забавой. Они подобрали себе по остроконечному пруту и, нанизывая на концы мелкую картошку, размахиваясь прутом буркали картошкой по сторонам, кто дальше запустит. Удачно запосланные картошины летят до самой Слободы. Быть может, угождая кому в голову, кому в окошко! – но Паньке с Ванькой это нипочём, ведь забава есть забава, детское наслажденье. Ванька, насадив на прутик картошину, пообъемистей и, выйдя на дорогу размахнулся и буркнул: картофелина, сорвавшись, полетела на тот порядок улицы и угодила в окно избы Семиона Селиванова.
Стекло предательски тренькнуло, а из ворот появился сам Семион, который, не замедлив, кинулся за Ванькой, чтобы дать ему взбучку за урон в окне. Ванька испуганно пыхнул к своему дому, пока он бежал и скрылся во дворе, запыхался, как загнанная лошадь, еле отдышался, а от погони всё же успел удачно скрыться.
К вечеру день заненастился, из надвигающейся на село синевато-сизой тучи до самой земли ниспускалась белая грива дождя. В сумерках дождь усилился, а в ночи задождило вовсю. Дорога от дождевой воды залоснилась, а к утру её совсем развезло, стала почти не проезжей. В междуделье, пришедшая к Савельевым шабрёнка Анна, жаловалась:
– У нас картошка уродилась – горох…
После картофельного рытья, которое закончили в установившуюся теплынь «бабьего лета», соблюдая очерёдность, не задерживаясь, грянул октябрь со своей неустойчивой дождливой и холодной погодой. Настала пора буйных ветров с мелким навязчиво продолжительным дождём. Мокнет в поле ничем не прикрытая земля, гуляет по полевым просторам буйный ветер, а в селе в лужах скопившейся дождевой воды, мокнут листья, сброшенные ветром с берёз и вётел. А на дороге непролазная грязь. К вечеру ошалело по ветру мчавшихся на запад густых облаков, образуются небольшие редкие прогалины. На минуту выглянет в эту прогалину солнышко, полоснёт лучом землю и опять скроется. А к утру и вовсе выветрится первый морозец, оденет белесью прижухлую траву, слегка скуёт землю. В такое время крестьяне, завершив полевые работы, хлопотливо стараются, ухетывая свою избу, и затыкают дыры, образовавшиеся во дворах, чтобы скотине было теплее. Бабушка Евлинья, глядя в окно, неторопливо проговорила:
– Завтра студёно будет, вон как окошки-то плачут.
Наблюдая как на улице, подобно ледяным глыбам, по земле бесшумно, плыли тени облаков, причудливо изгибаясь на препятствиях на западной стороне неба. Молодой месяц, похожий на игрушечную серебряную лодку со вздёрнутым носом, одиноко плыл по бледно-голубому вечернему облачному небу!
А с востока на село медленно надвигалось тёмное одеяло ночи. Село окутал мрак ночи, натруженные за день люди спали. Кое-где в окнах поблёскивали желтоватые огоньки, а к полуночи и они погасли. Село затихло… Во дворе у Савельевых молодой петушок (видимо, только что приобрётший часы) впервые пропел, известив людей о полуночи. Но вот что печально, не успел он пропеть своё первое «кукареку», как на утро его поймали, закололи и сварили из него суп для семьи.
– Как плохо, что мы сегодня заленились, в лес за дровами не поехали! – сокрушаясь, высказался Василий Ефимович, крестясь, вылезая из-за стола после обеда.
– Пока за теплоту надо дровец запасти и двор утеплить. Пойду, запрягу, а ты Ваньк, собирайся, мы с тобой живо в лес съездим, дров воз привезём, – сказал отец, выходя во двор. – Вечно вы куда-нибудь запрягите варьги мои, – ворчал Василий Ефимович, отыскивая в печурках свои варежки.
– Куда клал, там и бери, – раздражённо вступилась Любовь Михайловна.
– Я их в печурку клал, а тут их уж нету!
– Найди, я укажу! – шутливо отговорилась Любовь Михайловна.
– Ты, отец, в лес-то на подмогу-то возьми Миньку. Что толку в Ваньке-то, ведь он ещё совсем ребёнок, какая в нём силёнка-то, ты его и так работой заневолил, парень расти перестал! – с жалостью заступилась мать за Ваньку.
– Ничего! – мы и с Ванькой дров быстренько накидаем…
Из села выехали быстро. Едя по гоновой дороге, Ванька, сидя в телеге, с интересом наблюдал за тем, как в глубоких осенних колеях колёса волнами гнали вперёд грязную воду. Вскоре въехали в лес. Не найдя в первом лесу подходящих дров, Василий Ефимович, решил поехать за реку Серёжу. В стороне от дороги виднелась поваленная бурей толщённая ель, её вырвало с корнем. Корни с вывороченной землёй, на фоне деревьев торчало мрачным щитом.
– Вот, пожалуй, мы эту ель и разработаем на дрова, – сказал отец Ваньке, подъезжая к буреломной ели.
Залежалую, тоже когда-то сваленную бурей, древесину уже поеденную короедом и жучком-дровосеком Василий Ефимович забраковал, а эту ель счёл для дров подходящей. Взяв в руки топор, отец принялся обрубать сучки, а Ванька – оттаскивать их подальше в сторону. Обрубив сучья, отец с Ванькой начали работать пилой, распиливая ель на кряжи по длине телеги. Где-то в стороне, подрубая дерево, предательски звонко звенел топор.
– Вон, кто-то с корня подрубает дерево! – проговорил отец Ваньке. – Бывало в старину, схорони бог, чтобы с корня свалить дерево, строгость в лесу была непомерная! – осведомил отец Ваньку о строгости лесных хозяев. – И в то же время у крестьян был свой лес, который бережливо сохраняли, боялись срубить надобный грабельник или черенок для лопаты.
Пока пилили кряжи на телегу, Ванька разогрелся и даже вспотел от натуги, а когда тронулись в путь домой, Ванька стал зябнуть и дрожать от холода.
– Эх, ты, зяблик! Дивуй бы зимой, осенью озяб! А ещё мужиком называешься! – незлобиво упрекал отец Ваньку.
У реки Серёжи догнали Семиона Селиванова, он на своей пегой кобыле тоже вёз воз дров. Перед препятствием, у реки Семионова кобыла остановилась, и ни с места: ни туда, ни сюда, ни взад, ни вперёд. Имеющая изнурённый вид лошадёнка, впалые ребристые бока, острые выступы кострецов, редкий отмызганный хвост, чтобы не упасть, ноги врастопырку.
– Осторожно переезжай реку-то, а то тут промытая водой круча, телега может перевернуться! – предупредил Семиона Василий Ефимович.
– Я и так гляжу, как бы не засесть в реке-то, да не обломаться, засветло бы доехать до дому! – мечтательно отозвался Семион.
При проезде через реку после дождей, переполненной водой, лошади воды оказалось по брюхо, да и сам Семион, сидя на возе, замочил обутые в лапти ноги. При выезде из воды на берег, Семион усиленно стал наддавать лошади кнута, послышались звуки тупого шлёпанья кнута о мокрую спину лошади. Пеганка, собрав все свои силы, натужно выволокла воз на крутой берег реки.
Сушка овинов. Мельница. Скандал
Наступили предзимние холода, мороз сковал землю, сверху напрашивался снежок. На озере на только что замёрзшем льду, около самого берега, чьи-то робкие, пробующие лёд, детские следы. Зима пугливо наступала, заставляя крестьянина поторапливаться с молотьбой и утеплением построек. По всему селу закурились овины, молотьба в разгаре, завертелись мельницы. Василий Ефимович всю эту ночь сидел в овинной яме, корпел, подсушивая ржаные снопы в садилах, готовя их к молотьбе. Придя утром домой для завтрака, Любовь Михайловна заметила, как от набившейся копоти в неглубокие морщинки на лице его он несколько как бы постарел, и морщинки стали заметней и выразительней. После завтрака вся семья Савельевых отправилась в овин и весь день была занята молотьбой. К вечеру обмолоченное из тёпленьких снопов, сухое и чисто отвеянное на веялки зерно отвозили в амбар. Нагрузив полную телегу мешков с зерном, Василий Ефимович без взважживания вожжей решил лошадь вести к дому за чёлку. Серый сначала попрял ушами, бельмами глаз, покосился на сидевшего на возе Ваньку, стронул телегу с места и пошёл по тропе чётко, ступая ногами. Сзади, привязанная к телеге возовая верёвка, извиваясь змеёй, волочилась по тропе, шурша по увядшей жухлой траве.
Ссыпав свежеобмолоченную, урожая этого года, рожь, в свободный сусек в амбаре, Василий Ефимович принялся насыпать для помола зерно прошлогоднего урожая. Неудобно отцу одному из сусека насыпать в мешки, надо насыпать и мешок держать, держать мешки он заставил Ваньку. Ванька мешок держит, а отец, поддевая лотком в сусеке, в него рожь сыплет. Мучительно долго отец насыпает пять мешков. Зимний холод вконец изнемогает Ваньку. Всё тело пронизывает мороз, особенно невыносимо зябнут обутые в лапти ноги. Чтобы скрыть от отца свою озяблость, Ванька для согрева молча старается подсунуть ноги под наполняющийся зерном мешок, но и это не спасает, озябшая в амбаре не холоде рожь не согревает, а ещё сильнее холодит в плохонькой обувке Ванькины ноги. Одежонка на Ваньке тоже не ахти какая тёплая, коротенький пиджачишко. Всё тело кругом одевает холодом, тело зябнет, ноги коченеют, только и держится Ванька тем, что по жилам течёт молодая играющая кровь. Сказать отцу, что «озяб» – боязно, отец обругает и назовёт позорным словом «зяблик», но это ещё ничего, а то и прибьёт за зяблость. И, видя, что Ванька совсем посинел, отец спросил его:
– Ты что, озяб что ли?
– Да-а-а! – еле выговаривает Ванька.
– А ну-ка скажи «Тпру-у»!
– Плу-у! – одеревенелыми от холода губами едва выговаривает Ванька возглас, которым обычно останавливают лошадь.
Только после этого отец верит, что Ванька действительно основательно озяб.
– Эх ты, зяблик! – не стерпев, обзывает отец Ваньку позорным словом. – Ну вот, последний мешок насыплем и домой! – наконец-то обрадовывает словами отец Ваньку.
А, закончив насыпку, отец приказывает:
– Поди выбеги из села, погляди в проулок, Егорова мельница мелет или нет? Давеча я смотрел, вроде она стояла.
Ванька вприпрыжку метнулся к проулку, на бегу тело и ноги несколько разогрелись. На виду у Ваньки, крылья мельницы, медленно переставали крутиться и совсем приостановились. А потом, видимо там снова подул сильный ветер, мельница снова резво замахала крыльями. «Значит, мелет», – решил Ванька и об этом сообщил отцу, который с возом мешков с рожью отправился на мельницу. По приезде с мельницы Василий Ефимович был не в настроении. Видимо, он был крайне недоволен тем, что смолоть рожь не удалось. Мельница из-за неустойчивого ветра то помелет, то встанет. Пришлось ему мешки с рожью оставить на мельнице и ждать время, когда подует упористый надёжный в помоле ветерок. Распрягши, пустив Серого в хлев и задав ему сена, Василий Ефимович вошёл в токарню, где над каталками трудились Минька, Санька и Ванька.
Чрезмерное радение и забота о хозяйстве не давали Василию Ефимовичу покоя, от чего в нём всегда перекипали прилежность с неимоверной требовательностью. И дело говорится: где честный труд, там и взыскательность! Показалось отцу, что сыновья вяловато трудятся, что работают с прохладцей:
– Что вы постоянно бездельничаете, стараетесь всё делать из-под палки. Как наёмники какие! Вдалбливаешь, вдалбливаешь вам в головы, что надо не покладая рук работать, а вы понимать не хотите, умниками себя считаете, а сами ни черта не смыслите. Пустые ваши башки! – с упрёком наговаривал отец сыновьям.
На что, Минька принял серьёзный вид, а Санька позволял притаённо улыбаться.
– Дела-то от вас нет, одно зубоскальство! – продолжал начитывать отец. – А надо, чтобы в семье всё в прок шло, а не на ветер развевало, хозяйство вести это вам не руками трясти. Вникайте во всякую малость и сами поймёте, что к чему! Это я вам говорю не в укор, а в деловое назидание.
– Да мы и так работаем, стараемся, – осмелился оправдываться, проговорил Санька.
– А ты поменьше вякай, зажми рот портянкой и помалкивай. Вижу, ты норовишь делать мне на зло! И в семье всякую смуту строишь! – злобно пыша ноздрями, со злопыхательством он размашисто рубанул рукой воздух, негодуя на смелость вступать в пререкания с отцом, Саньки.
Он стоял в проёме двери, весь напряжённый, в нём всё клокотало и назревало. Готово было прорваться наружу, подобно вулкану.
– Это вы что так разгневали отца-то? – вступилась в спор Любовь Михайловна, заслышав громкий разговор между отцом и сыновьями.
Чувствуя заступнический тон слов жены, Василий Ефимович несколько смяк и одумавшись, что позволил себе так чрезмерно и беспричинно разгорячиться, он вскоре снисходительно и замысловато позволил себе улыбнуться.
– Ну ничего, без науки и без назидания вы совсем от дела будете отлынивать. Я только хочу, чтоб мои слова мимо ваших мозгов не пролетали, вникайте и запоминайте их! – с одобрительной усмешкой, закончил поучение он.
В моменты, когда отхлынет от него буйное негодование, наплывали на него минуты бодрого веселья, в которые он доброжелательно и задорно великодушно смеялся и шутил.
Любовь Михайловна, имея по-женски жалостливый характер и чрезмерную любовь к детям, вертясь между взыскательным мужем и детьми, иной раз жаловалась соседкам-бабам:
– Бывают случаи, обидчиво взгрустнётся и слёзы покатятся из глаз, а ты их смахнёшь, да и снова за дело берёшься! Оно так в семье-то! Да особенно с такой кучей детей! От них ведь никуда не денешься, они ведь все свои!
Крестьяниновы. Утопленник
Крестьяниновы тоже молотили. На молотьбу в овин ушла вся семья, дома домовничать остался один дед. Старухи по случаю Юрьева дня ушли в церковь к обедне. Оставаясь дома, дед мотивировался тем, что:
– Пятьдесят пять годов итак отработал, пора и толк знать! – сказал он семье, которая отправилась в овин.
Бабы и Алёша с Мишкой стопы обхлыстывали об козлы, а отец «на колеснице», на току около овина облинал распущенные на солому сноповые обрубки. Панька вертелся то около хлыстальщиков, то около колесницы. Отлынивая от молотьбы, дедушка мотивировал ещё и тем:
– Старику немного надо! В одну руку кусок, а в другую – клюшку-подожок! Старики под уклон лет своих становятся, как дети, они говаривают: «Ребёнку пряник, а старику – покой!»
Заглянув и почитав священный катехизис, дед, воспользовавшись отсутствием семьи, решил на просторе всласть пообедать один. К тому же, не дождавшись общего обеда, он ощутил, что сильно проголодался. Вынув из залавка кусок варёного мяса, он принялся его есть, прикусывая с хлебом. Бесхвостый серый кот зачуяв мясной дух, проворно спрыгнул с печи, тупо стукнув лапами о пол. Кот жеманно щурив свои зелёные глаза, подъеферился к самому столу, увиваясь около дедовых ног, настойчиво замяукал, прося мяса.
– Вот нахал, уж увидел, всласть кусок проглотить не дадут! – с явной досадой на нахальство кота проворчал дед.