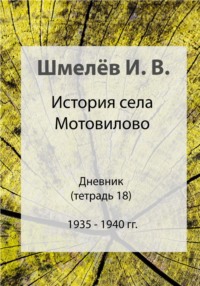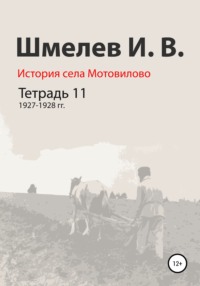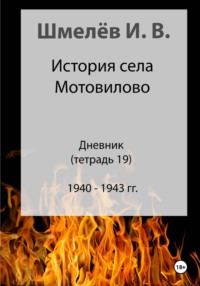полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 9 (1926 г.)
– Молодец! – коротко похвалил Паньку и хозяин аттракциона.
– Это что за штука? – спросил Паньку Серёга Федотов, когда тот, свистя ладонями, быстро соскользнул с шеста.
– Это примус. Вот сюда красин наливают, вот этой штучкой воздух надувают, а сюда вот зажжённую спичку подставляют, и он зашипит, как поспевающий самовар, а тут вот вспыхивает пламя, на которое ставь похлебку в чугуне, и она моментом сварится! – объяснил Серёге Панька, видимо, уже ранее имевший знакомство с назначением примуса.
– А ну-ка расступитесь. Я испробую! – вылезая из толпы, провозгласил Николай Ершов, отдавая в руки хозяина аттракциона приготовленные тридцать копеек.
– Эт я сходу! Я не такие высоты брал. И вообще, я верхолаз потомственный. Мой дед крыши на церквах красил. Иной раз до самого крестика добирался. Да я и сам-то в лесу, бывало, от медведя скрываясь, не такие высоты брал. А это для меня пара пустяков. Стоит мне одним приёмом махнуть и тама! И самовар будет в моих лапах! А давненько меня баба донимает самовар приобрести, а то чай-то пьём из чугуна, вот и подвалила лафа, сейчас за 30 копеек самовар схвачу! Сходу!
– А ты не уговаривайся, а полезай! – выкликивали из толпы.
– А вы дайте срок: будет вам и белка, будет и свисток! – он им.
Поплевав на ладони и уцепившись за шест, Николай визуально обвёл взором устремившихся на него мужиков, придав этим особую важность и оттенив геройством начало своего ухарского поступка. Толпа выжидающе притихла, только слышно было ляляканье в задних её рядах.
– А ты, Миколай, разуйся, всё легче будет взлезать-то, – сочувственно кто-то посоветовал ему из толпы.
– Я бы разулся, да боюсь, как бы лапости не занозить и щиколки не ободрать! – усмехнулся Николай.
– Да он вон какой гладкий, шестат, вишь, даже блестит.
И вправду, шест обшарпанный множеством рук, отполированный хватающимися за него ладонями, зеркально поблёскивал на солнце.
– Эх, где мои 17 лет! – ухарски провозгласил Николай и, подпрыгнув, оторвавшись ногами от земли, покарабкался по шесту вверх. Не добравшись до середины шеста, он приостановился, громко вздохнув, устало проговорил: «Нет, видать мало каши ел. Кишка тонка». И вдруг, сорвавшись с шеста, брякнулся на землю, раскорячисто распластался на песке. Его фуражка, слетевшая с головы, колесисто покатилась под ноги бушевавшей от смеха толпе: «Ха-ха-ха!» – каталась со смеху, надрывалась смехом толпа.
– Видать, я сам немножко сплоховал, – унимая грохочущий смех, проговорил Николай, поднимаясь с песка. – Надо бы, действительно, разуться, а я не послушал, – журил себя Николай. – А то бы я легонько до самовара добрался, – не теряя соблазна отговаривался он.
– Тебе, вить, баили, что надо разуться, а ты…
– Да я пожалел доморощенные подмётки, как бы их не поцарапать, а тятька-то мне их только одну пару подпришил! – добродушно отшучиваясь, Николай всё ещё продолжал отряхиваться от прилипшего к заду песка и пощупывал ушибленное место.
– А ты, Миколай, повтори приём-то, может, что и получится! – с явной подковыркой, смеясь, кто-то выкрикнул из толпы.
– А ты не подзуживай на сахар-то, он и так сладкий! – отозвался ему Николай. – Нет, мужики, больше не полезу, денег мало осталось. Мне баба на Ярмонку дала всего-навсего один целковый. Вот за 30 копеек я свою душу потешил, проиграл, а на остальные надо чего-нибудь ребятишкам купить, и надо свой желудок повеселить, в трактир надо зайти.
И он, протиснувшись сквозь весело улыбающуюся толпу, неторопливо шагая, направился в пивную.
В буйном веселии народной толпы прошла Ярмонка, а когда палящее солнце стало склоняться к вечеру, народ с неё стал расходиться и разъезжаться по сёлам, только чернухинцы оставались на площади – проводить Ярмонку до самого позднего вечера. А когда с Ярмонки повозвращались мотовиловцы домой, село во всех его концах огласилось музыкальными звуками: свистульками детских дудочек и гармошек, а также выстрелами из пугачей. А разговоров и воспоминаний о прошедшей Ярмонке на целую неделю хватит. Вечерами парни дарят девкам-невестам купленные на Ярмонке именные брошки, ленты, кольца и серёжки, угощают их пряниками и конфетками, а за это где-нибудь не на виду у людей девки позволяют своим женихам нежно поцеловать себя в щечку. Можно сказать, каждый с отроческих лет, ещё не достигнув юношества, должен привыкать к обстановке жениховства и невестничества. Таков уж специфический бытовой уклад деревенской действительности.
Дележка лугов. Обед. Рассказы Ершова
– Ну как, шабер, идём луга делить! – сказал Иван Федотов соседу Василию Савельеву, встретившись с ним вечером у ворот.
– Конечно, надо идти, раз луга закупили, то надо сенокос разворачивать, ждать нечего, – отозвался Василий.
– Да и время-то стоит подходящее, вон какое засушливое стоит, как бы засухи не было! – высказал своё беспокойство Иван.
– Оно, хотя, засухи-то может и не быть, однако дождя-то давненько не было, – заметил Василий.
– Завтра, наверно, дождик будет, – предчувственно сказал Иван.
– А чем ты это докажешь?
– Вон видишь, закат какой красный, это к дождю. И слышишь, петухи поют, а они поют всегда к перемене, – утвердил своё предчувствие наблюдательный Иван.
– А денёк-то поубавился! – заметил Василий.
– Пётр и Павел день на час убавил! – народной пословицей заключил Иван.
Предположение Ивана Федотова о дожде сбылось. Среди ночи откуда-то с запада взялась огромная дождевая с громом туча, она медленно наползала на село. Время от времени вспыхивающая молния окаймляла черную слоистую тучу, и в этот момент можно было различить, что она не сплошная, а имеет наслойку. Гром неторопливо, но с нарастающей силой разрастался в раскатистое громыханье, расползаясь во все стороны потемневшего от тучи неба, и там, в дали небесного свода, постепенно замирал, утихая. Через окна в избы мгновенно проскальзывал розоватый свет молнии, отсветом освещая в темноте сумрака, отдельные предметы утвари. После вспышки молнии в глазах ослеплённо темнеет, и какое-то время кажется, что в избе всё объято непроницательным мраком, но спустя несколько секунд глаза, попривыкнув, снова различают окружающие предметы. Ночная молния, с ярким блеском развергающаяся вверху над облаками, сопровождающаяся ударами грома, не так страшна, как дневная. Она не издаёт того сокрушающего, оглушительного треска, не сотрясает так землю, мало бывает случаев, что ночной грозой кого бы убило, и ночью не бывает града. После грома, как бы после артподготовки, на село хлынули потоки дождя. Он шумно хлестал о крыши домов, буйно хлобыстал в окна, обильно смачивая призасохшую землю. Всю ночь до утра невидимая колесница с грохотом разъезжала по тёмному небу, гремел гром, вспыхивала молния, и хлестал дождь. Чуткие ко всему старики и старухи, встревожившись оказией, не спали, они пугливо вслушивались, как ошалелый дождь чёртом царапал снаружи стены и скрежетал о ставни окон. К утру на рассвете дождь перестал, освещённые лучами восходящего солнца избы, помытые дождём, стояли торжественно и бодро. Небо, освободившись от больших тёмных туч, покрылось мелкими, похожими на овчинки, светлыми облачками, которые медленно плыли по ясному нежно-голубому небу.
Из-за обильного дождя, вылившего на землю море воды и намочившего всё вокруг, особенно в лесу, мужики в этот день делить луга не пошли. Василий Савельев налаживал косы, во дворе хлопотливо отбивал их молотком на пробойке, делая лезвия их тонкими и острыми. Косы для удобства на пробойке держал Ванька. По селу слышалось звонкое ритмичное звяканье пробивающих мужиками кос. Заслышав с улицы кликливое: «Вишни! Кому вишни! Не надо ли?!» Отец сказал Ваньке: «Поди, выдь, погляди, вон, кажется, майданская баба с вишней набивается. Скажи матери, чтоб купила фунта три на сенокос-то». Ванька поспешно убежал, и вишня была куплена, пять фунтов на пятиалтынный.
Ночной ливневый дождь пополнил водой озеро, в нём значительно повысился уровень воды, всплывшие, сюда принесённые для замочки кадушки, волнами унесло от мостков на середину озера в лопухи жёлтой кувшинки. На поверхности воды, отсвечивая на солнце, зыбилась мелкая серебряная рябь, а на зеркальной глади, где ряби нет, по поверхности озера, словно кто-то нарочно разукрасив озеро, виднелись цветы белой лилии. Похожие на чайные чашечки на блюдцах, они радовали глаз своим художественным изображением цветущей природы. Откуда-то из тростниковых зарослей слышалось утиное кряканье и кваканье лягушек. Над озером с игривостью и резвостью блаженно летали ласточки и крачки. В зеркальной воде в перевёрнутом виде отображались прибрежные амбары и колокольня церкви.
Полоскавшие бельё на мостках две молодые бабы, дружелюбно беседуя меж собой, старательно хлопали вальками, выбивая из белья грязь. Бабы увлечённо рассказывали друг дружке задушевные секреты и новости, вскоре они засмеялись и закатились в хохоте так, что в пору на них набивай обручи. Под их трепещущими в хохоте телами мостки ходуном ходили, отчего под мостками, целуя плоты, плюхала вода, гоня по обе стороны мостков мелкие волны, причудливо рвавшие на части перевёрнутые отображения в воде амбаров и колокольни. На мостках, на прибрежном плоту, опустив голые ноги в воду, наслаждаясь игрой, бултыхая ногами, взбивая ногами брызги и грязь, сидит паренёк лет шести. Он увлёкся забавой так, что и не слышит, как ругаясь, унимала его полоскавшая бельё мать: «Не бултыхай ногами-то! Не бултыши! Не мути воду-то! Не взбудораживай грязь-то! Дай бельё-то дополоскать. Тебе говорят! Ах, ты, неслушник ты этакий! Перестань! А то взбучку получишь!», – грозилась мать на сынишку, который, как назло матери, ещё пуще работал ногами. Рассерженная мать приготовилась проучить неслушника, но, заслышав в отдаленье гром, поспешно схватив белье и подхватив рукой сынишку, торопливо ушла с озера. Из-за церкви на село надвигалась синяя дождевая туча, сопровождаемая молнией и грозно разговаривающим громом. Гром долго и как бы неторопливо разгуливался где-то над громадиной синей тучи, которую беспощадно полосовала молния. Туча медленно надвигалась, она, словно одеялом, покрыла часть неба над селом, но дождя всё ещё не было. Вдруг над самой головой с треском ударил сильный гром. Он как бы стряхнул с тучи дождевые капли, которые словно брошенная горсть гороха забарабанили по железной крыше крестьянинова дома, оставляя после себя расползающуюся мокрядь. От нахлынувшего ветра листочки на деревьях зашевелились, кусты пришли в движение, ветви с усиливающимся ветром стало гнуть дугой. Шум дождя усилился, деревья в вершинах своих жалобно завыли, молния кромсала густую непроглядь дождевой стены, гром раскатисто гремел, будоражил всё кругом, сотрясая землю, отчего стекла в окнах устрашающе звенели, пугая маленьких ребятишек. «Свят! Свят!», – крестясь, вслух шепчет бабушка Евлинья при взблёстках, от которых в избе на мгновенье становится розово-сине светло и ужасно тихо. Вслед молнии пушечным выстрелом разверзается гром. «Вот он какой, приурезал!», – нарушив молчание собравшейся в избе всей семьи, проговорил Василий Ефимович, наблюдая в окно, как из водосборной лунки, пристроенной около карниза соседского дома, буйно хлещет вода. А вскоре эту лунку напором воды сорвало. Избы своими хребтинами крыш, упористо и устойчиво принимая напор хлобыстающего ливня, и скатами крыш равномерно разливали бурные потоки дождевой воды по сторонам.
С полчаса буйствовал дождь. Западная сторона неба внезапно посветлела, а вскорости из-за багровой уходящей тучи выглянуло солнышко. Над озером изогнулась двойная радуга. Ласточки с наслаждением и блаженством летали в пахнувшем озорном воздухе, сверкая своими белыми брюшками на фоне синей уходящей на восток тучи. Гром раскатисто и сердито громыхал вдали. Ребятишки, выскочив на улицу, с весёлым азартом озорно носились по улице. С засученными по колено портками, они ногами разбрызгивали во все стороны дождевую воду. Из сломанных ветром кустов ветлы изготавливали дудки и назойливо дудели. После обеда погожий выметался денек. Небо выяснилось, тёплое летнее солнышко ласково припекало наполненную влагой землю. Лужицы дождевой воды на улицах исчезли, грязь на дороге высохла. В нежно-голубом поднебесье, резвясь на разные манеры, кувыркаясь в воздухе, а иногда на мгновенья задерживаясь на одном месте, над селом летали стрижи. Выполосканный предобеденным дождём день под вечер ещё сильнее засиял ярким солнцем, словно разрумянившаяся невеста перед брачным венцом.
– Золотой дождь для хлебов выпал, – провозгласил Федор Крестьянинов, стоявший у угла своего дома, нарочито так громко, чтоб услышал сосед Василий Савельев.
– Да! Нечего сказать, дождик так дождик, землю досыта напоил, теперь весь сенокос пусть не льёт! – высказался по поводу дождя Василий.
– Это в честь мучеников Кузьмы и Демьяна, завтра их праздник, – с чувством знатока «святцев» пояснил Федор.
– Хотя и солнышко, а трава в лесу, наверное, к завтрему-то ещё не обсохнет! – высказал свое сомнение Василий.
– Обсохнет, не обсохнет, а завтра крайне надо идти луга делить, дальше откладывать нечего, – отозвался Федор. – Соберёмся и пойдём. Надо сказать шабру Ивану и всем остальным.
На следующий день оповещённые с вечера мужики собрались дружно спозаранку. Не дожидаясь запоздавших, они отправились в лес, делить закупленные ими так называемые выездновские луга для покоса.
– А где остальные-то мужики? – спросил запоздавший к общему сбору Николай Ершов у Ивана Трынкова, который, прообувавшись в лапти, тоже припозднившись, собрался идти туда же.
– Они наперёд ушли, нам с тобой догонять их! – отозвался Иван.
– Ждать да догонять хуже всего! – заметил Ершов, перекидывая с плеча на плечо мешок с харчами.
– Ну, пошли, потопали вдогонку! Идём прытче, мы их сейчас сустигнем, они, наверное, из села ещё не успели выйти! – самоуспокоенно проговорил Трынков.
Выйдя из села, у осиновского моста они толпу мужиков догнали, правда, при нажимистой ходьбе оба вспотели, взмокли. До леса, до места, где расположены луга, мужики шли почти молча, ведь туда не ближний свет – верст двенадцать с гаком будет, так что силу берегли на ход в пути туда и на обход для осмотра лугов на месте. У каждого на уме было: какие луга, сколько накосим, как доведётся высушить и как перенаправить домой сено.
По пришествию на место, немножко поотдохнув и покурив для бодрости, мужики приступили к обходу лугов и осмотру травы с целью её оценки по местам, чтобы правильно безобидно распределив, разыграть в жеребьёвке.
– Трава-то по пояс, а какая мокрющая, я весь пообсырел! – высказал своё впечатление о добротной траве и мокряди под ногами Ершов, плюхающий лаптями вслед Ивану Федотову, проминая визирку-межу.
– Да, хоть и солнышко, а трава ещё не успела пообсохнуть. Как ни говори, в лесу не в поле – не скоро просушит, тень от деревьев и место вон какое вязкое, – с деловитостью отозвался Иван.
Наконец, луга осмотрены, трава, по достоинству оценённая, разбита на паи, осталось приступить к жеребьёвке. Для отдыха, обеда и жеребьёвки мужики расположились у лесного ручейка. В зарослях кустов, пробираясь сквозь густую траву, журча поёт свою неугомонную песенку лесной ручеёк, напористо пробиваясь по извилинам русла. Здесь-то устало и поприсели натруженные в ходьбе мужики. Поразувшись из лаптей, на солнышке сушили обувь, поразвесив на кусты лапти и портянки. Долго и азартно разговаривали, советовались, как лучше поделить луга, чтоб никто не оказался обделённым, и никому не было обидно. Наморившись от долгого некурения, курили, сильно проголодавшиеся, раскрыв и потроша свои кошели, ели. Иван Федотов, примостившись на пеньке под отдельно стоявшей берёзой, с большим аппетитом уминал за обе щеки пирог величиной с добротный лапоть, начинённый мятой картошкой.
– Вот сгогочу и спать захочу! – тряся своей козьей бородкой, весело улыбаясь, шутливо высказался он.
– Ты и впрямь хочешь угомонить весь этот пирог одним залпом? – в шутку заметил ему Николай Ершов.
– Да-а! А что? – переспросил его Иван.
– Ну, тогда валяй! Оно, пожалуй, так-то и сподручнее будет! – отговорился Николай, тоже раскошеливая свои харчи.
– Да пора и с кошелём познакомиться, я чертовски проголодался! – проговорил и Василий Савельев.
После краткого обеда и передышки мужики приступили к жеребьёвке. Каждый для себя, вытесав из палочки, изготовил жребий, изобразив на нём свою мету или написав фамилию. Маленький, невзрачный на вид, этот самый жеребий всех усмиряет, он, всех уравнивая, успокаивает, всех наделяя поровну. По предварительной договорённости и по общему согласию, чтоб наполовину сократить труды по обходу и оценке травы на лугах, мужики решили паи нарезать на пару, т.е. на двоих хозяев. Крайний пай, с которого начинались все луга, решили увеличить площадью, в смысл того, что в этом месте, на середине этого пая, находится большая впадина – низина с застоявшейся в ней после дождя водой, но зато травища в ней по грудь и в непрокос. Василию Ефимовичу в душе хотелось, чтоб этот «богатый» пай достался ему. По его визуальному предположению сена будет не меньше возов шести, пудов по сорок, вместо 3-4-х возов на обычных паях. Значит, есть резон зариться на ней. Мужики приступили к метанию жеребьёв. Бойкой руки мужик Михаил, резвым своим языком, громко смеясь, объявил: «А ну, бросайте свои жеребьи в шапку». Шапку он держал в руках и, создавая вид роковой тайны, потрясал её в воздухе у всех на виду. Все мужики с пожеланием для себя счастья, благоговейно побросали свои жеребьи в шапку. Михаил ещё сильнее стал трясти шапкой, тщательно перемешивая в ней жеребьи.
– А ну, приступаем тянуть, – продолжал громогласить Михаил. – Хотя стоп, возможно, кто добровольно возьмёт этот крайний пай, который мы с общего согласия определили, как трудоёмкий?
– Я беру! – не дожидаясь перехвата, с задором выкрикнул Василий Ефимович.
– Ну как, мужики, согласны по добровольности отдать ему этот пай? Ведь только с его рабочей семьёй тут можно справиться.
– Согласны! Пусть берёт! – дружно кричали мужики.
– Тогда, Василий Ефимович, забирай свой жребий из шапки, он теперь не играет. На, возьми его!
Василий взял свой жеребий и дрожащей рукой, как талисман счастья, положил его поглубже в карман.
– А кто с ним на пару-то пойдёт? – выкрикнул кто-то из мужиков.
– Я! – выкрикнул из толпы Иван Трынков. Я от Василия Ефимыча ни на шаг, мы с ним вместе будем сенокосничать!
– Ну, тогда и ты забирай свой жеребий!
И Михаил, пошевырявшись в шапке, отыскал трынков жеребий и отдал его Ивану. А Михаил, так же задорно и громко крича и в воздухе азартно тряся шапкой, проглагольствовал:
– А ну-ка, Николай, тяни первого резвого, у тебя вроде как рука-то лёгкая! – обратился Михаил к Ершову.
– Не так, что больно лёгкая, у меня рука-то, но счастливая! – отозвался Николай и вытянул из шапки жеребеёк.
– Иван Федотов! – во всё горло прогорланил Михаил во всеуслышание. – Ну, Иван, твой пай второй, смежный с Савельевым.
– Вот что значит счастье-то, в селе мы с ним шабры и здесь соседи! – довольный тем, что ему достался неплохой пай и на пару с Лабиным Василием Григорьевичем.
Шумная толпа мужиков всё дальше и дальше удалялась от крайних уже разыгранных паёв. По мере разыгрывания жеребьев в шапке оставалось всё меньше и меньше, и толпа всё таяла и таяла. Мужики, всяк получив свой пай, оставались на нём ещё, с ещё большей подробностью осматривали его, обходили, ещё знатнее протаптывали межи, делая промины в траве и затёсы на деревьях, оказавшихся на меже.
Василий Савельев с Иваном Трынковым, обойдя их пай кругом, осмотрели траву, уточнили межу.
– Ну как, Иван Васильевич, будем между собой так же жеребий метать или без него обойдемся? – спросил Василий Ивана.
– Ты вот что, Василий Ефимович, ты бери этот конец с низиной, а мне отдай тот конец пая, там мне уж больно поляна понравилась.
– Ну, так что, давай порешим по-твоему, – согласился Василий.
И они на добровольных началах определили поперечную межу. Перед тем, как идти домой, мужики договорились собраться снова на том месте у ручейка, где обедали. Закончив жеребьёвку, мужики снова сошлись к ручью. Они теперь успокоенно расположились на отдых, чтоб запастись силами и подкрепиться едой перед тем, как пуститься в обратный путь. Снова зашумели кошелями, зашебушили, раскрывая их и доставая из них остатки принесённого из дома провианта. Николай Ершов, всех раньше разделавшись со своими пирогами и лепёшками, шутливо проговорил:
– Бог напитал – никто не видал! Сыт, покуда съел полпуда! Теперь надо попить у приволья-то! – с весельем балагурил он.
Спустившись к ручейку и припав на колени, сложив ладони ковшечком, он, аппетитно напившись, крякнул от удовольствия. И отерев мокрые усы подолом рубахи, отошёл от ручейка, выбрав подходящее место на возвышенности, блаженно развалился на обсохшей траве.
– Теперь и отдохнуть не грех! После трудов праведных, на травке поваляться! Лафа! Одно удовольствие!
– Мужики! Я вам вот что расскажу, – обратился Николай к мужикам, часть которых ещё ели, не торопясь откусывая, жевали, подытоживали остатки пищи, некоторые наслаждённо курили, а некоторые, растянувшись на траве, грели своими брюхами прохладь земли.
– Ну-ну, давай наворачивай, а мы послушаем, теперь луга распределены, трава растёт, время у нас пока свободное, так что и побалагурить есть когда, – подзадорил его согласием слушать Михаил.
И он своим шепелявым языком начал своё длинное повествование.
– Ну, так вот. Этой весной, грешным делом, втемяшилось мне к Дуньке Захаровой вечерком заглянуть. Причины-то особой не было, а так просто захотелось мне с ней «в свои козыри сыграть». А у нас с ней ранее договорённость была. Когда я у неё порядился уборку убирать, то окромя платы за пахоту, сев и прочее я с неё ещё выговорил дополнительные услуги. Я ей тогда и говорю: «Ну вот, я теперь буду твою землю пахать и сеять, а я к тебе буду изредка захаживать, а ты мне изредка будешь подавывать, оно дело-то и пойдёт, как по маслу! Согласна или нет?» – спрашиваю я её. «Согласна!» – отвечает она мне. «Ну, вот и дело с концом», – думаю я. Вот, однажды вечерком мне и вздумалось забрякаться к ней. А шёл, как обычно, потаённо, по задворочной тропе, чтобы люди-то не все видали. Дошёл до ее огорода, торкнулся в воротцы, а они заперты. Я, недолго думая, махить через плетень и угодил всей харей прямо на борону. Зажал ладонью лицо-то, чую, кровища хлынула, себя проклинаю с досады. Вот с тех пор у меня всё рыло в царапинах и оказалось, и стало ещё рябее. Обтёр я тогда немножко кровь-то и в задние ворота хмырь во двор, а там темнотища, как у негра в заднице. Во мраке-то со столбом поцеловался, щупаю, а на лбу-то шишка с голубиное яичко вскочила.
– Ха-ха-ха! – смеялись мужики, поглаживая свои животы.
– Я в сени и тайком в избу вкатился. А с печи стариковской голос раздаётся: «Кто тут?» У меня от незадачливости волосы на голове дыбом – на её отца напоролся. Вот тебе фунт изюму. Я виль с одной темы на другую и, как ни в чём не бывало, спрашиваю в темноте-то: «Дядя Ермолай, ты случайно не знаешь ли, чем лошадь от опоя лечить?». А он и говорит: «Нет, не знаю, у меня, – говорит, – весь век лошади-то не бывало, так что ты, – говорит, – не по адресу обратился». А я всё же чувствую, что он догадался, что я не по лошадиному вопросу появился в его доме. Я со стыда, пользуясь маскировкой темноты, рот раззявил и язык от совести повывалил, как ребёнок маленький. «Ну, так я в другое место обращусь!» – говорю я ему, а сам задом, задом, да к выходу и айда домой. Но дело-то меня не на шутку залачило. Я денька через два снова в любовный поход, снова к Дуньке. На этот раз, на моё счастье, отца её дома не было, и шесть ночей кряду, и пришлось мне наслаждаться с ней: видимо, она меня наконец-то спознала, и я, видимо, её чем-то прельстил. И повадился я к ней как медведь на пчельник. А потом со мной в один прекрасный день приключилась досадная осечка. Моя баба каким-то способом разнюхала о моих проделках, взяла да и сходила к ворожее-знахарке, выхлопотала для меня невстаниху. В общем-то, удружила по-свойски то! После длительного перерыва я снова затесался к ней с целью возобновить любезные «шуры-муры». Она меня приняла, не оттолкнула. Развалилась на постели, дала доступ ко всем частям своего тела, а куда мне надо – никак не ворвусь: свила ноги верёвкой, и ни в какую. Я около неё и так, и сяк, а она, видимо, не в настроенье: давать не даёт, и караул не кричит!
В приливе блаженного самодовольства он смачно улыбнулся, и тут же лицо расползлось, расщерблячилось в приступе задорного ярого смеха.
– Вот тут и приступись к ней, только меня мучает, из сил изводит. Пока я на постели-то воевал с ней, азарт у меня кончился, чую – в штанах засырило. Я на время и приутих. А она, видимо, спохватилась и ко мне всем передом начала жаться. И когда вопрос коснулся «дела», я так и сяк, а моя стрелка на «шести часах» остановилась и ни с места! Она видит, что дело-то обстоит плохо, повернулась ко мне задом, вся изогнулась коромыслом и укоризненно проговорила: «Эх ты, Баран Иваныч, убирайся отсюда, пока цел». Я от стыда и конфуза спрыгнул с кровати-то с высунутым от позора языком, в темноте-то кое-как нашарил свои штаны, да и драпа. Бегу да оглядываюсь: не настигает ли погоня?