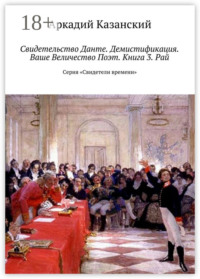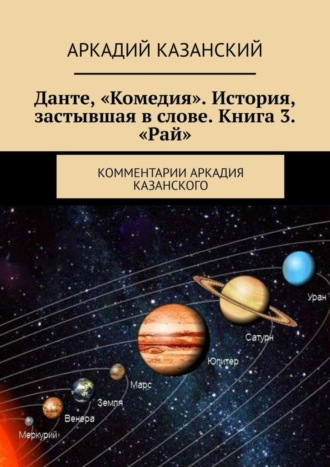
Полная версия
Данте, «Комедия». История, застывшая в слове. Книга 3. «Рай». Комментарии Аркадия Казанского
При словах речи Иосифа в душе Данте взыграло ликование; он спросил душу Иосифа: «Почему такое сладкое зерно дало такие горькие всходы?»
Иосиф ответил, – поэту нужно повернуться лицом к истине, а не стоять к ней спиной.
Господь, приводящий в счастье и вращение мир, преображает его в силу Своего провидения. Этот мир, где всходят Данте и Беатриче, состоит не из эфемерных светов, а из тел, имеющих поверхность и недра. Господь предусмотрел не только бытие своих лучших творений, но и их лучший удел. Лук Господа стреляет всегда точно и по провидению меткого глаза стрелка.
Иначе, говорил Иосиф, – не имея опорой Твердь, ты встретишь на пути такие непреодолимые препятствия, что вместо великого творчества будешь уничтожен, и человечество тебя быстро забудет. Это будет означать, – умы ангелов, вращающих сонмы светил, слабы, и мудрость питающего их Господа также слаба. Иосиф спросил: «Разъяснить ли тебе ближе эту мысль?» Поэт, постигший Божественную мудрость, поблагодарил и подтвердил: «Безрассудно мыслить, что можно пойти против природы».
Иосиф продолжил беседу, доказывая поэту, – корни деяний человеческих различны. Люди должны быть согражданами и прибегать для разных дел к многоразличным званиям, проще говоря, общество должно делиться на касты и цеха. При этом он сослался на Аристотеля, доказывавшего необходимость разделения труда для общественного благоустроения.
Ксеркс – тип воителя. Солон – тип государственного деятеля. Мельхиседек (библейский священнослужитель) – тип церковника. Родитель того, кто пал, на крыльях вознесён – Икара – мифический Дедал – тип учёного-изобретателя и художника. Вращение светил, влияющее на человеческую природу, исполняет своё предназначение, не считаясь с происхождением человека.
Ещё в зерне – во чреве матери – библейский Исав не был похож на своего брата-близнеца Якова. Квирин = Ромул, первый царь «Древнего Рима». Он считался сыном безвестного отца, но молва считала его сыном Олимпийского бога Марса и внуком Зевса-Громовержца. Потомки во всём были бы похожи на предков, если бы не вмешательство Божьего промысла.
«Хочу, чтоб вывод был тебе плащом», – завершая приобретённое тобою знание, как плащ завершает одежду. Когда человек идёт против своей природы, ничего хорошего из этого не получается. Также плохо, когда человека, рождённого для своего пути, против его воли заставляют заниматься другими делами. И если мир будет идти за основами природы, понимая её, он будет лучше, преуспев в великих людях.
Кто родился меч нести, и кто казнодей (проповедник), узнаем из следующей песни. Император Иосиф сказал будущему папе Пию «VI», – папский двор не очень хорошо разбирается, кого нужно ставить на царский престол, а кому выбривать тонзуру, поэтому след сбивается с верного пути и: «папский посох пока не правит светом».
Рай – Песня IX
Третье небо – Венера (окончание). Данте описывает своё ближайшее окружение.
Когда твой Карл, прекрасная Клеменца,Мне пролил свет, он, вскрыв мне, как враждаОбманет некогда его младенца, 3Сказал: «Молчи, и пусть кружат года!»И я могу сказать лишь, что рыданьяЖдут тех, кто пожелает вам вреда. 6И жизнь святого этого сияньяОпять вернулась к Солнцу, им полна,Как, в мере, им доступной, все созданья. 9Вы, чья душа греховна и темна,Как от него вас сердце отвратило,И голова к тщете обращена? 12И вот ко мне ещё одно светилоПриблизилось и, озарясь вовне,Являло волю сделать, что мне мило. 15Взор Беатриче, устремлён ко мне,В том, что она с просимым согласилась,Меня, как прежде, убедил вполне. 18«Дай, чтобы то, чего хочу, свершилось,Блаженный дух“, – сказал я: „Мне явив,Что мысль моя в тебе отобразилась». 21Свет, новый для меня, на мой призыв,Из недр своих, пред тем звучавших славой,Сказал, как тот, кто щедрым быть счастлив: 24«В Италии, растленной и лукавой,Есть область от Риальто до вершин,Нистекших Брентой и нистекших Пьявой; 27И там есть невысокий холм один,Откуда факел снизошёл, грозоюКругом бушуя по лицу равнин. 30Единого он корня был со мною;Куниццой я звалась и здесь горюКак этой побеждённая звездою. 33Но, в радости, себя я не корюТакой моей судьбой, хоть речи этиЯ не для вашей черни говорю. 36Об этом драгоценном самоцвете,Всех ближе к нам, везде молва идёт;И прежде чем умолкнуть ей на свете, 39Упятерится этот сотый год:Тех, чьи дела величьем пресловуты,Вторая жизнь вослед за первой ждёт. 42В наш век о ней не думает замкнутыйМеж Адиче и Тальяменто людИ, хоть избит, не тужит ни минуты. 45Но падуанцы вскорости нальютДругой воды в Виченцское болото,Затем что долг народы не блюдут. 48А там, где в Силе впал Каньян, есть кто-то,Владычащий с подъятой головой,Кому уже готовятся тенёта. 51И Фельтро оросит ещё слезойГрех мерзостного пастыря, столь чёрный,Что в Мальту не вступали за такой. 54Под кровь феррарцев нужен чан просторный,И взвешивая, сколько унций в ней,Устал бы, верно, весовщик упорный, 57Когда свой дар любезный иерейПреподнесёт как честный враг крамолы;Но этим там не удивишь людей. 60Вверху есть зеркала (для вас – Престолы),Откуда блещет нам судящий Бог;И эти наши истинны глаголы». 63Она умолкла; и я видеть мог,Что мысль она к другому обратила,Затем что прежний круг её увлек. 66Другая радость, чьё величье былоМне ведомо, всплыла, озарена,Как лал, в который Солнце луч вонзило. 69Вверху весельем яркость рождена,Как здесь – улыбка; а внизу мрачнеетТем больше тень, чем больше мысль грустна. 72«Бог видит всё, твоё в нём зренье реет», —Я молвил: «Дух блаженный, и ничьяМысль у тебя себя украсть не смеет. 75Так что ж твой голос, небо напояСреди святых огней, чей хор кружится,В шести крылах обличия тая, 78Не даст моим желаньям утолиться?Я упредить вопрос твой был бы рад,Когда б, как ты в меня, в тебя мог влиться». 81«Крупнейший дол, где волны бег свой мчат», —Так отвечал он: «Устремясь широкоИз моря, землю взявшего в обхват, 84Меж розных берегов настоль глубокоУходит к Солнцу, что, где прежде былКрай неба, там круг полдня видит око. 87Я на прибрежье между Эбро жилИ Магрою, чей ток, уже у ската,От Генуи Тоскану отделил. 90Близки часы восхода и закатаВ Буджее и в отечестве моём,Согревшем кровью свой залив когда-то. 93Среди людей, кому я был знаком,Я звался Фолько; и как мной владелоВот это небо, так я властен в нём; 96Затем что не страстней была дочь Бела,Сихея и Креусу оскорбив,Чем я, пока пора не отлетела, 99Ни родопеянка, с которой лживБыл Демофонт, ни сам неодолимыйАлкид, Иолу в сердце заключив. 102Но здесь не скорбь, а радость обрели мы,Не о грехе, который позабыт,А об Уме, чьей мыслью мы хранимы. 105Здесь видят то искусство, что творитС такой любовью, и глядят в Начало,Чья благость к высям дольный мир стремит. 108Но чтоб на всё, что мысль твоя желалаЗнать в этой Сфере, ты унёс ответ,Последовать и дальше мне пристало. 111Ты хочешь знать, кто в этот блеск одет,Которого близ нас сверкает слава,Как солнечный в прозрачных водах свет. 114Так знай, что в нём покоится РааваИ, с нашим сонмом соединена,Его увенчивает величаво. 117И в это небо, где заостренаТень мира вашего, из душ всех ранеВ Христовой славе принята она. 120Достойно, чтоб она среди сиянийОдной из твердей знáменьем былаПобеды, добытóй поднятьем дланей, 123Затем что Иисусу помоглаПрославиться в Земле Обетованной,Мысль о которой папе не мила. 126Твоя отчизна, стебель окаянныйТого, кто первый Богом пренебрёгИ завистью наполнил мир пространный, 129Растит и множит проклятый цветок,Чьей прелестью с дороги овцы сбиты,А пастырь волком стал в короткий срок. 132С ним слово Божье и отцы забыты,И отдан Декреталиям весь пыл,Заметный в том, чем их поля покрыты. 135Он папе мил и кардиналам мил;Их ум не озабочен Назаретом,Куда раскинул крылья Гавриил. 138Но Ватикан и чтимые всем светомСвятыни Рима, где кладбúще тех,Кто пал, Петровым следуя заветам,Избудут вскоре любодейный грех». 142Клеменца – имя редкое и в окружении Данте нашлось скоро.
(1702—1735 годы) – внучка польского короля Яна «III» Собесского (того самого, чей: «Щит Собесского» был вознесён на звёздное небо Яном Гевелием). Мария Клементина Собесская 15
Дочь Якова Людовика Собесского (1667—1737 годы), старшего сына короля Яна «III», и графини Хедвиги Елизаветы Амелии Нойбургской (1673—1722 годы). Её старшая сестра Мария Каролина (известная как Шарлотта) была замужем за герцогом Бульонским.
Мария Клементина считалась одной из самых богатых наследниц Европы. Король Георг Английский был настроен против намечавшегося брака Марии Клементины и Джеймса Стюарта, претендовавшего на английский престол и получавшего возможность иметь законных наследников.
Император Карл «VI», действуя в интересах английского короля, арестовал Марию Клементину, направлявшуюся в Италию для вступления в брак с Джеймсом Стюартом. Она была заключена в Инсбрукском замке, но ей удалось оттуда бежать в Болонью, где она по доверенности вышла замуж за Джеймса Стюарта, который в то время находился в Испании.
Отец Марии Клементины, Яков Собесский встретил с одобрением весть о её побеге, заявив, – поскольку она помолвлена с Джеймсом Стюартом, то должна следовать за ним.
Мария Клементина и Джеймс Стюарт формально стали супругами 3 сентября 1719 года в часовне епископского дворца в Монтефьясконе. По приглашению папы Климента «XI», признавшего их королём и королевой Англии, Шотландии и Ирландии, Джеймс и Мария Клементина поселились в Риме.
Климент «XI» и его преемник Иннокентий «XIII» считали католиков Джеймса и Марию Клементину законными королём и королевой Англии. Папа предоставил им охрану, выделил для проживания палаццо Мути на римской Пьяцца ди Санти Апостоли и загородную виллу в Альбано. Ежегодно супругам из папской казны выплачивалось пособие – 12 000 крон.
Совместная жизнь Джеймса и Марии Клементины оказалась недолгой. Вскоре после рождения их второго ребёнка, Мария Клементина оставила мужа и удалилась в Римский женский монастырь Святой Цецилии. Причиной разрыва, по её словам, стала измена мужа. Джеймс настаивал на возвращении жены, утверждая, – греховно оставлять его и их детей. Однако через два года супруги развелись.
Мария Клементина умерла 18 января 1735 года. Она похоронена по распоряжению папы Климента «XII» с королевскими почестями в Соборе Святого Петра. Папа Бенедикт «XIV» заказал скульптору Пьетро Браччи (1700—1773 годы) надгробный памятник Марии Клементине.
У Марии Клементины и Джеймса Стюарта родились два сына:
Был женат на Луизе Штольберг-Гедернской. Карл Эдвард Луи Филип Казимир Стюарт (1720—1788 годы), или «Красавчик принц Чарли», претендент на английский и шотландский престолы как Карл «III» в 1766—1788 годах.
Генри Бенедикт Мария Клемент Томас Фрэнсис Ксавьер Стюарт (1725—1807 годы), кардинал, герцог Йоркский. Якобитский претендент на английский и шотландский престолы с 1788 года под именем Генриха «IX».
Такое обилие имён высокородных особ было в порядке вещей в Средние Века. Имя новорожденному давали отец, мать, деды, бабки, короли, папы, кардиналы, каждый своё. К сожалению, современные справочники и энциклопедии сохранили нам для царей, королей и прочих высокородных особ только по одному, редко 2 имени, так что здесь мы имеем дело со счастливым исключением. Это сегодня, при рождении младенца в семьях идут жаркие споры, – как его назвать. В результате выбирается одно имя, к торжеству одних и вящему неудовольствию других родственников.
Он был вынужден мечтать о своих правах на трон долгие годы. О нём сказано (Ад песнь XVI). У его имён есть и польские истоки – Казимир. Вот и появился Карл (точнее, Карл Эдвард Луи Филип Казимир), которого, ещё младенца, обманула вражда – сын Марии Клементины Собесской.
Имя ему дали также папы Климент и Бенедикт. После Карла Эдуарда, не оставившего законных детей, якобитским претендентом стал его брат, кардинал Генрих Бенедикт (точнее Генри Бенедикт Мария Клемент Томас Фрэнсис Ксавьер) Стюарт (как «Генрих «IX»). С его смертью в 1807 году род Стюартов пресёкся.
Карл Эдуард, проведя практически всю свою жизнь возле папского трона в Авиньоне, стал лучшим другом Данте, а впоследствии и папы Пия «VI», как Боккаччо. С его смертью практически пресёкся род Стюартов – это сияние возвратилось к Солнцу.
Из этих строк ясно, о ком вёл речь император Иосиф в предыдущей песне. Папскому двору лучше было бы признать королём Англии и Шотландии не Карла Эдуарда, а его брата, Генриха Бенедикта, ставшего кардиналом (его притащили к церковному елею).
К Данте приблизилось ещё одно светило, желающее раскрыться перед ним. Он оглянулся на Беатриче, прося позволения переговорить с ним, на что та с готовностью дала согласие. Он попросил блаженного духа, чтобы тот, прочтя его мысли, дал ответ, который он хочет услышать.
Между владениями Венеции, с её главным островом Риальто, и горами, с которых стекают реки Брента и Пьява (Пьяве), расположена «Тревизанская марка». Невысокий холм на «Тревизанской марке» – холм и замок фамилии Романо.
В замке есть великолепная картина художника Джулио Романо, на которой изображена Гекуба – жена царя Трои – Приама, в тот момент, когда ей снился сон, описываемый Данте [Рис. Р. IX.1].
Р. IX.2 Сон Гекубы на фреске Джулио Романо (1492—1546 годы).
Гекубе, жене Приама, царя Трои, перед рождением Париса снился сон, – она родила факел, который сжёг всё вокруг. Родился Парис, виновник «Троянской Войны», похитивший Прекрасную Елену у царя Менелая, брата царя Агамемнона.
(точнее ) Гекуба Гекаба – в древнегреческой мифологии вторая жена царя Приама, по Гомеру – дочь фригийского царя Диманта (либо, по Еврипиду, дочь Киссея; либо дочь реки Сангария и Метопы). 16
Император Тиберий интересовался, – кто мать Гекубы, по различным версиям, её звали Евфоей, Евагорой, Телеклеей, Метопой или Главкиппой.
Мать 19 или 20 сыновей. На надгробии Гектора оставила прядь волос. Первенцем её стал Гектор. Во время второй беременности Гекуба увидела во сне, – она носит во чреве факел, который подожжёт всю Трою; сон был истолкован в смысле рождения сына, который принесёт гибель Трое. Этим сыном стал Парис.
После взятия Трои она попала в рабство. По одной версии, при дележе она стала добычей Одиссея, по другой, её взял Гелен и переправился с ней в Херсонес. Согласно поэме Стесихора «Гибель Илиона», была перенесена Аполлоном в Ликию. Она превратилась в собаку, и он похоронил её на месте, называемом Киноссема.
По Еврипиду (в трагедии, которая была названа её именем), она пережила ещё принесение в жертву греками её дочери Поликсены и смерть сына Полидора, который был убит фракийским царём Полиместором; отомстив этому последнему, вырвав его глаза, она бросилась в море.
По Гигину, она бросилась в море и стала собакой, когда Одиссей уводил её в рабство. По другим версиям, либо была забита камнями до смерти, – её забили камнями фракийцы, либо превратилась в собаку и окаменела.
[Рис. Р. IX.1] Могила Гекубы – Киноссема (Курган псицы) Кенотаф Гекубы в Сицилии воздвиг Одиссей. .
Р. IX.1 Фонтан делле Тетте (fontana delle Tette) – «Фонтан титек» в Тревизо, поставленный в 1559 году. Памятник царице Трои – Гекубе, вскормившей своим молоком три десятка своих детей, среди которых были Гектор и Парис. Настоящая «Киноссема» – памятник «псице».
Парис – сын Гекубы, одного с ней корня. Имя легко увидеть в имени превратившейся в собаку Гекубы – . Гекуба была прозвана собакой не из-за того, что залаяла над телом своего сына Полидора (кровь которого Данте видел выступающей из отломанной ветви дерева), не оправившись ещё от жертвоприношения дочери Поликсены, а получила прозвище из-за высокой плодовитости. Судите сами, – 19 или 20 сыновей и несколько дочерей (Кассандра, Поликсена, Иксиона и др.), что можно сравнить с плодовитостью собаки, которая мечет много щенков. Куницца Киноссема или Киноццема
Русское название зверька породы куньих – , переводится точно, – «». Ещё более точно это название звучит у её сибирской разновидности – . куница собачка соболя
или Парис Александр – в древнегреческой мифологии сын Приама и Гекубы, с именем которого связана «Троянская Война». 17
По одному рассказу, он был вторым сыном Гекубы. По-другому, родился, когда у матери было уже много детей. Мать увидела во сне, что родила горящий факел, из которого выползло множество змей (либо видела, что родила огненосную Эриннию со 100 руками).
Напуганные таким предвещанием родители по рождении ребёнка велели рабу Агелаю отнести его на гору Иду и оставить там на произвол судьбы; но и воспитали в своей среде пастухи (или слуга Приама – Агелай). младенца вскормила медведица (по версии, собака)
Юный Парис подрос и стал пастухом идейских стад; его возлюбленной была нимфа Энона. Получил прозвище Александр, так как отражал разбойников.
В пастушеской обстановке застали его три богини, которых Зевс приказал Гермесу отвести на Иду, чтобы Парис рассудил их. Гера, Афина и Афродита пришли к нему за разрешением спора, – кто из них прекраснейшая. Они явились Парису на Иде обнажёнными. По Страбону, суд над богинями происходил на горе Александрия у Адрамиттского залива. Гера обещала ему господство над Азией, Афина – победы и военную славу, Афродита – обладание прекраснейшей женщиной; он предпочёл последнее, приобретая этим себе и своему народу в Афродите постоянную покровительницу.
Вскоре после этого Кассандра признала в нём брата, и таким образом Парис обрёл родной дом. Согласно трагедии Еврипида, у него был любимый бык, который стал наградой на погребальных играх Александра, где Парис одержал победу. Победил на играх в беге, пятиборье и кулачном бою.
Вопреки предостережениям Эноны, Парис, по совету Афродиты, отправился в Амиклы, покинув любившую его нимфу. Построил корабль из елей на Иде, чтобы плыть в Спарту, либо из леса, срубленного на Фалакре. Совершил плавание в Спарту с девятью кораблями.
Наделённый богиней Афродитой всеми чарами красоты и прелести, он понравился гостеприимным хозяевам и особенно прельстил Елену. Между тем Менелай отправился на Крит, а Диоскуры были заняты спором с афаретидами; воспользовавшись отсутствием защитников Елены, Парис убедил её бросить дом супруга, и отплыл с ней ночью в Азию, взяв много сокровищ из дворца Менелая. Этот поступок Париса послужил поводом к «Троянской Войне». Похитив Елену, Парис впервые сочетался с ней на острове Краная (около берегов Лаконики), построив напротив храм Афродиты Мигонитиды. Плывя из Спарты в Трою, он посетил Сидон (либо прибыл сразу в Трою на третий день).
В последовавших битвах Парис принимал мало участия и лишь после настойчивых и оскорбительных увещаний брата Гектора вступил в единоборство с Менелаем, кончившееся тем, что Афродита спасла своего любимца от неминуемой смерти. В «Илиаде» убил 3-х греков. Согласно эпосам, именно Парис (или Аполлон из его лука) поразил стрелой в пятку неуязвимого и непобедимого Ахилла.
Вскоре Парис был смертельно ранен Филоктетом; стрела была ядовитая, и он обратился к своей первой супруге за исцелением, но она отказала ему в помощи, и он умер от раны. Энона не пережила всё ещё любимого супруга.
Могила Александра и Эноны находится на равнине Кебрения в Троаде. Его лиру показывали в Трое Александру Великому.
По Дарету, суд Париса являлся сном. По интерпретации, он не судил богинь, а сочинял их энкомий.
Гекуба, в радости пребывания в объятиях Рая, на Венере, побеждённая звездой Любви, не корит себя за то, что пережила смерть всех своих многочисленных детей (в этом её можно сравнить только с Ниобой, окаменевшей после того, как Артемида и Аполлон истребили семерых её дочерей и семерых сыновей).
По отождествлению в [3] Парис являлся первым императором «Священной Римской империи германской нации» Фридрихом «III» Габсбургом (1415—1493 годы), мужем Элеоноры Португальской (1434—1467 годы), защитником Константинополя = Восточного Рима, где он был коронован в 1452 году, как император, в «Троянской Войне» = осаде и взятии Константинополя в 1453 году войсками 27-ми стран Европы, во главе с Магометом «II» Завоевателем (Фатихом), кому Троада и досталась в обладание, став впоследствии Османской империей. Гектор там же отождествлён с Джоном Тальботом (Британским Ахиллесом), защитником Константинополя, павшим у его стен. Приам отождествлён с императором Константином «IX» Драгашем, павшим вслед за Джоном Тальботом при падении Константинополя. Ещё император Константин знаменит тем, что вместе с матерью, Еленой Драгаш нашёл место распятия Иисуса Христа, кресты, на котором был распят Христос и разбойники, и, к 20-летию распятия Христова, в 1449 году воздвиг на этом месте, где был похоронен и Отец Христа Дмитрий (Илья) Донской, памятник, – башню Галата = Вавилонскую Башню. Елены
Всех ближе к нам был первый император «Священной Римской империи германской нации» Фридрих «III» Габсбург = Парис, ставший императором в 1452 году, сама же империя угасла в 1806 году, когда император Наполеон Бонапарт устранил с престола императора Франца «II» (1768—1835 годы). Сотый год, с 1400 по 1800 действительно, упятерился.
Как здесь не вспомнить Шекспира: «Что он Гекубе, что ему Гекуба!»
Гекуба перешла к «пророчествам»:
Сейчас об этой второй жизни не думают люди, замкнутые между Адиче и Тальяменто, в «Тревизанской марке». Хотя они и избиты прокатившейся по ним «Войной за Австрийское наследство», они беспечно не думают о вечной славе, предпочитая позорную жизнь.
Вернёмся снова к перипетиям текущей «Войны за Австрийское наследство».
В ходе «Войны за Австрийское наследство», испанско-неаполитанские войска напали на австрийские владения в Италии (Ломбардия, Парма, Пьяченца и Гуасталла). Оказавшись в таких стеснённых обстоятельствах, Мария-Терезия искала спасения у венгров, которые на «Пресбургском сейме» 11 сентября 1741 года заручились от неё значительными гарантиями их самостоятельности и за то предлагали ей существенное содействие.
В 1745 году Австрия заключила с Пруссией «Дрезденский мир», но зато в Италии и Австрийских Нидерландах между Австрией и Англией, Соединёнными Провинциями и Сардинией с одной стороны и Францией, и Испанией с другой – военные действия продолжались. Точно так же продолжалась и борьба на море и в колониях, причём перевес был всегда на стороне англичан.
Наиболее частые видоизменения военного счастья проявлялись в Италии. В 1745 году тамошние австрийские владения попали под власть французов, и сардинский король оказался в таком тяжёлом положении, что едва ещё мог держаться в Пьемонте и Савойе. К тому же и Генуя встала на сторону врагов Австрии. Однако всё утраченное скоро было возвращено, когда по заключении «Дрезденского мира» Мария Терезия послала в Италию подкрепления. Генуя была взята 6 сентября 1746 года, но уже 5 декабря освобождена восставшим народом. Австрийцы и сардинцы проникли даже в Южную Францию, однако вскоре должны были уйти оттуда.
Нападение французов на Пьемонт было отражено; но зато им удалось выручить осаждённую неприятелем Геную (апрель – июнь 1747 года).
В апреле 1748 года был открыт конгресс в Аахене, на котором 30 апреля и 25 мая были постановлены прелиминарные условия, а 18 октября заключён окончательный мир.
Всюду был восстановлен тот же порядок владения землями, что существовал и до войны; Взамен того «Прагматическая санкция» была положительным образом гарантирована. но только Австрия должна была теперь уступить ещё герцогства Парму, Пьяченцу и Гуасталлу инфанту дону Филиппу Испанскому.
Вот и налилась «другая вода» в Виченцское болото. Согласно «Аахенскому мирному договору» 1748 года, герцогство Парма перешло во владения испанской короны (и «Тревизанская марка» вместе с ним).
– город в итальянской области Венето, административный центр одноимённой провинции. Расположен севернее Венеции у слияния рек Силе и Боттенига переходящих в реку Каньян (Саgnan). Тревизо 18
Тревизо именуют городом искусства и воды. Действительно, реки Силе и Каньян, пересекающие исторический центр, каналы и средневековые мельничные колёса делают город похожим на стоящую на воде столицу области Венето. Именно поэтому Тревизо иногда называли малой Венецией. Неповторимый архитектурный облик города, множество бережно сохраняемых фресок и работы средневековых мастеров привлекали сюда путешественников и любителей искусства.
В 1797 году, после падения «Венецианской республики», город перешёл в руки австрийцев.