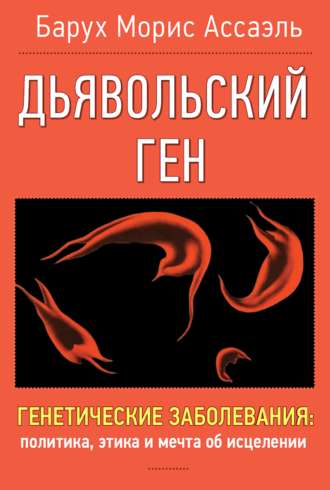 полная версия
полная версияДъявольский ген
Явления новой биосоциальности: ассоциации, союзы, фонды
Новая интерпретация заболеваний терминами генетики сфокусировала внимание общественных наук на том, каким образом индивид осознает самого себя, идентифицирует с другими, организуется в группы и обусловливает распространение знаний о собственном состоянии. Признание статуса носителя меняет отношения индивида с семьей, с этнической группой, к которой он принадлежит, и может повлиять на его выбор в вопросе продолжения рода. Генетическое состояние заставляет подумать о новой социальной организации вокруг болезни, стремясь дать ей определение, идентифицировать ее, дать ей количественную характеристику и, возможно, предотвратить ее. Начинается процесс реорганизации, в котором несколько индивидуумов признают свою генетическую идентичность, устанавливают отношения друг с другом и организуют деятельность, схожую с деятельностью структур, руководящих исследованиями в сфере диагностики и терапии – политические власти, – но преследуют еще и промышленные и коммерческие интересы. Кроме того, они затрагивают вопросы этики ответственности, искусственного оплодотворения, донорства яйцеклеток и спермы, пренатальной диагностики – темы, которые доводятся до сведения публики и требуют диалога между разными культурами. Таким образом, постепенно раздвинулись рамки, внутри которых появлялись и исчезали ассоциации больных и членов их семей. Когда-то они образовывались главным образом вокруг таких проблем, как признание болезни, требование социальной защиты, проведение акций взаимопомощи, а в последние десятилетия они переместились в сторону финансирования, направления и организации исследований. Ассоциации выступают как собеседники академических и политических учреждений, выполняют административные функции, в том числе осуществляя благотворительную деятельность или предлагая модели лечения и помощи. Часто им удается собрать значительные фонды, через которые финансируются и, следовательно, регламентируются банки тканей и ДНК. Они организовывали встречи экспертов, которые установили критерии диагностики и возможности профилактики.
Крупные ассоциации, появившиеся вокруг генетических заболеваний, стали объектом изучения новой социологии генетической медицины. Например, Французская ассоциация против миопатии (Association francaise contre les miopathies), Фонд борьбы с наследственными заболеваниями (Hereditary Disease Foundation) или Фонд РХЕ, изучающий эластическую псевдоксантому. Они создали площадки для встреч ученых, учреждения, биотехнологические и политические организации, сообщества пациентов. Социологи сферы здравоохранения подробно проанализировали их способы работы, способность накапливать и распределять ресурсы. Карлос Новас из Bios Center при Лондонской школе экономики и политических наук (London School of Economics){102}, говоря о мутации, происходящей в этих ассоциациях, об их значимой роли в улучшении здоровья и благосостояния больных, о вкладе, который они делают в распространение биомедицинских знаний и их накопление, предложил концепцию «политической экономики надежды». Его главным тезисом является утверждение о том, что активность ассоциаций пациентов способствует трансформации «биополитики»; этот термин Фуко здесь используется для описания вхождения жизненных явлений в область политики в XVII и XVIII веках. С тех пор политические власти, совместно со специалистами из разных областей, от медиков до градостроителей, принимают на себя ответственность за управление жизнью, чтобы менять, контролировать и регулировать ее с целью стимулирования индивидуального и коллективного благосостояния{103}.
Трансформация, произошедшая в XX веке, привела к зарождению экономики знаний, способной делать инвестиции и производить богатства, выполняя диагностические и терапевтические задачи. Методы, посредством которых ассоциации входят в сферу биополитики, – это посредничество в обмене опытом о болезни, создание коллективной идентичности и политическая мобилизация. Новас сконцентрировал свое внимание на ассоциации РХЕ International, которая стимулирует изучение эластической псевдоксантомы. Ассоциация была основана в 1994 году двумя родителями, обеспокоенными практически полным отсутствием информации о болезни и скудностью биомедицинских исследований. Патрик и Шерон Терри после появления у них двоих детей, больных псевдоксантомой, болезнью, которая характеризуется поражением кожи, глаз (вплоть до слепоты) и сосудистой системы, что может повлечь раннюю смерть, создали систему организации и управления для стимулирования исследований до совершения значительного прорыва. Слово «значительный» вошло в язык ассоциаций, способствующих развитию исследований. Оно означает не инвестировать в проекты с ограниченной перспективой, внушающие слабую надежду, и, наоборот, поддерживать решительные шаги к изучению и реализации терапии, что будет представлять перспективу для пациента. Естественно, это соответствует политике финансирования, при которой предпочтение отдается крупным проектам, обязательно дорогостоящим, а не мелким и неамбициозным. Это требует особых отношений с ученым миром, чтобы выявить наиболее «острые сферы», выделить наиболее перспективные, а главное, результативные проекты. Значение, которое РХЕ International приобрело в политике исследований, подтверждается открытием в течение нескольких лет 59 офисов в 15 странах. Интересным является комментарий Новаса: «Деятельность [Ассоциации РХЕ] может считаться политической в той мере, в какой она бросает вызов традиционному авторитету медицинских и научных профессий. РХЕ организовала самое крупномасштабное эпидемиологическое исследование болезни, собирает международные конференции, обладает банком ДНК и крови, который предоставляет научному сообществу». Несомненным успехом было открытие гена, являющегося причиной заболевания, и разработка диагностических и терапевтических процессов, которые были запатентованы для их бесплатного предоставления с целью проведения исследований и лечения.
Иначе сложились отношения между Американской ассоциацией болезни Кэнэвэн – редким заболеванием, распространенным в основном среди евреев-ашкеназов, и Университетом Майами. В этом случае тоже определяющим был вклад ассоциации в открытие гена, провоцирующего болезнь, но университет присвоил себе право патента и сделал доступным только за плату знания, которые привели к диагностическому тесту. Ассоциация, созданная отцом больных детей, планировала, что тест послужит для выявления носителей и что он будет предлагаться бесплатно с перспективой устранения заболевания. На самом деле болезнь Кэнэвэн быстро вошла в «еврейский перечень», предлагаемый программой «Дор Йешарим». Конфликт между ассоциацией и университетом был доведен до суда и закончился неким подобием компромисса. Этот случай приобрел особое значение, в том числе экономическое, когда ассоциация добилась того, чтобы влиятельный Американский колледж акушеров и гинекологов (American College of Obstetrics and Gynecology) стал рекомендовать предложение предзачаточного теста всем парам ашкеназского происхождения, что в США (и не только) практически приравнивается к обязательному обследованию, учитывая, что отсутствие информации может повлечь отсутствие опыта у врача, наблюдающего беременную. Картина, таким образом, складывается непростая. Конечно, как предвидел Пол Рабинов, развитие геномики привело к важным последствиям. Можно говорить о «биооценке» знаний и генетических ресурсов.
Волона Рабеаризоа и Мишель Каллон детально изучили французские ассоциации пациентов и их способы работы{104}. Они хотели проанализировать «множественность форм ответственности», которые зависят от национальных, исторических и правовых условий, а также от особенностей заболевания. Ученые выделяли две формы ассоциаций: ассоциации, оказывающие поддержку, и ассоциации «братьев по несчастью», в зависимости от значения, которое они придают больному. В качестве показательного примера французских ассоциаций можно упомянуть Ассоциацию паралитиков Франции (Association des paralysees de France – APF), в которой с 1933 года объединяются люди, пораженные параличом при полиомиелите. Эта ассоциация сегодня контролирует отдельные аспекты лечения заболевания. Французская ассоциация миопатии (AFM), появившаяся в 1958 году, расширила свою миссию, позиционируя себя не только как пространство для развития коллективной идентичности и помощи при реинтеграции в общество больных и членов их семей, но и как средство вынесения темы болезни в публичное пространство путем организации Дней изучения миопатии и встреч специалистов и непрофессионалов. С концептуальной точки зрения, происходит переход к ассоциативной форме «борьбы с заболеванием», то есть ассоциации не только выступают площадками для объединения, солидарности и филантропии (ассоциации больных), но и играют важную роль в устранении патологии. Больной сам начинает контролировать исследования, и его собственное отношение к процессу становится профессиональным. Эта точка зрения ставит пациента в другой организационный, производственный и политический контекст. Формируются так называемые lay-expert, «непрофессиональные эксперты» люди, которые ввиду прямого или косвенного интереса стремятся расширить свои знания в области биологии и медицины и выбирают собеседников-экспертов, влияя на направления исследования{105}.
Впрочем, ассоциации пациентов часто страдают от эффекта «основателя». Их деятельность отлажена исключительно на основе идеальных представлений тех, кто их создавал, и выбор создателей может быть как в пользу, так и против кампаний массового скрининга по поиску носителей. Необходимо также продемонстрировать их реальную демократичность в плане фактического участия членов (больных), где они выступают в качестве представителей для принятия решений и направления деятельности на самом общем уровне. Часто существует механизм передачи полномочий наиболее активным членам, которые начинают задавать политический курс. Учитывая влияние, которое некоторые из этих ассоциаций оказывают на научные и политические круги, а также, в некоторых случаях, их экономическое состояние, этот аспект представляется немаловажным. С нашей точки зрения, встает вопрос роли, которую «генетическое сообщество» может играть при осуществлении выбора санитарной политики. Трудно предсказать, каким будет влияние ассоциаций в вопросе устранения генетических заболеваний. Смогут ли они выработать общую тенденцию, общие программные документы, общую позицию, которую можно будет предложить политикам и системе здравоохранения, за которой остается право окончательного выбора?
Кроме ассоциаций больных существуют ассоциации профессионалов, которые достигли выдающихся успехов; например, Фонд муковисцидоза (Cystic Fibrosis Foundation) в США, который ежегодно инвестировал в базовые и медицинские исследования десятки миллионов долларов и основал общество терапевтических исследований (CF Therapeutics). Вместе они достигли внушительных размеров и возможности предстать перед широкой публикой. Сегодня это организации, способные осуществлять деятельность политического лобби, а также ориентировать исследования и становиться партнерами частных предприятий, работающих в сфере диагностики и терапии. Они могут вести переговоры с научными обществами, состоящими, как правило, из специалистов, медиков или исследователей, и влиять на их выбор. Отношения между ассоциациями специалистов, научными ассоциациями и ассоциациями пациентов, или непрофессиональными ассоциациями, могут не быть гармоничными. Бывают, конечно, и идиллические ситуации, в которых сотрудничество протекает гладко, но случаются и трения, когда каждая организация отстаивает собственную автономию{106}.
Мы не станем здесь анализировать все аспекты, касающиеся ассоциаций, союзов и фондов, но главное – это попытаться понять, способны ли они играть роль в устранении генетических заболеваний. Две ассоциации в своих программах заявили о выполнении этой функции: фонд спинальной мышечной атрофии Claire Heine Foundation и Кэнэвэн (Canavan). Целью этих ассоциаций, учрежденных родителями больных, было именно идентифицировать ген, ответственный за развитие заболевания, и разработать тесты для диагностики носителей. Но разве пациенту интересно, каким образом его заболевание будет устранено? На первый взгляд нет, учитывая, что его основной проблемой является признание его состояния, его социальных и медицинских нужд, доступ к лечению и поиск терапии. Разработка стратегии скрининга населения может противоречить интересам пациента, если фонды переориентируют направление своей деятельности, центром которой он является, и направят ресурсы на предотвращение заболевания людей, которые еще не родились. Больной стремится повысить ценность собственного опыта, как следует из изучения групп «самопомощи», что может обогатить медицинское видение развития процессов или исследований, которые удовлетворили бы точку зрения пациента, но вряд ли личный опыт сможет отразить необходимость устранения заболевания. Близкие родственники пациентов заинтересованы в каскадном скрининге, что упростило бы им генетическую консультацию и доступ к тесту, но они могут быть мало заинтересованными в расширении этой перспективы на все общество, что лежит за пределами тесного круга семьи. Эти проблемы объясняют воздержание ассоциаций пациентов от принятия на себя главной роли в устранении собственного заболевания.
Реестры заболевания, биобанки
Наиболее показательным примером «биосоциальности», на мой взгляд, являются реестры заболевания. Речь идет об инструментах, необходимых для эпидемиологического исследования, чтобы установить распространенность или частоту встречаемости заболевания. Реестры позволяют разрабатывать модели истории развития болезни, устанавливать краткосрочные и долгосрочные тенденции, эффект от новых диагностических или терапевтических процессов, выполнять расчеты общественной стоимости. Их цель – собирать данные, как правило общие, о пациентах, но они требуют сложного управления. Может показаться банальным, что первой проблемой, с которой сталкивается тот, кто контролирует реестр, является установление самих критериев определения заболевания. Казалось бы, что больной – это носитель мутаций. Но генетика усложняет картину. Как мы уже видели, не всегда носитель мутаций проявляет симптомы, характерные для заболевания; могут быть случаи, считающиеся атипичными, а некоторые заболевания имеют множество нюансов. Решение поставить клиенту диагноз (наклеить на него ярлык больного) лишь отчасти является научным, и это правда, что формируются все новые комиссии, которые должны (заново) установить критерии постановки диагноза. Молекулярному или генетическому заболеванию еще сложнее дать определение, и оно не может быть сведено к болезни одного «гена» или молекулы. Данный аргумент может показаться далеким от интересующей нас темы, но совершенно очевидно, что чтобы решить, должно ли то или иное заболевание быть устранено, мы должны четко представлять, что мы хотим устранить: состояние страдания или условие генетического «риска»? Таким образом, реестр заболевания можно представить как зону сопряжения научного и административного инструмента, но он учитывает аспекты, которые имеют много общего с самим понятием заболевания. Это объясняет, почему некоторые социологи в области медицины пытались решить проблему определения заболевания, периодически опираясь на неточности экспертов, с постоянными редакциями, как если бы они видели болезнь через объектив с диафрагмой, которая открывается и закрывается, расширяет определение и сужает его{107}. Это может показаться научной неточностью, но необходимо помнить, что болезнь – это не только научное определение, это социальный конструкт.
Реестр заболевания должен быть также инструментом управления здоровьем и программирования инвестиций. Мы могли бы столкнуться, и отчасти это уже случилось, с парадоксальными ситуациями.
Пациенты с небольшим количеством симптомов социально защищены, поскольку они являются носителями мутаций, а есть пациенты с тяжелыми симптомами, с поражениями тех же органов, но они не соответствуют критериям, согласно которым их состояние считается генетическим заболеванием, а потому они не могут иметь никакой социальной поддержки. Таким образом, подтверждается предположение о том, что новая генетическая интерпретация заболевания устанавливает новые отношения, и что общий генетический знаменатель действительно дал новое определение новым биосоциальностям.
Реестры заболевания появились разными путями и с разными целями. Крупные реестры, например, североамериканский реестр муковисцидоза, контролируются по личной инициативе Североамериканского фонда муковисцидоза. Одни реестры появились как инструмент познания для научных обществ; другие являются ресурсом системы здравоохранения, позволяющим владеть эпидемиологической ситуацией по определенным заболеваниям. Чтобы контролировать реестр, необходимо создать информационную цепочку, которая начиналась бы с запроса разрешения пациента на сбор его персональной, генетической и клинической информации, а заканчивалась сложными статистическими моделями. Все это должно находиться под мощной защитой данных, которая обеспечивала бы пациенту анонимность и возможность забрать информацию о себе, когда он этого захочет. Защита прав пациентов на сохранность генетических данных должна быть абсолютной. На эту тему разразилась бурная дискуссия, вылившаяся в ряд правовых инициатив на национальном и наднациональном уровне по сбору, хранению и распространению данных, касающихся генетических заболеваний. Генетические данные обладают спецификой, которая делает их особенными и заслуживающими особого обращения. Во многих странах были учреждены «гаранты» сохранности таких данных. Однако государство может пользоваться высшим правом знания, вплоть до введения обязательного сбора некоторых данных. Надо признать, что для редких заболеваний лишь существование реестра позволяет выполнять санитарное программирование и долгосрочную оценку качества лечения. Думаю, что сложная система, охватывающая как научно-юридическое признание заболевания, так и способы сбора и хранения данных, представляет собой модель биосоциальности, которая заслуживает более глубокого изучения. Сторон, заинтересованных в создании регистра (так называемых стейкхолдеров), сегодня много: это и пациенты, и ассоциации, и научные сообщества, и учреждения, а также разного рода исследователи и коммерческие компании. Последних интересует понимание плотности «рынка» для их продукции.
Конечно, именно благодаря появлению реестров мы знаем, сколько пациентов имеют редкие заболевания; мы можем сделать историческое сравнение того, что болезнь представляла несколько десятилетий назад, и того, что она представляет сегодня; мы можем позволить себе оценить общественную стоимость заболевания и делать важные прогнозы с точки зрения системы здравоохранения. Во многих случаях делаются попытки объединения наднациональных реестров в мировые, в подтверждение важности генетической идентичности, представляющей общий знаменатель.
Явление новой биосоциальности выражено также в формировании биобанков, в которых с целью изучения собираются клетки, биологические образцы или ДНК пациентов. Часто именно ассоциации пациентов организовывали их и предоставляли доступ к образцам для поиска новых диагнозов и видов терапии, не преследуя какого-либо экономического интереса. Управление биобанками поднимает новый ряд этических и правовых проблем, мы это видели на примере болезни Кэнэвэн. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет об одном из способов, с помощью которого пациенты и их ассоциации могут задавать направление исследований институтам или биотехнологическим компаниям и который делает их авторами историй от первого лица о судьбе собственного заболевания.
Генетика сообщества Всемирной организации здравоохранения
«Генетика сообщества (community genetics) […] – это искусство и наука ответственного и реалистичного приложения генетики и геномики на уровне населения и подгрупп на благо как можно большего количества человек. Областями особого интереса являются генетический скрининг, генетическая информация, доступ к генетическим услугам и их качество и предзачаточное лечение, присутствие генетики в базовой медицине, генетические реестры, генетика для незащищенных групп населения, общественные обсуждения, а также эпидемиологические, экономические, психосоциальные, этические и правовые аспекты»{108}. Таким образом, эта новая дисциплина охватывает обширный круг проблем, возможно, еще не имеющий четкого определения, но о котором имеется четкое интуитивное понимание. Она подразумевает введение знаний о генетике в сферу общественного здравоохранения. С этими предпосылками в 2007 году создавалась сеть исследователей из разных дисциплин, чьи первые шаги были описаны у Лео П. тен Кате. Очевидно, что были необходимы и другие определения{109}, отображающие процесс, суть которого состоит в стремлении к легитимизации присутствия генетики в первичном лечении. Но также существует обеспокоенность, что новорожденной дисциплине дается и негативное определение, ей навязывается то, чем она не является и не хочет быть: она не должна ограничиваться классической генетической консультацией индивидуума (или пары), но при этом она не преследует экономические или евгенистические цели, не имеет целью сократить встречаемость заболевания (предотвращать рождение); будучи исключительно инструментом системы публичного здравоохранения, она хочет стимулировать сознательное продолжение рода, не исключая, однако, превосходства социальных интересов. Постоянные попытки определить собственную территорию, нечеткость границ, историческая близость к евгенике и предварительное вовлечение этической точки зрения хорошо обозначают проблемы, связанные с интервенцией генетики в общественное здравоохранение, главной целью которой является соблюдение интересов всех сторон.
Генетическая профилактика – это скользкая дорожка, и хорошо, что первыми свои страхи обсудят эксперты. Как мы уже видели, именно научные сообщества наиболее робко рекомендуют стратегии профилактики. Положительным предложением является повышение осознанности репродуктивного выбора, предоставление инструментов, чтобы индивидуум или пара могли принять решение, осознавая, однако, что эта задача не из легких. Показательными являются постоянные колебания между вмешательством индивидуума или пары и вмешательством политики здравоохранения. Правда в том, что ни одно вмешательство политики здравоохранения не может обойтись без нанесения этического вреда: в репродуктивной генетике тот факт, что рождается меньше больных людей, представляет настоящую ценность, и это невозможно отрицать.
В 1991 году эксперты, привлеченные ВОЗ для анализа ситуации вокруг генетических услуг, оказываемых в европейском регионе, отметили факт большого разнообразия предложений услуг скрининга и говорили о модели талассемии в Италии и на Кипре, о болезни Тея – Сакса, подчеркивая необходимость вмешательства на уровне населения. По-видимому, документ не принимал во внимание, что первичная генетическая профилактика (способствовать рождению меньшего количества больных людей) аналогична другим формам профилактики при беременности, например, прием фолиевой кислоты для уменьшения рисков мальформаций плода, внутриутробная диагностика синдрома Дауна и т. д. Одной из тех, кто подписывал документ, была Бернадетт Моделл, имевшая большой опыт работы в полевых условиях в Англии и по миру по предотвращению болезней гемоглобина{110}. Моделл будет редактором последующего документа ВОЗ, на этот раз в отношении региона Восточного Средиземноморья, который будет опубликован в 1997 году и иметь совсем другое содержание. Там точка зрения будет явно политической и антропологической, единственным направлением будет профилактика болезней гемоглобина, но будет сделана оговорка, что вмешательство повлечет столкновение с понятием структуры семьи, господствующим у населения рассматриваемых стран. Будет выражена поддержка необходимости услуг генетики сообщества, способных глубоко взаимодействовать с антропологическим субстратом. Во многих ближневосточных странах перспектива обязательной профилактики приемлема, как и этическая роль политических и религиозных властей. Речь пока не ведется о перспективе новых генетических сообществ, еще не появляются организации пациентов, которые поддержали бы программы по защите собственного здоровья{111}. Тем не менее, ВОЗ рекомендует введение генетических услуг, задачей которых, помимо прочего, будет стимулирование кампаний по устранению генетических заболеваний. Предложенная модель – это первичное лечение, «меры, сокращающие встречаемость генетических заболеваний – это преимущественно ответственность услуг по первичному лечению». Именно на этом уровне должны идентифицироваться семьи и люди, которым требуется генетическая консультация. Документ подробно рассматривает вопросы, связанные со структурой семьи, многодетностью, ролью женщины и ее наибольшей подверженности клеймению: «Несмотря на то что […] оба супруга являются носителями, проблема обычно воспринимается так, как если бы она исходила от женщины. […] Необходимы статистические данные о частоте разводов между парами с повышенным генетическим риском в регионе Восточного Средиземноморья».

