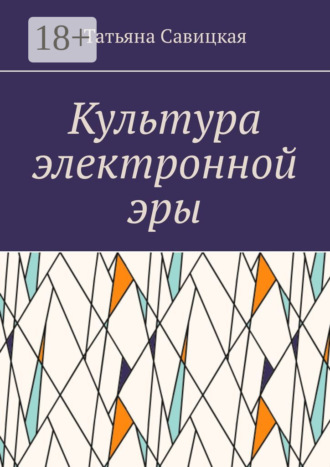
Полная версия
Культура электронной эры
Рыночная селекция прессы выдвигает на первый план ориентированные на массового читателя развлекательные издания, как правило, глобальных «раскрученных» брендов; подавляющее большинство журналов-лидеров издается тиражом до 100 тыс. экземпляров. Как правило, основные тиражи располагаются в диапазоне от 15 до 35 тыс. экземпляров. Группа журналов – от 100 тыс. экземпляров и выше – немногочисленна. В ней лидируют «За рулем», «Cosmopolitan», «Караван историй», «Elle», «Домашний очаг». Среди еженедельников – «Семь дней» и «Лиза» [18, c. 102]. Такие журналы, как правило, плотно насыщены рекламой. Согласно годовому отчету Российской ассоциации рекламных агентств, только в 2002 г. печатные СМИ страны «освоили 590 млн. долларов США рекламных средств. 380 млн. из них заработали газеты и 210 – журналы, что составило соответственно 15 и 8 процентов от рекламного рынка страны. В абсолютных цифрах рост прессы за год составил 23% по газетам и 31% по журналам» [18, c. 103]. —Может быть, в сноску?)
Следует сказать, что тенденция к снижению культурного уровня массового читательского спроса носит общемировой характер. По данным исследователей, установившиеся тиражи «серьезной» отечественной прозы (где лидируют книги В. Пелевина, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, В. Токаревой, Э. Радзинского) в пять—семь тыс. экземпляров вполне корреспондируются с соответствующими показателями в США, Европе, Китае, Японии. Издания этих успешных авторов совершенно не сопоставимы, например, с объемом публикаций чемпиона по тиражам в РФ, автора – бренда Дарьи Донцовой, чьи произведения, по данным Центра Ю. Левады, начиная с 1999 г., были напечатаны в количестве 18,1 млн. экземпляров, и ее иностранных аналогов [27]. Было бы ошибочным, на наш взгляд, считать первопричиной деформации массового читательского спроса своекорыстную политику книгоиздательского бизнеса, находящегося, в основном, в руках частных владельцев. В РФ, например, по данным Андрея Ильницкого, «в настоящее время негосударственные издательства выпускают свыше 50% всех изданий по наименованиям и более 80% по тиражам» [4, с. 45]. По данным на начало текущего века в рейтинге издательств (а их к этому времени было зарегистрировано не менее 15 тыс., хотя реально ситуацию на рынке определяло примерно 300) в первой двадцатке присутствовало лишь одно государственное издательство «Просвещение», выполняющее государственный заказ на выпуск школьных учебников.
Причины происходящих видоизменений, безусловно, носят общекультурный характер. С одной стороны, нельзя не c согласиться с Р. Шартье, одним из ведущих современных книговедов, в том, что не следует трактовать буквально процесс вытеснения печатной продукции зрелищно-информационными технологиями: «Вездесущая революция почти не коснулась реальных читательских практик, которые в массе своей по-прежнему связаны с печатными объектами и очень частично – с возможностями цифровых технологий. Не следует заблуждаться на сей счет, принимая виртуальную перспективу за реальность» [16, c. 234—235]3. С другой стороны, приведенные выше статистические данные массовых читательских предпочтений наглядно указывают на сдвиг культурного мейнстрима в направлении зрелищности, остросюжетности, поверхностной эмоциональности, т. е. заимствовании характеристик популярного теледискурса в качестве новой культурной нормы, что закономерно приводит к литературной рецепции телевизионных жанров: триллера, боевика, сентиментального телесериала (в виде пресловутого киноромана с бесконечными продолжениями). Факты указывают на прямую конкуренцию книги и аудиовизуальных СМИ в борьбе за аудиторию. Так, в уже упоминавшемся исследовании информационной культуры жителей юга Тюменской области выяснилось, что «среди респондентов, для которых мотивом обращения к источникам информации является образование и самообразование, активных читателей оказалось 18%. Доля активных читателей, мотивируемых профессиональной необходимостью, составила 13,5%. Также интересно отметить, что 60% респондентов, обращающихся к различным источникам информации для развлечения, не прочитали за истекший год ни одной книги» [14, с. 23) – Можно снять) Можно привести и другие факты мутирования массовой печатной продукции в сторону зрелищности: например, массированный выход на рынок справочно-информационных изданий для детей по различным отраслям знания, где предельно облегченный текстовой компонент тонет в массе красочного иллюстративного материала, выполненного в стилистике диснеевских мультфильмов; крайнюю насыщенность цветными фотографиями разного рода «имиджевых» персон молодежных и женских развлекательных журналов и прочее, и прочее. А это в свою очередь свидетельствует о внутриценностной эрозии массовой печатной продукции, ее, так сказать, культурно-психологической деспециализации, и – безусловно – о падении социокультурного статуса книги. В этой связи вполне оправданным кажется вывод Николая Хренова об определяющем значении для современной культуры противоборства принципов литературности и зрелищности. «В конечном счете, – пишет он, – особенности того или иного типа культуры, во многом, зависят от того, какой элемент (литературность или зрелищность) будет составлять его ядро. Для современного типа культуры это будет проблема проблем. С другой стороны, тип культуры, в свою очередь, определяет степень развитости в нем элементов литературности и зрелищности» [15, с. 43]4.
Для современных адептов безграничных информационно-коммуникативных возможностей современных мультимедиа закат эпохи Гутенберга – провозглашенного, кстати, «человеком тысячелетия» по итогам опроса газеты «Санди таймс» (The Sunday Times) в конце 1999 г. среди персон, отмеченных властью и влиянием в различных странах мира, – закономерное следствие спроецированного на культуру технологического прогресса, следствие всемирно-исторического процесса совершенствования форм коммуникации. Как пишет О. В. Шлыкова, «таким образом, эволюция коммуникаций (от мнемической и устной традиции, неалфавитных форм коммуникации, затем письменной коммуникации, позднее аудиовизуальной и экранной культуры), взявши исторический реванш сначала в кинофильмах и радиовещании, затем в телевидении, предопределила появление электронной коммуникации, которая воплотилась в интеграции различных способов коммуникации (устных, письменных, аудиовизуальных) в интерактивные информационные сети» [17, с. 22].
Поступательное развитие средств коммуникации – безусловный факт западной (а в настоящее время и глобальной) цивилизации. Однако, следуя логике технологического детерминизма, трудно рассмотреть качественный характер трансформации культурно-антропологической парадигмы, являющейся подоплекой тех или иных технологических новаций. Продуктивным развитием тезиса Мак-Люэна о содержательности средств коммуникации является попытка соотнесения основных этапов их трансформации с ключевыми узлами культурной истории человечества. В достаточной степени это стало общепринятой трактовкой. Так, например, Евгений Рашковский устанавливает типологическую взаимосвязь периода устной и допечатной коммуникации с архаикой и миром традиционной культуры, период доминирования печатного слова с Новым временем и началом модерна (где уже появляются кино и радио) и, наконец, становление синкретической формы электронной коммуникации с эпохой постмодерна [13].
При этом возникает вопрос, напрямую связанный с дальнейшей судьбой письменности: в какой степени книга является инвариантом культуры; не была ли она непоправимо скомпрометирована, как полагает, например, А. М. Пятигорский5, своим центральным положением в системе европейского рационализма, когда вплоть до середины ХХ века печатная книга была «универсальным фактором материализации, локализации и фиксации культуры» [12, c. 94]? Крах новоевропейских просветительских иллюзий о возможности «все понять» и «объяснить» (а следовательно, и контролировать), безусловно, девальвировал значимость книги, литературы, рационального знания. Конец литературоцентризма, доминирования в культуре вербального компонента не случайно совпал в 20—30-х годах ХХ века с выходом на передний план массового визуального искусства, кино «как системы институционализации массовых фантомов» [15, c. 324], во многом, выполнявшего в условиях нарастающей иррационализации социума роль коллективного наркотика.
Реабилитация принципа зрелищности, влачившего в эпоху литературоцентризма весьма скромное существование на задворках культуры (в виде балаганных действ, фольклорного театра, «живых картин», паноптикума, цирка), привела в условиях формирования массового общества к ориентации культуры не на «рассказ», а на «показ»; сенсацию, одномоментность восприятия, актуализацию архаических психических установок. По мнению Николая Хренова, «в широком смысле слова экранная культура является разновидностью игрового универсума» [15, c. 52], «праздничным временем» (давно уже ставшим для миллионов зрителей каждодневным допингом), взрывающим стабильную картину мира ритуальными, по сути, формами показа. Чем более зрелищно, «мифологично» пространство экрана, чем свободнее оно от ограничений литературного текста (психологии, сюжета), тем глубже проникновение в подсознание индивида. Основополагающий компонент экранной эстетики эпохи постмодерна, полагает исследователь, снятие запрета на контакт с хаосом, изживание деструктивности («комплекса Танатоса») через демонстрацию агрессии, жестокости, секса, становящихся для миллионов зрителей необходимой разрядкой, компенсирующей каждодневные психологические травмы от жизни в нестабильном пугающем мире, бюрократически обезличенного механизированного труда, деформации межличностных контактов и проч.
Экстремальность такого рода форм показа, спровоцированную патологическим социальным заказом (т. е. заказом на патологию как способ сохранения общественного гомеостаза), как манифестацию цивилизационного тупика трудно счесть квинтэссенцией зрелищной культуры. В конце концов, зрелищная доминанта господствовала и в средневековье (каменная пластика соборов, иконы) в эпоху весьма относительной грамотности населения, но внутренний хаос архаики (прорывавшийся во время карнавалов, народных гуляний, колядования в строго ритуальных формах) сковывался Словом, пусть слышимым, а не письменно-печатным. Очевидно, что вакханалия самодовлеющих образов возможна лишь в социальном пространстве немоты, вопиющего дефицита осмысленного слова.
Книга под маской: тайный modus vivendi в пространстве Интернета
«Появление нового носителя письменных текстов не означает ни конца книги, ни ее смерти. Быть может, даже наоборот. Однако оно требует перераспределения ролей в системе письма, влечет за собой соперничество (или взаимодополняемость) различных носителей дискурсов и создает новые связи – как физические, так и интеллектуальные и эстетические – с миром текстов».
Р. Шартье. Письменная культура и общество [16, с. 237]Многостороннее взаимодействие вербального и визуального компонента в культуре современности (или, если угодно, постсовременности) приобретает новые, подчас парадоксальные формы в таком сугубо электронном ресурсе, апогее прогрессирующей технизации культуры, как Интернет. Умберто Эко в лекции под знаменательным названием «От Интернета к Гутенбергу», произнесенной 20 мая 1998 г. на экономическом факультете МГУ, одним из первых обратил внимание на скрытое «превращенное бытие» книги в электронном дискурсе, своего рода реванше за поражение в противостоянии с сугубо визуальными средствами коммуникации (телевидением и кино). «Если телевидение, – отмечает он, – это мир, явленный в образах, то дисплей – универсальная книга, где мир явлен в словах и разделен на страницы», в результате чего электронная книга, ставшая носителем гипертекста, может читаться «слева направо, справа налево, снизу вверх или сверху вниз, это зависит от избранного способа письма» [25].
На вербально-текстовую форму электронной коммуникации обращает внимание и О. В. Шлыкова: «Не вызывает сомнения, что компьютер, по сравнению с телевидением, предоставляет возможность более интеллектуальной коммуникации, развивает элементарную грамотность и учит работать с текстовым материалом, так как так или иначе выводит на передний план вербально-печатный текст. В этом смысле Гутенберг живет и в Сети» [17, c. 21]. «Но, – продолжает исследователь, стремясь всемерно подчеркнуть преимущества электронного дискурса, – вместе с тем коренным образом меняется способ построения текстового пространства: на смену одномерному тексту, представленному в линейной форме, приходит многомерный электронный гипертекст. Именно эта качественная трансформация самой природы текста указывает на вхождение в постгутенберговскую эру – текст более не может мыслиться преимущественно в качестве линейно выстроенного, имеющего определенную направленность, структуру и границы, т.е. он перестает соответствовать принципам, наложенным как станком Гутенберга, так и мировоззрением модерна, и становится воплощением постмодернистского мироощущения» [17, с. 21]. Представляется чрезвычайно важным указание на постмодернистский генезис концепции гипертекста, не являющегося, по нашему мнению, специфической чертой именно электронного дискурса. Многомерность, размытая («диффузная») трактовка авторства, разножанровость различных элементов текста, а подчас и произвольность их сочетания – характерные особенности постмодернистской манеры письма (присущие, например, литературной продукции Милорада Павича или Умберто Эко), равно как и современной арт – практике, реализуемой в проектах актуального искусства.
Более любопытным, на наш взгляд, является сам факт наличия слова в Электронной паутине. В. Н. Катасонов6 справедливо обращает внимание на то, что автохтонным языком электронной, по сути дела машинной коммуникации являются цифры, а именно: нули и единицы двоичной системы исчисления. «Для современной компьютерной техники, – пишет он, – для алгоритмов, используемых в ней, человек как таковой представляет собой, вообще говоря, помеху, …фактически все эти слова, буквы, „иконки“, „окна“ в компьютере чужеродны самой сути информационной технологии и представляют собой некий пережиток именно книжной культуры. Наоборот, книга в высшей степени соразмерна человеку» [6, с. 79]. Иными словами, как бы далеко ни заходил человек в общении с миром техники, остается фактом неустранимость артикулированной речи как адекватного «тела» его мысли, поневоле продуцирующая словесно-текстовой каркас такого взаимодействия. В. Н. Катасонов формулирует следующие параметры соразмерности книги человеку: «Во-первых (и это главное) соразмерность языка: алфавитное письмо в противовес, с одной стороны, идеографическому, а с другой – машинному языку из нулей и единиц – очень близко к человеческой речи, живому человеческому слову. …Во-вторых, книга соразмерна человеку и, так сказать, пространственно. Книга в виде кодекса, входящего в употребление примерно с I века н. э., удобна в обращении: в отличие от свитка все части ее объема одинаково доступны человеку. И, наконец, соразмерность книги человеку выражается и в смысле индивидуального существования, в определенном смысле присущего книге. Книга как произведение полиграфического искусства подобна картине, скульптуре или другому произведению искусства» [6, с. 80]. Очевидно, что плата за вхождение во всемирную электронную сеть – редуцирование к минимуму бытия книги, уже не являющейся ни полиграфически оформленным материальным артефактом, ни «сподручным» инструментом труда и досуга. В какой мере исторически новая модификация книги в виде электронного текста благоприятна с точки зрения исполнения основной своей миссии – непрерывной трансляции достижений культуры?
На этот вопрос может быть получен парадоксальный ответ: достаточно успешно консервируя знание, электронный текст в значительно меньшей мере, нежели традиционная печатная книга, способен транслировать способы бытия в культуре. Поясним сказанное. Не следует, конечно, преувеличивать прочность электронных хранителей информации. Вряд ли случайна ироническая ремарка Умберто Эко: «Даже напечатанная на современной окисляющейся бумаге, которая живет не более семидесяти лет, книга прочнее и долговечнее магнитной записи» [25], вдобавок для своей реализации банально связанной с наличием работающего компьютера и электричества. Но ведь именно в наши дни, впервые после гибели Александрийской библиотеки времен династии Птолемеев, как никогда близка к осуществлению идея универсальной библиотеки, отчасти уже осуществляемая, например, в масштабном проекте «Open Content Alliance» компанией «Майкрософт» совместно с библиотекой Британского музея и Европейской цифровой библиотекой; можно вспомнить также «Google Print», проект преобразования в электронную форму фондов пяти крупнейших библиотек мира.
С другой стороны, информатизация культуры, безусловно, имеет внутренние как социальные (информационная неграмотность и информационная бедность подавляющего большинства человечества), так и собственно антропологические пределы, связанные с невозможностью для реального индивида «обналичить» в собственном бытии «оцифрованные» сокровища культуры. В отличие от книги, которая «приглашает к вживанию в нее, к активности души, к углублению духовного опыта», «информационные технологии требуют, в основном, лишь напряжения рассудка» [6, с. 80]. Виртуальное бытие книги не только радикально видоизменяет читательскую практику, но и – по маклюэновскому принципу содержательности средств сообщения – глубинным образом воздействует на характер сообщаемого материала.
Как отмечает Р. Шартье, «появление электронного текста – это революция и в технике производства и воспроизводства текстов, и в сфере носителей письменности, и с области читательских практик» [16, с. 235]. В самом деле, при чтении с дисплея книга как бы «расшивается»; перед читателем, как во времена античности, развертывается, как правило, в направлении сверху вниз бесконечный свиток, что нарушает привычную процедуру доступа к справочному аппарату, традиционно размещаемому в конце текста.
Материальность печатного произведения культуры трансформируется в электронное инобытие; разрушается связь текста и объекта, в котором он содержится, целостность (а также цельность и ценность) произведения в таком режиме доступа осознать гораздо труднее. Взамен утраты автономности, уникального статуса произведения, предполагающего вдумчивое проникновение в его суть, читатель получает доступ к гипертекстовым ссылкам, что обеспечивает, по словам О. В. Шлыковой, «переход от одного ресурса к другому, рождая „цепное чтение“ темы, проблемы, создавая почву для его безграничного развития» [17, c. 47]. По сути дела, электронная репрезентация печатного произведения культуры предполагает, как минимум, две процедуры, кардинально воздействующие на его восприятие. Во-первых, деконтекстуализацию, т. е. изъятие из того культурно-исторического (социально-демографического, национального, географического и проч.) гнезда, в котором оно было порождено. Во-вторых, реконтекстуализацию, размещение в определенной нише текстового континуума, организованного по законам логической и функциональной целесообразности, ничего общего не имеющим с внутренней (эндогенной) смыслонаполненностью произведения. Конечно, размещение текста во всемирной электронной сети дает ему массу преференций (и в первую очередь мгновенность распространения и потенциальную безграничность доступа), но и плата – редукция пространственно-временной принадлежности, определенное обезличивание авторства; утрата множества смысловых нюансов, связанных с контекстом возникновения – также не мала, что, возможно, объясняет незначительную успешность электронных версий художественных произведений по сравнению с активной востребованностью энциклопедий и разного рода справочных изданий.
Можно обратить внимание и на другие концептуальные характеристики пользования электронной библиотекой. При чтении с дисплея, как справедливо отмечает Р. Шартье, «тип объекта (классов текстов: статья, газета, журнал, книга, архив) нивелируется; создается некий континуум, где стираются различия между жанрами или группами текстов: все они похожи друг на друга по внешнему виду и обладают равной авторитетностью. Отсюда характерная для нашего времени обеспокоенность: утрачены прежние критерии, позволяющие различать и классифицировать дискурсы и выстраивать их иерархию» [16, c. 232]. Помимо индифферентности к традиционным гуманитарным ценностям, неограниченный доступ в пространство электронной коммуникации приводит к засилью в Интернете сырых (не только не отредактированных, но зачастую и непродуманных) текстов, плагиату, проникновению ненормативной лексики и проч. Отсутствие механизмов защиты качества текста, деиндивидуализация потребления печатных материалов в ходе стихийной электронной коммуникации способствуют развитию процессов коммерциализации Интернета; все большему количеству явной и скрытой рекламы; в перспективе чревато «экономической и культурной гегемонией наиболее модных мультимедийных компаний и лидеров компьютерного рынка» [16, с. 232].
Сказанное выше не ставит под сомнение перспективность новой модели коллективного построения знания, ориентированной на потенциально необъятное расширение круга участников (по данным С. В. Михайлова, если в 2003 г. общее число пользователей Интернета составляло 550 млн. человек, то в 2005 г. их было свыше одного млрд. – [11]); необозримое увеличение совокупной памяти электронных носителей информации; безграничное «сетевое представительство» различных точек зрения, индивидуумов и групп. Велик соблазн увидеть в Интернете не просто универсальную информационно-поисковую среду с саморазвивающимися ресурсами для конструирования и производства знаний, но материализацию ноосферы, коллективное сознание человечества [17] и даже более того – орудие «суперменеза», процесса формирования сверхчеловека и сверхчеловечества [1, c. 39]. Так, пишет В. А. Дубовцев, «человеку и человечеству предстоит борьба за жизнь в условиях сверхъественного, технологического и информационного отбора в отличие от естественного, по Дарвину и Мальтусу, отбора. Это борьба за жизнь как борьба за власть над собственным существованием в суперэкстремальных условиях. Это ответ на вызов уже не только голода и холода, болезней, эпидемий и пандемий, но и глобальной конкуренции, схватки цивилизаций, локальных и мировых войн, социальных катастроф, жизни в глубинах океана, под землей и в космосе. Принять этот вызов глобального кризиса человечеству – значит реализовать себя в технологическом модусе сверхчеловеческого способа существования, в сверхчеловеческом типе, превышающем ограниченные возможности природно-социального человека» [2, с. 156]. «Зарождается, – вторит ему О. В. Шлыкова, – принципиально новый субъект – планетарный интеллект», что ведет к «радикальным подвижкам в менталитете, преобразованиям организационных структур, характера и видов деятельности, образа и темпа жизни» [17, с. 44]. Иными словами: «Человек – это звучит гордо», но… не кажется ли, что это мы уже проходили? К тому же факты упрямо свидетельствуют о том, что Интернет все больше используется в рекреационно-развлекательных целях, что явно идет в разрез с мегалоантропологическим проектом. Причем тенденция эта – общемировая и проявляется даже в российской глубинке. Так, исследования информационной культуры лиц трудоспособного возраста (от 25 до 55 лет), проведенные в августе 2005 г. в городах юга Тюменской области, выявили, что среди мотивов обращения к источникам информации на первом месте стоит развлечение (56, 5%), на втором образование и самообразование (20,7%), на третьем – профессиональная деятельность (19,2%) – [14, c. 238]. 65% респондентов не используют Интернет. Среди постоянных пользователей всемирной электронной сети 10% обращаются к ней, исходя из служебной или учебной необходимости; 5% – в целях образования и самообразования, остальные – для развлечения [14].
Как видим, и во Всемирной паутине продолжается скрытая борьба за культурную гегемонию между Словом и Образом, от исхода которой, можно сказать без преувеличения, зависит, какой будет цивилизация XXI века.
Список литературы
1. Бранский В. Т., Пожарский С. Д. Синергетическая теория глобализации // Социальная синергетика: Безопасность и глобализация в парадигме современного научного знания и практики. Сб. науч. трудов (под ред. проф. В. П. Шамаева). – Йошкар—Ола: МарГТУ, 2006. – C. 28—45.
2. Дубовцев В. А. Ценность и зло планетарной техники // Ценности интеллигибельного мира. Сборник статей Всерос. науч. конф. (под ред. А. М. Арзамасцева). В 2-х тт. – Магнитогорск, изд. МГТУ, 2006. – Вып. 3. —Т. 1. —С. 160—165.
3. Зотов В. В. Информационная культура как условие свободы и независимости в пространстве коммуникации современного общества // Проблемы свободы личности и общества в социально – гуманитарном дискурсе. Материалы Всерос. науч. конф. Курск. 16—17 мая 2006. – Курск, изд. КГУ, 2006. – С. 171—175.



