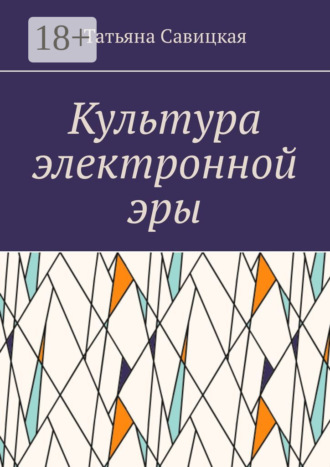
Полная версия
Культура электронной эры
4. Ильницкий А. Книгоиздание современной России. – М.: Вагриус, 2000.
5. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.: Профиздат, 2002.
6. Катасонов В. Н. Технологии информационной революции и мудрость книжной культуры // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. – М.: Традиция, 2000. – С. 76—81.
7. Кириллова Е. А. Глобализация и СМИ // Реформы в России и Россия в реформирующемся мире. Материалы науч. конф. Санкт-Петербург, 17 февраля 2006 г. Т. 2. (Балтийский гос. тех. ун-т). – СПб., 2006. – C. 155—159.
8. Кирмайер М. Мультимедиа. – СПб., 1994.
9. Лысенко Г. В. Средства массовой коммуникации в современном обществе. – Волгоград: изд. ГОЦ ВАГС, 2006.
10. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. – Киев: Ника—центр, Эльга, Издат. Дом Дмитрия Бураго, 2003.
11. Михайлов С. В. Общение в виртуальном пространстве. – Ульяновск, 2003.
12. Пятигорский А. М. Изменение роли книги в обществе //Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. – М.: Традиция, 2000. —С. 92—94.
13. Рашковский Е. Книжная культура в эпоху постмодерна. Из записок российского Книжника // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. – М.: Традиция, 2000. – С. 164—168.
14. Сорокин Г. Г. Информационная культура трудящихся //Социально-экономические проблемы трансформационной экономики. Сб. мат-лов. Вып. 3. – Тюмень: Изд-во «Виктор Бук», 2006. – C. 237—242.
15. Хренов Н. А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006.
16. Шартье Р. Письменная культура и общество. – М.: Новое издательство, 2006.
17. Шлыкова О. В. Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры. – М.: МГУКИ, 2003.
18. Яковлев А. Российский рынок печатных средств массовой информации: проблемы и тенденции развития // История и культура в современной культуре. Политика в средствах массовой информации. – Сб. статей под ред. А. С. Алпатовой, Д. В. Васильева. – М.: Ин-т бизнеса и политики, 2005. —С. 98—106.
19. Calleen C. Multimedia and Web: Creating Digital Excitement. —Philadelphia: Harcourt College Publishers, 2001.
20. Cultures of Internet: Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies. – L.: Sage, 1998.
21. McGloughlin St. Multimedia: Concepts and Practice. – New Jersey: Prentice Hall, 2001.
22. McLuhan M., McLuhan E. Laws of Media. – Toronto, 1988.
23. Wise R., Steemers J. Multimedia: A critical Introduction. – L., N.Y.: Routledge, 2000.
Электронные ресурсы:
24. Хайм М. Метафизика виртуальной реальности http:// www.relis.ru/MEDIA/news/ pwvn/uml/hime.html.
25. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст http://www.artinfo.ru/ text.20.05.1998/
26. http: // www.Gipp.ru
27. http://levada.ru
Глобальный подросток в орбите глобальной культуры
I would I were a careless child.
George Gordon Byron (Хотел бы я быть беззаботным ребенком. Джордж Гордон Байрон)Становление глобального массового общества – чрезвычайно сложное многоплановое явление, сияющий фасад которого (рукотворный рай мгновенной электронной коммуникации, нескончаемая карнавальность коллективной тележизни; единая мода, «брендовые» товары для бесконфликтного потребления всеми и каждым) не в силах скрыть загадочных теневых сторон этого явления, способных вызвать озабоченность у неангажированного исследователя. При этом речь идет вовсе не об угрозе пандемий, риск возникновения которых многократно увеличился беспрецедентной спаянностью человечества; не о новых «штаммах» электронных вирусов, способных парализовать всю интеллектуальную и хозяйственную деятельность на Земле; не о пресловутом глобальном потеплении (кстати, научно не доказанном). На наш взгляд, к числу опаснейших вызовов будущему человечества, встроенных в саму плоть социокультурной парадигмы глобализации и потому чрезвычайно трудно отслеживаемых, относится нарастающая инфантилизация общественного сознания; исподволь de facto происходящее размывание смысловой оппозиции: «взрослый» – «ребенок», на протяжении тысячелетий являвшейся одной из структурных скреп цивилизации.
Разумеется, на уровне эмпирической антропологии взрослые остаются взрослыми, дети детьми, хотя последние, увы, все раньше втягиваются в орбиту глобальной культуры (достаточно вспомнить достигшие и пределов нашего отечества «конкурсы красоты» для девочек от 7 до 12 лет, психика которых прошла уже успешное «предпотребительское» моделирование посредством игры в куклу «Барби», эталон товарной женственности, c ее модным гардеробом, бойфрендом Кеном и проч.). Но… все громче о «правах ребенка» заявляет «ювенильная юстиция», ограждающая своих подопечных не только от эксцессов родительского насилия (караемых, например, в США крупными штрафами), но и предель но осложняющая возможность контролировать ход их развития со стороны старших: как, например, объяснить ребенку вред «легких» наркотиков, непродуктивность «запойного» погружения в компьютерные игры, когда строжайше «запрещается запрещать»? А вот сами взрослые играют не только все больше (цифры приведем ниже), но и, так сказать, все «круче»: глобальные спекуляции «биржевиков» дестабилизируют финансы целых регионов; подростковая брутальность и военные действия с позиций силы при полном игнорировании мнения надгосударственных консенсусных органов превращаются в пугающую норму общественно-политической жизни; неуправляемость, неправедность развития глобального социума становятся кричащими, провоцируя как дурную закономерность спорадические попытки урегулировать ход дел в мире с помощью террора. Позиционирование незрелости как нормы общественного и личного бытия, без сомнения, чревато массой деструктивных последствий, образующих хаотический шлейф складывающейся системы глобального управления, способный на экстремуме проявления послужить причиной ее краха.
«Глобальный недоросль»: опыт анатомии явления
– В умственной сфере и в рабочие часы мы взрослые. А в сфере чувств и желания – младенцы.
– Господь наш Форд любил младенцев.
Словно не слыша, Бернард продолжал:
– Меня осенило на днях, что можно быть взрослым во всех сферах жизни.
– Не понимаю, – твердо возразила Линайна.
Олдос Хаксли. «О новый дивный мир» – 21, c.182.Современная тенденция инфантилизации сознания, заставляющая миллионы людей по всему миру отдаваться грезоподобному досугу, просматривая отснятые по комиксам нашпигованные спецэффектами «блокбастеры», отдавать предпочтение чтению фэнтезийной литературы, все глубже погружаться в компьютерные (в том числе «онлайновые») игры, имеет, безусловно, панкультурное распространение. По данным «Entertainment Software Association» за 2005 г. в США возрастной состав лиц, постоянно играющих в компьютерные игры, распределялся следующим образом: 35% игроков составляла аудитория подростов (до 18 лет), 43% – люди, находящиеся на пике зрелости (от 19 до 49 лет), 19% – пожилые (старше 50 лет), возрастную принадлежность 3% игроков не удалось определить (24).По данным исследовательской фирмы Nielsen, средний возраст американского игрока, как правило, «цифрового аборигена» со стажем, 30 лет. 67% лиц, постоянно играющих постоянно играющих в компьютерные игры, моложе 40 лет (24). Тенденция в повышению возраста среднестатистического игрока (характерный симптом аномии общественного сознания) в полной мере характерна и для постперестроечной России, где, как проницательно замечает Е. Б. Рашковский, «постмодернизация воли коренится в разрушении и саморазрушении традиционных и модерн-пластов нашего наследия», оборачивается инфантилизацией и архаизацией приобретающих причудливый облик паракультурных проявлений, в результате чего “ если присмотреться к культурному облику нынешнего массового российского «слобожанина» из молодежи, то поражает его умение сочетать увлечение компьютерными и прочими электронными «игрушками» с наклонностью к почти немотивированной пьяной поножовщине и стрельбе, умение сочетать веющую племенной архаикой …матерную брань с тонкой осведомленностью по части панк-рока или рэпа. Ничего специфически российского здесь, казалось бы, нет. Это – отражение всемирных процессов постмодернистской культурной энтропии» (19, c.36).
Как показывают проведенные фирмой «Magram Market Research» в январе 2006 года исследования российской игровой аудитории, охватившей 300 «геймеров» Москвы и 200 Воронежа (по социальному составу отнюдь не относящихся к вышеупомянутой «слободской» молодежи), 38% опрошенных составляли лица 18—20 лет, 23% – лица 21—25 лет, 39% – лица старше 26 лет. При этом 50% опрошенных предпочитали игры в жанре «стратегии в реальном времени», 35% – «стрелялки» (shooter) и прочие игры в стиле «action», гоночными стимуляторами увлекалось 11% играющих, на долю остальных (5%) приходились компьютерные варианты карточных игр, головоломок и проч. При этом к удивлению аналитиков оказалось, что 33% опрошенных играют каждый день, 36% – каждые 2—3 дня, 25% – нерегулярно. По числу проведенных за игрой часов опрошенные распределились так: 57% обычно тратит на игру 2—3 часа, 29% – 3—5 часов, 14% – более 5 часов (31).Добавим к вышесказанному пандемию написанных по глобальному шаблону телеигр для взрослых, собирающих миллионные аудитории. О чем свидетельствует безбрежная «играизация» (термин С. А. Кравченко) сознания упорно не желающих взрослеть взрослых? На наш взгляд, не только о личной ущербности индивидуумов, склонных к регрессии психики путем «упрощения реальности за счет виртуализации», «замещении социальной коммуникации информационным потоком», бегства от жизненных проблем за cчет «иллюзии их мгновенного решения» в игровой модели ситуации (20, c.107), как полагают профессиональные психиатры, осознавшие, что современная «культура является одним из важнейших детерминантов психической патологии» (20, c.105).
Очевидна генетическая, концептуальная и стилистическая укорененность феномена невзросления в глобальной культуре постмодерности. В какой-то мере явление это можно признать социокультурным эпифеноменом постмодернистской «непроизводящей» экономики – экономики электронных денег и ТНК, строящих бизнес на производстве и распространении «глобального культурного продукта» (компьютерного обеспечения, фильмов, музыкальной и видеопродукции, системы «быстрого питания» (fast food) и проч.), c наибольшей интенсивностью потребляемого в часы досуга. Неслучайно, что в рейтинге богатейших людей мира, ежегодно составляемом журналом «Форбс», по данным на 2005 год лидируют Билл Гейтс (владелец компании «Майкрософт», занимающий первое место с капиталом в 50 млрд. долларов); У. Баффет (W. Baffett), которому принадлежит компания «Кока-кола» (42 млрд. долларов; второе место); Карлос Слим Хелу (Carlos Slim Helu), богатейший человек в Латинской Америке (телекоммуникационная компания «Telmex», 30млрд. долларов; третье место); Пол Аллен (Paul Allen), один из крупнейших акционеров компании «Майкрософт», владелец голливудской кинокомпании «Dreamwork», на которой были сняты многие фильмы Стивена Спилберга (22 млрд. долларов, шестое место в рейтинге); Б. Арнолт (B. Arnault), владелец брендов «Кристиан Диор», «FENDI», «VUITT» (21,5 млрд. долларов, седьмое место в рейтинге); К. Томпсон, крупнейший медиамагнат из Канады (19,6 млрд. долларов, девятое место в рейтинге); Li Ka-Shing, владелец компании сотовой связи из Тайваня (18,8 млрд. долларов, десятая позиция в рейтинге). В первую десятку крупнейших состояний мира, помимо перечисленных выше, входят лишь два представителя реального сектора экономики: Ингвард Кампрад, владелец знаменитой шведской фирмы «Икеа» (28 млрд. долларов, четвертое место в рейтинге) и индийский «стальной король» Лакшми Миттал (Mittal), хозяин интенсивно развивающейся компании «Mittal Steel» (23 млрд. долларов, 5 позиция в рейтинге) – 32. Таким образом, оказывается, что в современном мире наибольшую «отдачу» приносят вложения в производство «глобального культурного продукта», а также в сферу обслуживания.
Несмотря на то, что для богатейших стран Запада наиболее безоблачные времена общества «всеобщего благосостояния» (welfare state) уже позади в связи с ростом цен на сырье, либерализацией рынка труда и сферы услуг, высокие стандарты потребления остаются незыблемыми, качество жизни составляет предмет национальной гордости; даже в случае потери работы (вследствие, например, все более частого перевода ТНК производства в страны Восточной Европы или Юго-Восточной Азии; регионы с более низкой стоимостью рабочей силы) граждане ЕС получают высокое пособие по безработице; выплаты из специально создаваемых на этот счет общественных фондов (один из таких фондов с ежегодным бюджетом в 500 млн. евро был создан в феврале 2006 г.). Ни для кого не является секретом, что сверхвысокий уровень благосостояния в странах «золотого миллиарда» воспроизводится за счет глобального паразитирования на сырьевых, людских и прочих ресурсах планеты. К числу «доноров» западного мира едва ли не в большей мере относится РФ. По данным отечественных ученых, «сегодня в России проживает 3% населения планеты при сосредоточении на ее территории 35% запасов мировых ресурсов. Однако если принять условную единицу (у.е.) ресурсов на одного жителя планеты (энергетических, биологических, экологических и т.д.), то на россиян приходится 11,7 у.е., на жителя США – 2 у.е., Западной Европы – 0,67 у.е., стран „третьего мира“ – 0,58 у. е. При этом средний американец использует принадлежащие ему ресурсы на 400%, средний европеец – на 398%, а каждый житель РФ на 11%. Россия оказывается всех богаче и в то же время всех беднее» (8, c.206). В отличие от богатых стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в странах Запада высокий уровень потребления сочетается с падением стимулов к труду, все большим перемещением фокуса самореализации личности в рекреационную сферу, массированной (еще со времен Просвещения) детрадиционализацией культуры. Показательно, что даже молодежные движения протеста в этих странах (вспомним этнические волнения во Франции в конце 2005 г.) зачастую приобретают инфантильно-потребительский характер борьбы за большую долю общественного «пирога».
Попробуем несколько конкретизировать целевую аудиторию потребителей глобального культурного продукта, обратившись к недавно попавшей в орбиту внимания социологов социально-демографической группе новых «молодых взрослых» (примерно до 40 лет), как правило, хорошо образованных представителей среднего класса, находящихся на пике творческой и социальной зрелости. Именно эта группа населения, именуемая Питером Бергером «интернационалом яппи», во многом, составляет многомиллионный персонал (как правило, среднего и низшего звена) ТНК, число филиалов которых в мире по некоторым данным (28) перевалило за 700 тыс. Будучи естественными «агентами глобализации» (а в недавнем прошлом «глобальными тинэйджерами», cинхронно формируемыми одними и теми же детскими товарами, компьютерными играми, мультфильмами), «яппи» в массе своей вовсе не желают взрослеть; cложившиеся навыки статусного деиндивидуализирующего потребления культуры усугубляются установкой на интенсивную рекреационную «разрядку» после психологически изнурительного труда в бюрократизированных сверхобезличенных офисах.
Самоощущение рядового сотрудника такой компании (относящегося, на жаргоне «яппи», к «офисному планктону») так рисует Дуглас Коупленд в культовом романе «Generetion икс»: находясь в «загончике для откорма молодняка» (так именуется «маленький, очень тесный отсек офиса, образуемый передвижными перегородками, который отводится младшему персоналу офиса»), «по малейшему поводу я был готов извиняться за свою деятельность – работу с восьми до пяти перед белесым как сперма компьютерным монитором, где я решал абстрактные задачи, косвенно способствующие порабощению „третьего мира“. Но потом, ого! Я красил пряди волос в разные цвета и пил пиво, сваренное в Кении. Я нацеплял галстук „бабочку“, слушал альтернативный рок и отвязывался в артистической части города» (10, с.41). И в другом месте, говоря от лица своего поколения: «Наши организмы, пропитанные запахами копировальных машин, детского крем и гербовой бумаги, взрывались из-за бесконечного стресса, рожденного бессмысленной работой, которую мы выполняли неохотно и за которую нас никто не благодарил. Нами владели системы, вынуждавшие нас глотать успокоительное и считать, что поход в магазин – это уже творчество, а взятых видеофильмов достаточно для счастья» (10, с.28). Но эскейпистский бунт Энди Палмера (героя романа) и его друзей, ушедших в «отshellничество», «закос под туземцев» (10, с.341) в Мексике, – продвинутых «пейзан техновека», сделавших девизом жизни слоганы: «я вам не объект рыночной экономики» и «шоппинг – не творчество» (10, с.99,33), – плод личного выбора и по определению массовым быть не может. Удел остальных – покорное данничество глобальной культурной индустрии; убогие изыски «интерьерного снобизма» (вспомним, что роман Коупленда был написан как путеводитель по поколению молодежи 90-х гг.), «превентивный цинизм», «тайный луддизм» («скрываемая от посторонних уверенность в том, что он технического прогресса человечеству ничего хорошего ждать не приходится» – 10, с.340), «безопасизм» (одержимость поисками гарантий личной безопасности) и одновременно «страхохондрия» (ипохондрия, порожденная состоянием перманентного и беспредметного страха); «бембификация» («восприятие живых из плоти и крови существ как персонажей мультфильмов, олицетворяющих буржуазно- иудео- христианскую мораль и такие же отношения» —10, с.99) и подведенный с присущим автору «черным юмором» итог жизни: «умер в 30, похоронен в 70».
Возможно, это шаржированный портрет «глобального человека» эпохи тотальной комьютеризации, торжествующего мультикультурализма, всевластия электронно-магических СМИ, пришедшего на смену «массовому человеку» (знаменитому Хайдеггеровскому «Das Mann») эпохи первых кинематографов, дансингов, спортивных стадионов и пляжей. Однако трудно отрешиться от мысли, что нарастающие деструктивные видоизменения личности и социума, усиливающиеся конформность и инфантилизация панкультурного менталитета, – неотъемлемый структурный компонент складывающейся системы глобального управления, обеспечивающий ее социо-культурный гомеостаз. Более того, как неоднократно отмечалось, утратив былую автономность и «священную» неприкосновенность, в глобальном обществе сфера культуры стала флагманом транснационального бизнеса. Особую роль здесь сыграл, по мнению некоторых аналитиков, опыт применения пиар – технологий в рекламном бизнесе (как товаров, так и политических репутаций), показавший, что психика человека – практически неисчерпаемый ресурс, грамотная эксплуатация которого способна принести колоссальные барыши, что обозначило в качестве мейнстрима развития глобальной культурной индустрии на рубеже ХХI столетия транснационализацию и регрессивную архаизацию человеческого воображения (2, 18, 20, 26, 28).
Поражает коммерческая эффективность и системность раскручивания глобальных брендов; безошибочность маркетинговых технологий, точно рассчитывающих нужный момент согласованного выброса на рынок, скажем, разрекламированного «блокбастера», разноплановых компьютерных игр (включая «онлайновые») на его сюжет, целой серии сопутствующих товаров (игрушек, маек, кепок, значков, плакатов и проч.). Техника деструктивного маркетинга, ведущего «охоту без правил» на глобального потребителя (не важно, взрослого или ребенка), совершенствуется год от года. Если, скажем, показ первых трех серий «Звездных войн» Джорджа Лукаса, вышедших соответственно в 1977, 1980 и 1983 годах, не сопровождался разработкой одноименных компьютерных игр, то выходу в свет последующих трех серий в 1999, 2002 и особенно в 2005 годах (всемирный прокат третьего эпизода «Звездных войн» – «Мести сидхов» – принес только за минувший год 845 млн. долларов) сопутствовало свыше 25 названий компьютерных игр (включая новейшие: «Star Wars: Battlefront» 2004 года, «Star Wars: Empire At War» 2006 года). Выход в свет последней серии сопровождался выпуском отдельного фильма «Империя мечты», повествующего об истории создания киноэпопеи; а также специальным изданием «для любителей» (и за двойную плату) режиссерской версии фильма с предисловием автора и элементами монтажа; игрушками от фирмы «Хасборо», целой серией сопутствующих товаров. Столь же комплексная маркетинговая стратегия «задействована» в продвижении киноэпопеи «Властелин колец», на сюжет которой было выпущено 7 компьютерных игр разных жанров (в том числе «онлайновая» в 2006 году); давно ставшего глобальным брендом «Гарри Поттера»; снятого по комиксу «Spiderman”а и проч.
Комплексность глобального «мерчендайзинга» в сфере компьютерных игр, работающего со всеми категориями их потенциальных покупателей, хорошо иллюстрируется одновременностью выброса на рынок сразу нескольких версий новой перспективной игры: 1.так называемой «бронзовой» (игра в обычной упаковке); 2.«серебряной» (игра в металлической коробке с добавлением инструкции по ее прохождению, кепки или постера); 3.«золотой» (c добавлением майки, брошюры с описанием истории создания игры, интервью с ее разработчиком и проч.); 4.«платиновой» c добавлением еще двух игр от разработчика; 5.«коллекционной», содержащей предшествующие версии c добавлением статуэтки главного героя и проч. Добавим к этому, что игра выпускается одновременно «под все платформы» (для компьютеров, игровых приставок, в «онлайновом» исполнении и проч.); в специальных версиях для различных возрастных страт потребителей: для малышей, детей (возрастная маркировка «K —A», Kids to Adult); детей старше 10 лет (возрастная маркировка «E 10+», Everyone 10 and older); подростков (возрастная маркировка «T», «teen»; от 13 и старше); молодежи от 17 лет (возрастная маркировка «M», Mature); взрослых (возрастная маркировка «AO», Adult Only).
Стратегия формирования «глобального бренда» (транснационального продукта, адресность потребления которого максимально размыта за счет включения механизма ажиотажного престижного спроса) отчетливо видна на примере целенаправленной трансформации компании «Лего», с давних пор занятой производством развивающих детских игр (главным образом разных моделей конструкторов) и заслуженно пользовавшейся репутацией солидной фирмы, обслуживающей базовые потребности детей. Датой основания компании считается 1932 год, когда столяр Оле Кирк Христиансен открыл в городе Биллунде (Ютландия) на западе Дании небольшую фабрику по производству игрушек. В 1934 г. он дал компании (персонал которой состоял из 7 человек) название «Лего» (от датских слов: «LEg Godt», т.е. «играй хорошо») в соответствии с девизом жизни: «Достаточно хорошим может быть только самое лучшее». Долгие годы предприятие постепенно расширялось, сохраняя характер добропорядочного семейного бизнеса: c 1949 года блоки конструкторов стали делаться из пластмассы; в 1958 г. компанию, персонал которой насчитывал 140 человек, унаследовал Годфрид Христинсен (вместе с заветом отца никогда не производить военных игрушек), в 1979 г. передавший дело сыну Кьелу Кирку Христиансену. Несмотря на то, что филиалы «Лего» открывались по всему миру (в 1957 г. в Швеции и Норвегии, в 1959 г. в Великобритании, в 1962 г. в Австралии, в 1980 г. в США, в 1992 г. в Венгрии, в 1996 г. в России), а производственные мощности переводились в США, Швейцарию, Чехию, Южную Корею, компания долгие годы сохраняла традиционный облик и оставалась датской, что не мешало достижению ею солидного финансового успеха (к началу ХХ в. было продано 6 млрд. конструкторов «Лего» в 140 странах мира – 22).
С середины 90-х гг. прошлого века началась стремительная транснационализация компании, сопровождающаяся сменой ее имиджа. В 1996 г. в США было основано независимое дочернее предприятие «LEGO Media International» (c 2000 г. ведущий производитель развивающих игр), специализирующееся на создании «Леголендов» (LEGOland), комплексных парков семейного отдыха, первый из которых был открыт в Виндзоре, близ Лондона. Приоритетным направлением развития практически автономных филиалов (в Лос-Анджелесе, Коннектикуте, Лондоне и проч.), имеющих собственное представительство в Интернете, стала масштабная «медиатизация» бренда: производство компьютерных и телепрограмм, видеоигр, книг и журналов для детского и семейного чтения. Новая стратегия приносит весомые плоды: по данным, приводимым Найджелом Холденом, в 1999 г. объем продаж компании составил 1,25 млрд. долларов, прибыль измерялась в 60 млн. долларов, при этом на ее предприятиях работало около 7 тыс. 800 человек (22, с.184). Открывались новые маркетинговые центры в США, Германии, Италии, Великобритании, странах Восточной Европы. В 2000 г. была приобретена специализировавшаяся на выпуске высокотехнологичных игрушек фирма «Zowie Entertainment», располагавшаяся в г. Матео в 30 км. от Сан-Франциско (основатель Джон Лемончек).Под новым названием «LEGO Lab San Mateo» предприятие было перепрофилировано в перспективный центр разработки новых компьютерных игр.



