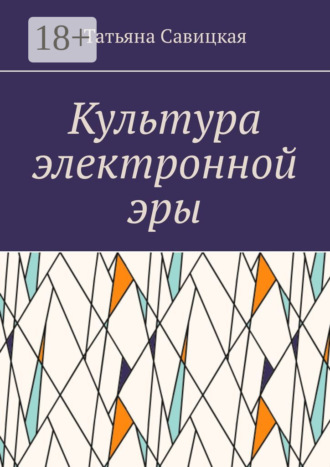
Полная версия
Культура электронной эры
Культурный праксис в онлайне – хаотический поток краткосрочной визуальной и текстовой информации – может представляться единым планетарным сознанием лишь некоторым ветеранам и теоретикам киберкультуры, воззрения которых (пестрая смесь технодетерминизма, либертарианства и коммунитаризма) получили в американской критической мысли наименование «Калифорнийской идеологии». Яркий представитель ее, Луис Россетто, один из основателей журнала «Wired» [iv], писал в итоговой статье, посвященной пятнадцатилетию выхода в свет этого печатного издания: «Мы с определенностью предсказали новое планетарное сознание, основанное на использовании людьми все более мощных персональных компьютеров и сетей. Возьмите существующую смесь нашего „железа“ и „софта“: миллиард компьютеров в Интернете, восемь терабайтов трафика при двух миллионах сообщений e-mail в секунду; три миллиарда пользователей сотовых телефонов; хранители данных объемом 264 экзобайта. У Единой Машины сейчас в тысячу раз больше транзисторов, чем нейронов в вашем мозге. Позволю себе заметить, что это составляет вычислительную мощность человеческого мозга – один ЧМ; к 2040 году Единая Машина превысит шесть миллиардов ЧМ, превзойдя вычислительную мощность человечества» [15].
Такое прославление Единой Машины, удивительно схожее по смыслу с культом Единого Организма в ритуале фордослужения, сатирически описанном Олдосом Хаксли в «Новом дивном мире», знаменует последовательный технодетерминизм как мировоззренческую доминанту основателя «Wired». Все остальное: продвижение социальных сетей, блоггинга, свободной торговли, органической пищи, генной инженерии, солнечных батарей, глобальной экономики и прочих «коньков» неолиберального мировоззрения – трактуется как формирование новой социально- экономической инфраструктуры и биологического субстрата, необходимых для дальнейших успехов Цифровой Революции. В 1993 году в первом номере журнала Луис Росетто писал: «Цифровая революция затопляет нашу жизнь как бенгальский тайфун». Пятнадцать лет спустя он все тот же преданный служитель Единой Машины: «Мы открывали Цифровую Нацию, новую родину сетевого человечества [v]. И мы восславляли новых героев, вели хронику новых побед, воодушевляли борющихся за создание нового мира» [15].
Бурная интернетизация социума, с приходом социальных сетей и ЖЖ многократно увеличившая плотность онлайновых взаимосвязей как отдельных индивидов, так и групп, интерпретируется Кевином Келли [vi], другим ветераном киберкультуры, как массированное обобществление социальной сферы, скрытое развертывание «нового социализма». В недавней статье «Новый социализм: глобальное коллективистское общество приходит через онлайн», вызвавшей массу откликов в американской блогосфере, он писал: « Неистовый глобальный порыв соединить всех и вся, во всякое время – это медленно свершающийся приход подвергнутой ревизии версии социализма» [16]. Что же имел в виду Келли, говоря о том, что «общинные аспекты цифровой культуры развиваются глубоко и широко» [16]? В первую очередь, факт динамичного роста таких коллективных онлайновых ресурсов как Википедия, число которых, по мнению У. Каннингема (Ward Cunningham), – впервые открывшего в 1994 году веб-страницу, основанную на сотрудничестве интернет-пользователей, – сейчас превышает 150, причем каждый объединяет огромное количество сайтов. Общественная самоорганизация пользователей Сети, безусловно, продолжает традиции «цифровой демократии» эпохи BBS и Фидонета [vii], приобретая все большую востребованность как противодействие растущей коммерциализации Интернета, но можно ли данное явление – даже в ранге метафоры – назвать социализмом?
Каковы же очертания цифрового социализма как «самой свежей американской инновации» по Келли? « В то время как социализм старой школы был орудием государства, – пишет он, – цифровой социализм – это социализм без государства. Этот новый бренд социализма на настоящий момент более активно, чем государство, работает в сфере культуры и экономики. … В отличие от старого социализма с красным флагом новый социализм действует через безграничный Интернет, через жестко интегрированную глобальную экономику. Он предназначен возвысить индивидуальную автономию и ниспровергнуть централизацию. Это – экстремум децентрализации» [16]. Но разгосударствление и предельная децентрализация с поощрением автономизации хозяйствующих и социальных субъектов – далеко не новые принципы либерализма, где же здесь фактор обобществления?
Келли продолжает: «Вместо собраний в колхозах (collective farms) мы собираемся в коллективных мирах. Вместо государственных фабрик у нас фабрики-рабочие столы, соединенные с виртуальными напарниками. Вместо того, чтобы делиться сверлами, кирками и лопатами, мы делимся приложениями, алгоритмами и инструментарием разработок. Вместо безликого политбюро у нас безличная меритократия, где лишь одно имеет значение – довести дело до конца. Вместо национального производства у нас производство распределенное (peer). Вместо государственного рационирования и субсидий у нас – поощрение свободными благами» [16]. Объясняя, почему он воспользовался термином с колоссальными культурно-политическими коннотациями, вместо употребления нейтральных терминов «коллективизм» и «коммунитаризм», Келли делает вывод: «Когда массы людей, владеющих средствами производства, работают ради общей цели и сообща делятся произведенными продуктами, когда они сообща участвуют в трудовом процессе без вознаграждения и наслаждаются плодами свободного обмена, это, безусловно, следует назвать социализмом» [16].
На наш взгляд, вряд ли корректно называть социализмом базирующиеся на сотрудничестве некоторые новые тренды Интернет-экономики (например, распространение адхократий, временных организационных образований, как правило, с жесткой функциональностью нацеленных на решение конкретной инновационной задачи). Под сетевым коллективизмом, с одной стороны, можно понимать новый тип корпоративной культуры, тесно ассоциированной с электронными субкультурами программистов, компьютерных инженеров, Интернет-деятелей, во многом, сохранившими мировоззренческую преемственность от субкультуры хакеров, где, фактически, не существовало понятия частной собственности на тот или иной программный продукт. Именно такой технологически продуктивный коллективизм имеет в виду Келли, подчеркивая, что «это не идеология. Он не требует жесткой веры. Скорее это – спектр определенных подходов, техник и инструментария, ориентированных на сотрудничество, соучастие, объединение, координацию, адхократию и массу иных вновь открытых видов социальной кооперации. Это – конструкция фронтира и исключительно благоприятная среда для инноваций» [16]. С другой стороны, чертами сетевого коллективизма отмечены такие новейшие проекции массового общества в онлайне как социальные сети, ЖЖ, Твиттер, осуществляющие расширенное воспроизводство киберпротезированных социальных взаимодействий. Аморфная нерефлективная коллективность, транслируемая через социальные сети в парадоксальном обличье эгоцентрического дискурса, – это спонтанная общность электронной толпы со всеми признаками массовидного образования (подверженности феномену моды, восприимчивости к манипулятивным воздействиям, рекламному «импринтингу» и т.д.).
Как видим, в обоих модусах цифрового коллективизма, и у производителей сетевого продукта и у его потребителей (пользователей), ничего социалистического не обнаружено; где же в таком случае первоисток этой идеологемы, не подтвержденной сетевым праксисом? Американский журналист Ричард Барбрук, сделавший себе имя на разоблачении «калифорнийской идеологии» неолибералов-дигерати, убежден: «Призрак бродит по Сети: призрак коммунизма», и коренится он в головах избранной кучки интеллектуалов-экстремистов («киберфеминисток, приверженцев коммуникативной герильи, технономадов и цифровых анархистов» [18]), по-прежнему убежденных, что избранное меньшинство призвано осчастливить человечество, что свет истины, воистину, воссияет – но уже не из коминтерновской Москвы, а из Силиконовой долины.
Популярная в узких кругах «продвинутых» дигерати идеология киберкоммунизма (то, что ветеран киберкультуры Джон Перри Барлоу называет непереводимым выражением «dot-communism») являет собой странную смесь технократических амбиций, амплифицированных триумфальным шествием Цифровой революции и успехами сетевого предпринимательства; старых киберпанковских грез о «преображенной плоти» постчеловека – киборга; нового издания пуританского концепта «избранного народа» на просторах Нового Света, маяка спасения для человечества; диковинной аберрации самосознания «спецов» – дигерати, уверовавших в спонтанную «освободительную силу» авангардных информационно-коммуникативных технологий. Но все эти идеологические фантомы не меняют сути глобального капитализма, надевшего цифровую личину, в рамках которого они существуют, как бы не замечая властных и бизнес-структур могущественных ТНК. Как пишет Ричард Барбрук: «Как общественные, так и частные институты лишь затем вводят новые информационные технологии, чтобы обеспечить собственные интересы. Еще в 1960-е годы военные США финансировали изобретение Сети для ведения ядерных войн. Начиная уже с 1970-х гг., финансовые рынки использовали компьютерные сети для распространения гегемонии по всему миру. И в последние годы капиталистические компании, равно как и правительственные службы, опираются на Сеть для улучшения общения с персоналом, партнерами и клиентами. Сейчас любой биржевик с Уолл-стрита ищет киберпредпринимателя, способного построить новый „Майкрософт“. Несмотря на все утопические предсказания дигерати, нет ничего спонтанно освободительного в сращении компьютеров, телекоммуникаций и медиа. Подобно прежним формам капитализма, информационное общество пребывает под управлением иерархий рынка и государства» [18].
Констатируя все большее расхождение «калифорнийской идеологии» киберкультуры и реального культурного праксиса в онлайне, нельзя не отметить, что самодовольная эйфория от успехов Цифровой революции, в которой пребывают некоторые ветераны киберкультуры, мало способствует пониманию тех новых вызовов и угроз, с которыми столкнулось сетевое сообщество уже в ХХI веке. Прежде всего, это нарастающая амбивалентность дальнейшего сращения киберпространства с повседневной жизнью миллионов людей в эпоху «умных толп», когда, с одной стороны, невиданно возрастает уровень комфортности пользования новейшими онлайновыми сервисами, а, с другой, личная жизнь человека во всех нюансах ее биографических, медицинских, профессиональных, мировоззренческих и прочих параметров становится все более проницаемой для технологического наблюдения. Обратная стороны расширяющих пространство личной свободы технологических удобств (социальных сетей, многофункциональных мобильных телефонов, «умных помещений», «мыслящих предметов», «нательных компьютеров») – многократно возросшая возможность контроля, когда любое подключенное к Сети вычислительное устройство потенциально является «глазом» Мегамашины, этого коллективного надзирателя, добровольно выстроенного человечеством. По сравнению с таким рукотворным вездесущим монстром не покажется ли наивной игрушкой паноптикон Иеремии Бентама, о котором так много писал Мишель Фуко как образце технологической эффективности надзирающего контроля?
Говард Рейнгольд, пристально следящий за эволюцией электронного сообщества на протяжении многих лет, признает, что «метатехнологии, способные отвести исходящие от умных толп угрозы, направив их силу в созидательное русло, еще полностью не сложились» [1, с.320]. В связи с этим он высказывает сомнение: «Не превратятся ли в ближайшие несколько лет нарождающиеся умные толпы в пассивных, хотя и мобильных потребителей некоего нового, управляемого сверху, средства массовой информации? Или же утвердится инновационная общественная собственность, где многие потребители будут иметь право творить?» [1, с.320] Одно можно сказать, складывающее на наших глазах глобальное сетевое постобщество до предела обостряет вечную дилемму человеческой свободы – свободу БЫТЬ и свободу ИМЕТЬ.
Список литературы
1. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. – М.: ФАИР ПРЕСС, 2006. – 416 с.
2. Levy St. Hackers: Heroes of Computer Revolution. – New-York: Anchor Press/Doubleday, 1984.
3. Лем С т. Молох. – М.: Транзиткнига, 2005.
4. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. – 464 с.
5. Robinet W. Electronic Expansion of Human Perception //Whole Earth Review. – Fall, 1991. – P.16—21.
6. Mann St., Niedzviecki H. Cyborg: Digital Destiny and Human Possibility in an Age of the Wearable Computer. – Mississceuga: Doubleday Canada, 2001.
7. Rheingold H. The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier. – Reading Mass.: Addison-Vesley, 1982.
8. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 320 с.
9. The Evolving Internet: Driving Forces, Incertainties, and Four Scenarios to 2025. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsroom.cisco.com
10. Russia Has World s Most Engaged Social Networking Audience [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.comscore.com
11. Charter D. Future of Social Media: the Walls Come Crambling Down [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wired.com/dualpercpectives/article/news/2009/06/dp
12. Коупленд Д. Рабы «Майкрософта». – М.: Аст: Люкс, 2005. – 492 с.
13. Levy St. The Burden of Twitter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wired.com/techoz/people/magazine/17-02/St_Levy
14. Кормильцев И. Поколение икс – последнее поколение // Иностранная литература.– М. – 1998. – №3. – С.226—234.
15. Rossetto L. In a Letter to His Kids, Wired s Founding Editor Recalls the Dawn of the Digital Revolution [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.wired.com/techbiz/media/magazine/16-06/ff_15th rosseto
16. Kelly K. The New Socialism: Global Collectivist Society Is Coming Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism
17. Фидонет. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
18. Barbrook R. Cyber-Communism: How the Americans Are Superseding Capitalism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imaginary futures.net/cybercommunisn_art. PDF.
[i] Имеется в виду Скотт Фишер – американский исследователь в сфере технологий искусственной реальности
[ii] См.: Levy St. Crypto: How the Code Rebells Beat the Covernment. Saving Privacy in the Digital Age. – N.Y., 2001.
[iii] Имеется в виду распространенное в американской эссеистике отождествление «внутренней цензуры» человеческого поведения с Малым Братом в противовес Большому Брату – контролю государства.
[iv] «Wired» – иллюстрированный ежемесячный журнал, основанный в 1992 году американскими журналистами Л. Россетто (р.1950) и Дж. Меткаф (р.1961) при поддержке Н. Негропонте и компании «Wired Ventures».
[v] Россетто использует здесь непереводимый неологизм: «Netizen», составленый из двух английских слов: «Net» (сеть) и «Citizen» (гражданин), для обозначения новой популяции людей – граждан Сети.
[vi] Кевин Келли (р. 1952) – американский журналист, один из основателей журнала «Wired» (исполнительный директор), специалист по сетевой экономике, автор книг: «Out of Control. The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World» (1994), «New Rules for New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World» (1999).
[vii] Фидонет (сокращенно Фидо, от англ. Fidonet) – международная некоммерческая компьютерная сеть, созданная в 1984 году американским программистом Томом Дженнингсом для передачи данных с его BBS на BBS его друга Джона Мэдила. По данным Википедии [17], в 1995 году на пике распространения Фидонет насчитывала около 40 тысяч узлов, в мае 2009 года в ней состояло более 5500 узлов.
«Африка внутри нас»: Парадоксы современных процессов визуализации культуры
«В двадцатом веке происходит встреча алфавитного и электронного ликов культуры, и печатное слово начинает служить тормозом в пробуждении Африки внутри нас».
Маршалл Мак – Люэн. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры (10, с. 67)«Избавьтесь от гнета бумаги. …Переходите к веб – стилю жизни».
Билл Гейтс (Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: Эксмо – Пресс, 2000. – С.58, 127).Поистине, можно согласиться с древней максимой восточных мудрецов: величайшие перемены происходят незаметно. За идеологическим противостоянием, концептуальными и стилевыми разногласиями, раздиравшими культуру ХХ века, исподволь сформировалось базовое пространство консенсуса, негласно очерчивающего конфигурацию ментальности подавляющего большинства жителей планеты, во многом детерминирующего их повседневную жизнь, досуг и профессиональную реализацию. Речь идет о прогрессирующей экспансии информационно-зрелищных технологий, отнюдь неслучайно совпавшей в первые десятилетия прошлого века, во время зарождения кинематографа, со становлением массового общества, а ныне в эпоху тотальной компьютеризации и вездесущего Интернета – вполне закономерно – являющейся инструментом глобализации. А вместе с тем, как справедливо отмечает Николай Хренов, обращая внимание на «процесс визуализации культуры, на наших глазах развертывающийся уже не только в кинематографических и телевизионных формах, но и в формах видео и Интернета» [15, с. 5], природа этого явления до сих пор, во многом, остается неясной.
Осознание масштабности происходящих видоизменений требует, безусловно, расширения временных и концептуальных рамок исследования. Неслучайно, например, Г. В. Лысенко [9], опираясь на классические труды М. Мак-Люэна, выделяет следующие этапы всемирной информационно-коммуникативной революции: изобретение языка (1) – письменность (2) – книгопечатание (3) – электронные СМИ (4) – компьютер и Интернет (5). На наш взгляд, наиболее перспективно и практически ценно изучение многоаспектного взаимодействия двух дискурсов: печатного слова и чисто визуальной репрезентации – в контексте современных культурно-антропологических и социокультурных процессов, включая такие гибридные формы, как чтение с дисплея и, скажем, печатные версии телевизионных сериалов. Начнем, разумеется, с книги, из почтения к ее многовековой миссии хранителя и транслятора сокровищ письменной культуры.
Ее величество Книга – Золушка в век электронной коммуникации?
Эх! Эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Некрасов Н. А.2Вездесущие СМИ, разумеется, не преминули сообщить нам, что на ежегодной книжной ярмарке в сентябре 2006 г. в Москве было экспонировано на площади свыше 30 тыс. метров 155 тыс. наименований книжной продукции, представленных тремя тысячами издательств из 56 стран мира [26]. Картину видимого благополучия на ниве книгоиздания дополняют стабильно год от году растущие тиражи. Так, по данным ВЦИОМ, в 2000 г. было выпущено почти 60 тыс. наименований книг тиражом 470 млн. экземпляров [4, c. 33]. А в 20002 г., по данным российской Гильдии издателей периодической печати, был зарегистрирован выпуск 69 742 названий книг и брошюр совокупным тиражом 591, 3 млн. экземпляров [26]. Как говорится, прогресс налицо. И это в условиях монопольно высоких цен на продукцию отечественной целлюлозно-бумажной отрасли, в долларовом выражении сравнявшихся с мировыми; отмены льготного налогообложения, действовавшего в период с 1996 по 2001 г.; развала (особенно в провинции) государственной системы книготорговли в условиях массового «перепрофилирования» книжных магазинов и сдачи в аренду их торговых площадей под реализацию более «ликвидного» товара. Не забудем при этом, что на протяжении, по крайней мере, трех минувших столетий культура России имела четкую «литературоцентристскую» направленность, что не могло благоприятно не сказаться при вхождении отечественного книгоиздания в рынок.
Но …«не все спокойно в королевстве датском»; целый ряд характерных признаков заставляет говорить о системном неблагополучии если не книгоиздательской отрасли как таковой, то современного состояния читательской аудитории, т. е. самого «человека читающего». По данным ВЦИОМ за 2001 год, более трети (34,2%) россиян практически не читают книг [4]. В результате трехлетних исследований Центра Юрия Левады выяснилось, что 37% жителей РФ вообще ничего не читают (это преимущественно мужчины, люди старше 50 лет, жители малых городов и поселков, имеющие образование ниже среднего); 40% – читают «время от времени»; и лишь каждый четвертый россиянин является активным читателем (как правило, это люди, живущие в крупных городах, относящиеся к возрастной категории от 33 до 49 лет со средним или высшим образованием) – [27].
Если, как отмечает Андрей Ильницкий, в 80-е гг. в СССР издавалось примерно 80 тыс. наименований книг в год (в России приблизительно 50 тыс.) суммарным тиражом около 1 800 млн. экземпляров, что составляло около семи книг на человека в год, то в середине 90-х гг. в РФ выпускалось в год примерно 35 тыс. наименований книг суммарным тиражом около 425 млн. экземпляров, т. е. менее трех книг в год на россиянина [4, c. 28]. Стоит напомнить для сравнения, что в развитых странах на душу населения в год выпускается никак не менее 15 книг. Недостаточный объем книжного потока усугубляется крайней неравномерностью его распространения по стране: «По экспертным оценкам, в провинциальных российских городах с населением в 500 тыс. человек суммарный книжный ассортимент по всем торговым точкам не превышает пяти тысяч наименований, что в десять раз (!) меньше ассортимента одного лишь московского магазина «Библио-Глобус» [4, c. 5—6]. Результаты – налицо: по данным опроса жителей городов юга Тюменской области в августе 2005 г. в возрастной категории от 25 до 55 лет, как отмечает Г. Г. Сорокин, «результаты исследования выявили невысокий интерес к чтению у большинства респондентов. Более половины опрошенных не прочитали за последний год ни одной книги. 26% не являются постоянными читателями газет и журналов. 16,6% не читает ни книг, ни периодики» [14, с. 240] – Можно снять) Причины книжного «голода» российской провинции не только руинированное состояние системы периферийной книготорговли, но и преимущественное сосредоточение издательских мощностей в столицах: Москве и Санкт-Петербурге. Так, например, по данным аналитика, «в 2001 году более 70% всех книг было выпущено издателями Москвы и Санкт-Петербурга, а их тираж превысил 90% суммарного тиража по стране» [4, c. 48].
На кризисное состояние читательской культуры в стране указывает не только количество, но и качество массового чтения. В 90-е гг. среди переводных книг преобладали следующие жанры: женский роман – 60%, детектив/триллер – 20%, фантастика – 12%, прикладная литература – 5%, детская литература – 3% [4, c. 13]. Именно тогда, в эпоху «дикого российского капитализма» сформировался суррогатный литературный жанр киноромана. Как отмечает, говоря о киноромане, Андрей Ильницкий, «этот незаконнорожденный ребенок литературы, кино и телевидения позволил миллионам россиян, не имевшим в начале 90-х гг. возможности смотреть видео, ознакомиться с мировым кино в вольном пересказе (!) российских „литературных негров“. В начале 1994 г. в первой десятке рейтинга бестселлеров Москвы шесть позиций занимали книжные версии кино – от вполне литературных М. Крайтона „Парк Юрского периода“ и Р. Майлз „Возвращение в Эдем“ до „шедевров“ жанра – кинороманов „Дикая роза“ и „Просто Мария“, кстати, возглавивших эту десятку» [4, с. 14].
В последующее десятилетие лидерами книжного рынка по-прежнему оставались жанры массовой культуры. По данным ВЦИОМ на начало текущего столетия, самыми популярными жанрами среди российских читателей были: детективы, боевики, приключения (свыше 30%), женские романы (23,9%), исторические романы (24,1%), романы русских и зарубежных классиков (14,1%), книги по домашнему хозяйству (6,4%), энциклопедии, словари, справочники (1,5%). Примерно такая же картина складывается и на российском рынке печатных средств массовой информации. По данным А. Яковлева, «в настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано приблизительно 40 тыс. периодических печатных изданий, в том числе около 24 тыс. газет, 14,5 тыс. журналов, три тыс. альманахов, сборников, бюллетеней» [18, c.98], что примерно в три раза больше общего количества официально зарегистрированных в РФ печатных СМИ в 1997—1998 годах. Общий тираж российских газет в 2002 г. составил восемь млрд. экземпляров, а журналов – 520 млн. экземпляров. В 2004 г. по предварительным данным эти показатели составили соответственно 8,8 млрд. экземпляров и около 600 млн. экземпляров.– Может быть в сноску?) Но какого характера пресса преобладала в этом, год от году растущем потоке? По данным А. Яковлева, «лидерами по тиражам в 2002 году были кроссвордные журналы, доля которых на российском рынке составила почти 15%. Вторую позицию занимали журналы о кино и телевидении (14,7%), а третью – женские журналы (13,9%)» – [18, c. 101].



