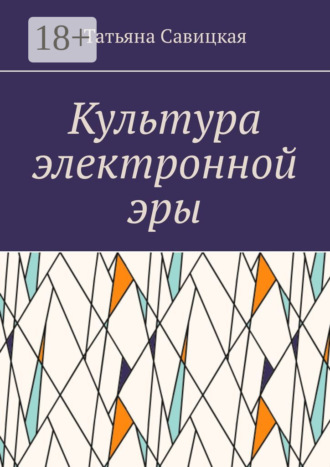
Полная версия
Культура электронной эры
Но для массового сознания никогда не были популярны призывы культивировать «истинное искусство» Декартовского критического мышления в противовес заражению очередным мифом. Мягкий «ньюэйджевский» мистицизм киберхиппи постепенно перетекал в жесткую техномагию киберпанков; на роль культурных героев выдвигались хакеры [18] наподобие «ковбоя консоли», киборга Кейса из «Нейроманта» У. Гибсона [1984],ведущего бесконечную герилью с «новым тоталитаризмом» ТНК. Новая фаза киберделии уже не ассоциировалась с «космическим сознанием», пантеистическим растворением в киберпространстве, отождествляемом с наконец-то достигнутой ноосферой. Фантазм всемогущества приобрел более эгоцентричный, прикладной характер; социальное воображение оккупировали киборги, биороботы, начиненные трансплантантами нейрохакеры, одновременно «воплощавшие эскапистское желание живительного и познавательного транса и утилитаристское желание реорганизовать себя в соответствии с производственной логикой машины» [4, с.218] – возможное отображение в зеркале научной фантастики становящегося фактом интерфейса человека и машины в приобретающих массовый характер персональных компьютерах (кстати, термин был введен Стюартом Брандом) и первых пользовательских сетях.
Киберделия как «постдефицитная технологическая утопия» (Марк Дери) общества потребления, поощряя создание спроектированных реальностей, способствовала все большей подмене общественного пространства сюрреалистическим медиаландшафтом, когда, казалось, само система начинала галлюцинировать, выдавая за приемлемый образ мира то аркадные видеоигры, то нашпигованный спецэффектами фэнтезийно-комиксовый кинематограф, то основанные на зрелищной симуляции массовые развлечения в парках аттракционов. Сращение информационных технологий с массовой поп-культурой, приведшее к беспрепятственному тиражированию фантазмов подсознательного в невиданных ранее масштабах, по сути, маскировало факт глубинного переформатирования всей социокультурной сферы. Следствием все более эгоцентричного культурного производства в формате киберпространства становилась приватизация социальности, – недаром наиболее чуткие аналитики, например, Артур Крокер, последователь Маклюэна, писали в эти годы об исчезновении социальной ткани, – как конвенциональной реальности воспроизводимых общественных связей, сминаемой напором социокультурного креатива.
Виртуализация культурного дискурса в 70-е и особенно 80-е годы, будь то в литературном и кинематографическом жанре фантастики, либо в компьютерных играх, основных модификациях киберпанка, осуществлялась, в первую очередь, за счет трансформации хронотопа, открывающей доступ в возможные миры (так, в культовом романе Брюса Стерлинга «Схизматрица» 1985 года [19] действие происходит в Корпоративной орбитальной республике Моря Ясности в некоем неопределенном будущем времени), а также посредством невероятного ускорения действия (канон жанра экшн), ломающего режим привычного мировосприятия. Именно в эти годы параллельно с ростом империи видеоигр, постепенно ставших и онлайновыми («Air Warrior» и «Gemstone» 1987 года), разрасталась Киберия, обосновавшаяся в «окопах гиперпространства», – если позволительно обыграть название известной книги Дугласа Рашкоффа [13], – волшебная страна симуляционных игровых стратегий; коллективная греза, замешанная на сюрреалистических страхах подсознания; подобное лабиринту пространство искусственной яви на экране монитора, дарующее допинг иллюзорного всемогущества. То, насколько хаотичным, синкретическим и вместе с тем откровенно технократическим мог быть дискурс киберкультуры в эти годы, демонстрирует сам Рашкофф в своем знаменитом определении киберии: «Киберия – это место, куда попадает воин-шаман, выходя из тела; место, где оказывается танцор на „кислотной“ дискотеке, испытывающий блаженство техно-кислотного транса. Киберия – место, на которое указывают мистические учения всех религий, теоретическая цель любой науки и самое безумное желание любого воображения. Теперь, однако, как никогда раньше в истории, киберия – в пределах достижимости. Технологический прорыв постмодернистской культуры, вкупе с возрождением древних духовных учений, убедили растущее число людей в том, что киберия – то измерение, которого скоро достигнет человечество» [13].
Подчиняясь духу времени, фантастами (а, может быть, просто фантазерами) стали и те культовые фигуры из генерации «яйцеголовых» хиппи, академических ученых, что на рубеже 60-х первыми выпустили джина из бутылки, инициировав эксперименты с наркотиками зачастую, как потом оказалось, в рамках секретных проектов ЦРУ (например, Джон Лилли был участником проекта «NK – Ultra). Так, Тимоти Лири (1920—1996), в конце 60-х занимавшийся картографированием наркотических грез, вдохновляясь «Тао те кинг» и тибетской «Книгой мертвых» [20], десятилетием позже пропагандировал «инфопсихологию»; концепцию безграничного развития мозга, способного считывать галактическую информацию, корректировать генетический код и т. д. [21], а в 80-е стал разработчиком программного обеспечения. Джон Лилли (1915—2201) из биолога (знаменитые опыты с дельфинами) и нейропсихолога, создавшего камеру сенсорной депривации, где он и проводил эксперименты с ЛСД, превратился в «психонавта», посвятившего себя перепрограммированию человеческого биокомпьютера и принимавшего послания от кометы Когоутека [22]. Сходной была эволюция Ричарда Алперта, Ральфа Метцнера и Чарльза Тарта (р. 1937), автора знаменитой книги «Измененные состояния сознания» [23]. Все они из «рейверов», проникнутых нью-эйджевской эзотерикой, постепенно приходили к информационализму, эволюционистскому трансгуманизму того или иного толка.
Но, в действительности, ход развития киберкультуры к началу 90-х гг. в связи с вхождением Интернета в жизнь миллионов все меньше напоминал популистско-технократические мечтания престарелых киберхиппи. Граничащие с эскапизмом и социальным аутизмом киберийские поиски «кайфа» при посредстве технологий виртуальной реальности, все в большей степени востребуемые массовой культурой, существенно расходились с социально позитивной разработкой коммуникативной парадигмы киберпространства. Вырвавшись за пределы субкультурного подполья, ассоциированного с BBS и маломощными пользовательскими сетями, киберкультура все больше напоминала ту «культуру реальной виртуальности», о которой говорит Кастельс как о мейнстриме современного культурного развития: «Мы действительно живем в условиях культуры, которую я… обозначал как „культуру реальной виртуальности“. Она является виртуальной, поскольку строится, главным образом, на виртуальных процессах коммуникации, управляемых электроникой. Она является реальной (а не воображаемой), потому что это наша фундаментальная действительность, физическая основа, с опорой на которую мы планируем свою жизнь, создаем свои системы представительства, участвуем в трудовом процессе, Связываемся с другими людьми, отыскиваем нужную информацию, формулируем свое мнение, занимаемся политической деятельностью и лелеем свои мечты. Эта реальность и есть наша реальность. Вот что отличает культуру информационной эпохи: именно через виртуальность мы в основном и производим наше творение смысла» [1, с.227]. Киберкультура стояла на пороге нового витка парадоксального становления в изменившемся контексте начала ХХI века, по-прежнему сохраняя статус зоны социального креатива.
Список литературы
1. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. -320 с.
2. Бей Х. Временная автономная зона // Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии (под редакцией П. Ладлоу). – Екатеринбург: Ультра Культура, 2005. – С.530—594.
3. Пушкин А. С. Осень (отрывок) //А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. – Т.3.– Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1949. – С.262—265.
4. Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. – Екатеринбург: Ультра Культура, 2008. – 480 с.
5. Hobbes Internet Timeline. – [Электронный ресурс]. —Режим доступа:http://www.Zakon/org/Robert internet timeline
6. Hollstein W., Panth B. Alternativprojecte: Biespiele gegen Resignetion. – Hamburg, 1980. – 450 S.
7. New Age Catalog. – N.Y.: Doubleday, 1988. – 244 p.
8. Перди Дж. Бог «дигерати» //Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии (под редакцией П. Ладлоу). – Екатеринбург: Ультра Культура, 2005. – С.467—478.
9. Носов Н. А. Виртуальная психология. – М.: «Аграф», 2000.– 432 с.
10. Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков, – Екатеринбург: Ультра Культура; М.: АСТ МОСКВА, 2008. – 478 с.
11. Лири Т. Искушение будущим. – М.: Ультра Культура, 2004.
12. Вулф Т. Электропрохладительный кислотный тест. – СПб.: Азбука – Терра, 1986.– 512 с.
13. Rushkoff D. Cyberia: Life in the Treches of Cyberspace. – N.Y.: Cinamon press, 2002. – 272 p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/rushkoff.com/downloadable/cyberiabook/textonly/htnl
14. Rheingold H. The Virtual Community: Homestanding on the Electronic Frontier. – Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1993.
15. Barlow J.P. Declaration of the Independence of Cyberspace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Https://projects.eff.org/ ~barlow/declaration-final.html
16. Roszak Th. The Cult of Information: the Folklore of Computers and the True Art of Thinking. – New York: Panheon Books, 1986. – 238 p.
17. Roszak Th. Person/Planet. The Creative Disintegration of Industrial Society. – Garden City (N.Y.), 1979.
18. Levy S. Hackers: Heroes of Computer Revolution. – New York: Anchor Press/Doubleday, 1984.
19. Стерлинг Б. Схизматрица. – М.: Эксмо; СПб.:Домино,2007.-432 с.
20. Leary Th. Psychedelic Prayers from the Tao Te King. – N.Y., 1967.
21. Leary Th. Info-psychology. —N.Y., 1979.
22. Лилли Дж., Рам Дасс. Центр циклона. Зерно на мельницу, – Киев: София, 1993; Лилли Дж. Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера: теория и эксперимент, – Киев: София, 1994.
23. Tart Ch. Altered States of Conscionsness. —N.Y., 1969.
КИБЕРКУЛЬТУРА В ЭПОХУ «УМНЫХ ТОЛП»
С тем, как мы решим использовать эти технологии, и как власти позволят нам пользоваться ими, далеко не все ясно. Будут ли это технологии сотрудничества или же дезинформационно-развлекательная машина?
В ближайшие несколько лет все и решится.
Говард Рейнгольд. Умная толпа. Новая социальная революцияНа рубеже нового тысячелетия в контексте универсализации киберпространства как электронного субститута практически всех видов общественной деятельности происходила дальнейшая демаргинализация киберкультуры, постепенно утрачивавшей субкультурный статус. Основная функция киберкультуры предшествовавших десятилетий – творческая дезинтеграция сложившихся культурных институтов и ассоциированного с ними праксиса – все активнее вытеснялась новой функцией: отстраиванием нового электронного социума как комфортной среды самопрезентации для индивидов и групп. Можно ли сказать, что произошедшая на рубеже веков «революция социальных сетей» и ЖЖ завершила череду социокультурных революций второй половины ХХ века, сама став истеблишментом, «новым информационным порядком» (Энтони Гидденс), ядром глобальной электронной цивилизации удобств и услуг? В эпоху массовой компьютеризации при неуклонно растущем репертуаре информационно-коммуникативных услуг нелепым кажется героический пафос хакеров 70-80-х, первопроходцев киберпространства, с их борьбой за свободу информации и альтруистической моралью, о которой так красноречиво писал когда-то Стивен Леви [2]. Киберделические поиски «нового неба и новой земли» раскрепощающей инфантильное «Я» виртуальности подвергаются банализации и рутинизации в империи MMOG (Massively Multiplayer Online Gane), многопользовательских онлайновых компьютерных игр, массово-рыночных поставщиков социальной психоделии.
Всеобъемлющие процессы виртуализации социума сделали обыденной социальную фантоматику, если понимать под ней вслед за классиком жанра научной фантастики Станиславом Лемом подключение «человека его органами чувств, или всем сенсориумом, к компьютеру, так что «этот компьютер вводит в органы чувств, такие как глаза, уши, кожа тела и т.д., импульсы которые непрерывно нам доставляет мир, т.е. обычное окружение» [3, с.13]. Говард Рейнгольд, бывший на протяжении не одного десятка лет активистом компьютерного андеграунда, четко фиксирует произошедшее изменение вектора виртуализации: «Вначале 1990-х «виртуальная реальность» виделась миром, где люди осваивают искусственные вселенные, сокрытые внутри компьютеров. Не так распространены были еще более фантастические представления о мире начала ХХI века, где компьютеры будут встраиваться в действительность, а не наоборот» [1, с.124]. Об опыте переживания искусственной смоделированной реальности он отзывается несколько пренебрежительно: «В 1990 году, когда Фишеру [i] выпала возможность сконструировать «головной дисплей» для NASA, он предложил мне засунуть голову внутрь компьютеризированного шлема, чтобы заглянуть в виртуальную реальность. Пришествие киберпространства состоялось! Как выяснилось, оно походило на мультипликацию» [1, с.126].
Другое дело – наступающая «эра разумных вещей»: оснащенных информационными датчиками и обратной связью с пользователем «умных помещений» (рабочих столов, входных дверей, автомобилей и т.д.); подключенных к Интернету «мыслящих предметов» (холодильников, стиральных машин, теле- и радиоаппаратуры), способных работать в автономном режиме, включаться и выключаться дистанционно; нательных, носимых на одежде компьютеров, сотрудничающих с пользователем. Все эти фантастические устройства разрабатываются целым рядом передовых лабораторий (Группой мобильных общественных вычислительных сред, Social Mobile Computing Group при Шведском институте информатики, Лабораторией информационных сред Массачусетского технологического института, проектной группой AULA при Хельсинском университете и т.д.); некоторые новинки, – например, наручный компьютер Watch Pad компании IBM c устройством Bluetooth для беспроводного Интернета, – уже поступают на рынок.
Кстати сказать, на возможность такого вектора эволюции информационно-коммуникативной техники, нацеленной на охват всего «жизненного мира» индивида, указывал еще Маршалл Маклюэн. В рамках его концепции, как известно, электронные СМИ как технология тотальная и инклюзивная, в отличие от прежних технологий, являющихся проекцией одного органа (как, например, радио – уха) овеществляют всю нервную систему человека. Маклюэн пишет: «Помещая с помощью электрических средств коммуникации свои физические тела в свои вынесенные наружу нервные системы, мы приводим в действие динамический процесс, в ходе которого все прежние технологии, являющиеся просто-напросто расширениями рук, ступней, зубов и механизмов поддержания температуры тела – все эти расширения наших тел, включая города, – будут переведены в информационные системы» [4, с.69].
Основанное на прогрессе микроэлектроники проникновение киберкультуры в быт, в основном, осуществляется по модели «расширенной реальности» (термин Майрона Крюгера) под давлением императива возрастания удобств. Но существуют проекты более интенсивного вхождения в киберпространство, значительно расширяющего диапазон человеческого восприятия. Так, Уоррен Робинет (Warrren Robinet), разработчик компьютеризированных информационных сред, предлагает подключать головной дисплей к микроскопу, телескопу или видеокамере со специальным устройством для визуализации инфракрасного, ультрафиолетового или радиочастотного излучения [5]. Но и это не предел: Стив Манн (Steve Mann), выдающийся специалист в области робототехники из Канады, разработавший версию самоуправляемого автономного «нательного компьютера» (wearable computer), убежден в праве каждого видеть только то, что он хочет – через синхронно работающие дисплеи, создающие оптический образ для каждого глаза – убирая из поля зрения коммерческую рекламу и т. д. [6]
Конечно, трудно предположить, что выдвинутая Манном радикальная версия технологического аутизма станет в ближайшее время мейнстримом киберкультуры, все более активно продвигающейся в сторону «инфотейнмента», сплавления информационных (information) и развлекательных (entertainment) технологий. Говард Рейнгольд, еще вначале 80-х пытавшийся каталогизировать электронные субкультуры, обустраивающие «цифровой фронтир» [7], делает более осторожный прогноз: «Кого бы ни ждал успех – производителей грошовых микросхем, нательных компьютеров, карманных устройств с географическим кодом, привязанных к месту услуг; умных помещений, цифровых городов или разумной мебели – очевидно одно: в ближайшее десятилетие появится множество неодушевленных предметов, подключенных к Интернету, и людей, связанных посредством мобильных технологий группообразующих сетей» [1, с.163]. А это и означает подлинное – а не маргинально игровое – пришествие киберпространства как жизненной среды миллионов; той «реальной виртуальности», о которой писал Кастельс [8], когда исчезающая граница между битами и атомами «проходит там, где смыкаются различные отрасли знаний, связанные с виртуальной реальностью, расширенной реальностью, умными помещениями, осязаемыми сопрягающимися средами (интерфейсами) и нательными вычислительными средствами» [1, с.152].
Это знаменует, в частности, выход на арену «умных толп» – массового потребителя авангардной техники, одновременно и творца, и творения новой социально-культурной парадигмы. Вряд ли случайно, что в подавляющем большинстве «умные толпы» рекрутируются из «цифровых аборигенов» (digital native»), поколения, сформировавшегося в эпоху видеоигр и Интернета; тех, на которых впервые в истории была полновесно опробована модель киберсоциализации. По данным отчета « Эволюция Интернета», опубликованного в августе 2010 года компанией Cisco и подразделением глобальных бизнес-сетей консалтинговой фирмы Monitor Group, уже сейчас Всемирная паутина охватывает 2 миллиарда пользователей и поддерживает рынок объемом в 3 триллиона долларов США [9]. Согласно данным компании ComScore на май 2009 года, 65% глобальной интернет-аудитории составляют посетители социальных сетей [10]. Именно социальные сети, а также сервисные службы блогов и микроблоггинга (в первую очередь Твиттера, последней новинки Интернет-моды) демонстрируют, по данным социологов, наиболее активный рост среди онлайновых ресурсов. Дэвид Чартер в статье «Будущее социальных медиа», опубликованной в июньском номере журнала «Wired» за 2009 год, отмечает: «люди толпятся на этих сайтах в рекордном количестве, … Facebook1 перевалил сейчас за 200 миллионов пользователей по всему миру, а Twitter вырос за прошлый год на 3000%» [11].
Постепенно, как водится, количество переросло в качество: аналитики заговорили о рождении «общества Web 2.O», стремительно развивающемся социокультурном феномене глобального масштаба, когда из хаотической массы децентрализованных пользователей все более активно вычленяются новые интернет-сообщества, формирующие автономное социальное пространство, престижную социально-коммуникативную модель личной и групповой самомопрезентации. Кстати сказать, возрождение «новой коллективности», – парадоксальной общности эгоцентрических индивидов, сбивающихся в «электронные племена», – было предсказано классиком теории СМИ Маршаллом Маклюэном.
Общество web 2.0: новая парадигма или старый архетип
Я прихожу к заключению по поводу человеческого подсознания,… что, как на него ни смотри, машины действительно и есть наше подсознание. То есть не инопланетяне же спустились к нам на Землю и создали для нас машины, … мы сотворили их сами. Поэтому машины могут быть только продуктами нашей сущности и потому окнами в наши души. …Наблюдая за машинами, которые мы строим, и за тем, что мы в них вкладываем, мы получаем потрясающе достоверный лакмус того, как мы развиваемся.
Д. Коупленд. Рабы «Майкрософта»Отмечая тотальный инклюзивный характер электронных средств коммуникации, овеществляющих нервную систему человека, Маршалл Маклюэн писал, что «с пришествием электричества и автоматизации технология фрагментированных процессов внезапно слилась воедино с человеческим диалогом и потребностью во всепоглощающем внимании к человеческому единству. Люди вдруг превратились в кочевых собирателей знания, кочевых, как никогда раньше, информированных, как никогда раньше, свободных от фрагментарного специализма, как никогда раньше, – и вместе с тем, как никогда раньше, вовлеченных в тотальный социальный процесс» [4, с.412]. Период новой кочевой устности в онлайне – это также вполне по Маклюэну, период слухов, неуверенности, тревоги (издержек «открытости», трансцендирующей пространство и время), эпидемического снижения уровня общения, примитивизации интересов, мифологизации мышления, засилья сленга и вульгарной эротики – вследствие ренесанса «социального бессознательного», занимающего место ниспровергнутого «ratio» «гутенберговского», «письменного» человека с его индивидуализмом, интроспекцией и высокими интеллектуальными стандартами.
По Маклюэну «Немезида креативности» (удивительно ёмкий термин!) настигает человечество, когда оно, передоверив электронным технологиям бремя познания и укрощения бытия, в состоянии «нарциссического наркоза» (после «самоампутации» утраченных способностей) эйфорически развивает игровое пространство общения. Очевидно, что в современную эпоху планетарного господства электронных СМИ, когда экстериоризации подвергается сама нервная система человека, шок самоампутации должен быть всеобъемлющим, поскольку же «удар новой технологии парализует процедуры осознания» [4, c.78], закономерно, что «эпоха тревоги и электрических средств является также эпохой бессознательного и апатии» [4, с.57], эпохой господства массовой психологии и ренессанса телесного дорефлексивного восприятия, равно как и упадка элитарного книжного знания, ведь “ в электрически конфигурированном и взорвавшемся внутрь обществе фрагментированный, письменный и визуальный индивидуализм невозможен» [4, с.61].
Возможна, однако, и другая трактовка происхождения новой модели социальности.
Не является ли массовизация инфантильно-эгоцентрического дискурса в креативном пространстве veb 2.0 вкупе с новой сетевой идентичностью акторов общения и негласно признаваемым «продвинутым» сетикетом родимыми пятнами молодежной субкультуры, приобретшей – при посредстве авангардной техники – в эпоху цивилизационной неопределенности и институциональных рисков новое звучание и невиданный, глобальный масштаб? То, что социальное и биологическое взросление – фактор, разрушающий магию новейших онлайновых ресурсов, демонстрирует недавняя статья «Бремя Твиттера» ветерана киберкультуры Стивена Леви. «Каюсь, что имея блог, я не пополнял его семь месяцев. Не то, чтобы мне не нравились социальные сети – я обожаю их. Сам способ мне нравится – он преобразует закоснелый круг контактов и знакомств в нечто, приближающееся к общине», – так интригующе начинает статью Леви [13].
Вскоре, однако, былой энтузиаст кибернетической коммунитарности пришел к неутешительному выводу: «боюсь, что я таскаю кусочки из информационного банка, не делая никакого вклада взамен. Вместо здорового взаимовыгодного участия, я флиртую с паразитическим вуайеризмом» [13]. Наверное, нет ничего удивительного в том, что солидному сотруднику «Newsweek», автору нескольких книг о киберкультуре (кстати, одна из них посвящена трансформации «приватности» в электронную эру [ii]), скучна «электронная тусовка», неинтересно «следить за цифровыми восклицаниями выбранных Twitterati» [13], психологически неуютно быть открытым всем и каждому. Но, как говорится, noblesse oblige, обретшая легитимность свобода сетевого самовыражения не подлежит сомнению. Остаются жалобы на алчное любопытство и низкие запросы анонимного сетевого социума: «Одно дело – от человека к человеку делиться личными моментами. Но где же здесь община? …Мы много слышали о нарушении прав личности Большим Братом и Малым Братом [iii]. Но что если вина за это лежит не на нашем окружении, а на нас самих?» [13]
Странно ожидать высокого общинного сознания от конгломерата интернет-пользователей, как правило, воспитанных массовой поп-культурой с ее корпусом шаблонных жанров (видеоклипы, боевики, триллеры, рекламные ролики, видеоигры), мозаичностью и текучестью мировосприятия, ненасытной жаждой рассеяния и развлечения, боязнью самопознания и партикулярным бунтом против «тоталитаризма» высоких ценностей и вечных истин. До предела выхолощенные ценности молодежной контркультуры 60-х еще в 70-е были адаптированы коммерческой поп-культурой, что и привело – через последовательную легализацию психотерапевтических и психоделических установок андеграунда в более широком по социальной и возрастной базе движении «Нью эйджа» – к триумфальной победе «заговора эпохи Водолея» (если перефразировать название знаменитой книги-манифеста Мэрилин Фергюссон), превратившей специфический культурный канон маргиналов и «леваков» 1960-х в мейнстрим глобальной массовой культуры. Потребительскую ориентацию на «вечное настоящее» техноавангардного интернет-сообщества подчеркивал в одной из последних публикаций видный деятель молодежной рок-культуры Илья Кормильцев: «Интернет —это „Улисс“ на каждый день, а пользователи его – современные блумы-иксеры в их блужданиям по лабиринтам помойки-супермаркета, где каждый артефакт самодвижущегося духа привлекательно упакован и соответственно разрекламирован… Действительно ли „поколение икс“ – последнее историческое поколение, а далее нас ждет тотальное превращение в клиентов Всемирного Виртуального Интерактивного Супермаркета, национальные и возрастные различия между которыми станут второстепенными» [14, с.234].



