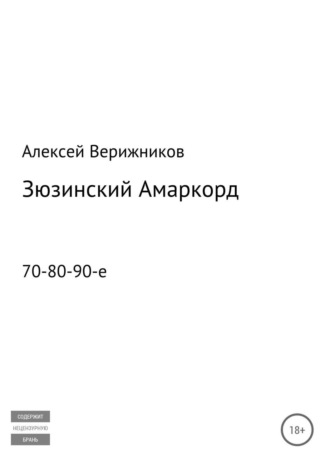 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
Под университет Сорос снял три этажа в двухзвездочной гостинице «Ольшанка», расположенной на Ольшанской площади в Праге (существует и поныне и прошла апгрейд до трех звезд). Это с высоты нынешнего консьюмеристского опыта можно морщить нос от двухзвездочного размещения, а для тогдашнего советского студента/аспиранта номер на одного со свежим ремонтом и удобствами не в коридоре представлялся просто раем земным. Из арендованных Соросом трех этажей пятый и шестой были предназначены для проживания студентов, а второй – для учебных занятий. Ехать на занятия в университет на лифте, а не на метро или автобусе было, надо признать, свежим и приятным опытом!
Занятия тоже приятно удивили. По нашей годичной программе Society and Politics были ненапряжные лекции по самой разнообразной обществоведческой тематике, читаемые профессорами-визитерами из различных западных университетов, среди которых попадались и звезды тогдашнего научного олимпа. А формой отчета по учебным модулям были не зачеты/экзамены, а эссе на английском. Посидел на лекциях до часу дня, домашних заданий – никаких, потом по окончании двухмесячного модуля настрочил страниц на пятнадцать – на двадцать эссе на тему, к примеру, «Почему я не согласен с Фукуямой». И все. Свободен. Ну, и в конце годового курса итоговая дипломная работа на английском страниц на шестьдесят – семьдесят. Так что с недостатком свободного времени во время учебы проблем как-то не было.
Сорос в те времена любил демократично вращаться среди студентов своего детища. Бывало, на несколько дней останавливался в гостинице, приютившей его университет (миллиардер-то – в «двух звездах»). Однажды в шесть утра, возвращаясь с пьянки, продолжавшейся всю ночь, опухшие, красноглазые и разящие перегаром, мы столкнулись нос в нос в дверях гостиницы со спортивным, подтянутым Соросом, выходившим из здания с теннисной ракеткой под мышкой. Окинув нас кривоватым взором, Сорос с его калькулятивным умом, видимо, быстро сделал вывод об удачности своей образовательной инвестиции.
Приходил Сорос и на периодически организуемые за его счет студенческие мини-фуршетики с пивом, бутербродиками и чипсами. Студентам, в том числе и мне, приходилось с ним поддерживать глубокий содержательный фуршетный англо-саксонский разговор из серии: «Хай!», «Да, пан Сорос, нехай…». Поэтому по разряду воспоминаний всей жизни из серии «Я Ленина видел!» мне тоже однако есть, что порассказать.
Студенческая жизнь в гостинице-кампусе была устроена так, что из нее вообще можно было не выходить. В помещении была библиотека, столовая, буфет со снэками и недорогим алкоголем. Когда буфет вечером закрывался, пивом по божеской цене можно было разжиться ночью и на ресепшене. Студенты сравнивали здание с субмариной со всем необходимым для долгого плавания запасом и, бывало, по целой неделе не выходили на улицу, нагулявшись по Праге по приезде. В связи с такой герметичной изоляцией от местного этноса, единственное, что я выучил за год по-чешски, это: «Ещэ едно пиво!»
Но выходить все же имело смысл, ибо Прага – это Прага. В семи-восьми минутах ходьбы от нашего подселенного к гостинице университета был высокий холм, на котором раскинулись так называемые Риегровы Сады, по которым когда-то гулял Моцарт. Из них видна вся Прага. Мне в жизни довелось много где поездить. Но до сих пор считаю, что Прага – самый красивый город Европы, если не всего мира. Такого размера исторического старого города, вписанного в чарующий зеленый холмистый ландшафт, рассекаемый живописной рекой, нет нигде.
Впрочем, с учетом того, что за последние двадцать пять лет Прагу посетили миллионы российских туристов, останавливаться подробно на его туристических достопримечательностях особого смысла нет. Поговорим лучше о Праге нетуристической.
Рядом с нами также находилось исторической Ольшанское кладбище, на котором похоронен Франц Кафка и другие селебритиз Австро-Венгерской империи. А далее вдоль трамвайной линии – целая череда крематориев. Крематории у чехов тогда топились углем, и из труб густо валил черный дым, к которому помимо угольного крепко подмешивался известно какой запах. В общем, видок и атмосфера еще те. А прямо напротив крематориев находились будки с чешским пивным фаст-фудом. К вопросу о чешском менталитете и национальном характере – это каким же нужно быть эстетом, чтобы с пивком и сосиской расположиться прямо напротив крематория? Или так о скорбящих родственниках позаботились? Вышел из крематория и прямо тут же пивка для помину и релакса?
Еще наша гостиница находилась в двух шагах от пражского района Жижков. Сейчас этот район очень постепенно проходит джентрификацию. А начале 90-х это было самое что ни на есть цыганское гетто Праги. К вопросу о чешских цыганах. Я их когда в первый раз увидел, не сразу даже понял, кто это. Наши цыгане выглядят цветасто-среднеазиатски. Но цвет лица у них, хоть и смуглый, но ближе к белому средиземноморскому типу. Чешские же цыгане больше похожи на давно осевших в европейских городах индусов. Одеваются не очень броско – по большей части, в клетчатые рубашки и видавшие виды кожаны, и имеют густую индийскую шоколадность в цвете кожи. В прочем, если разобраться, – ничего удивительного. Ведь все цыгане – исторически выходцы из Индии. А наши, видать, на морозце чуток побледнели.
Чехи находятся со своими цыганами в очень сложных отношениях. Говорят об их тотальной криминализированности и таких life-style привычках, как обыкновение в городских квартирах на полу костры разводить. Но если Жижков до сих пор не сгорел, видать, несколько гиперболизируют.
Из своего личного опыта могу сказать, что чешские цыгане не хватают на улице тебя за руки и не предлагают погадать. Как правило, подобно европейским неграм, лишь норовят тебе какую-нибудь китайскую пластиковую хрень впарить, или же намекают на обмен с рук валюты на кроны «по выгодному курсу». Но если человек не полный идиот, он, понятно, в такие транзакции не ввязывается.
Что же касается стиля жизни – и цыган, и, справедливости ради, чехов – то тут мне все же довелось своими глазами видеть нечто любопытное. По направлению к аэропорту, на северо-западе Праги рядом с природным парком Дивока Шарка находится городское озеро для купания. Во времена моей учебы на одной половине озера можно было купаться бесплатно, а на другой – заплатив скромные пять крон. Всю бесплатную сторону озера занимали цыгане. Они прагматично совмещали купание со стиркой одежды. То есть, купались прямо в ней. Поскольку цыган в воде было немало, со стороны это напоминало замоченный в озере табор – замоченный на большую, поистине малаховских масштабов стирку.
На другой же платной, «чешской» стороне озера было два пляжа – нудистский и обыкновенный. Причем, чтобы попасть на обыкновенный пляж, нужно было пробрести через весь нудистский, отводя глаза от рубенсовско-кустодиевского разгула плоти (как в швейковском стиле шутят сами про себя чехи: «Пиво делает тело красивым»). Граница между нудистским пляжем и пляжем обыкновенным сугубо символическая – натянутая на уровне колена веревочка, которую нужно перешагнуть. Впрочем, и эта символическая граница – совершенно ненужная условность, поскольку обыкновенный пляж не особо-то отличался от нудистского: в то время большая часть чешских девушек предпочитала купаться топлесс, а переодеваются чехи прямо на пляже, не заходя в кабинки и даже не прикрываясь полотенцами.
Без пивного буфета чехи не могут нигде – ни в крематории, ни тем паче на пляже. Буфет был расположен на его нудистской части. Как говорится, если хочешь пива, то без вариантов. Взяв пиво, нужно было идти к круглому стоячему столику. Тут открывалась картина достойная пера великих фламандцев: лиц не видно, поскольку за тесным круглым столиком они обращены друг к другу, в середине столике – шесть пузатых пенящихся кружек, а по периметру столика оттопырено экспонированы по всем частям света шесть голых жоп – мужских, женских, старушечьих, детских. Ну, и ты со своим пивом – можно я к вам, красивым.
Если озеро чехи и цыгане как-то поделили, то с совместными поездками в общественном транспорте могли возникать и проблемы. Молодого преподавателя-индуса из нашего университета, который перед началом преподавания у нас в ЦЕУ только что в Оксфорде защитился, местные пару раз выкидывали из трамвая, приняв его за цыгана. Причем он носил очки, а у чехов, видимо, как-то не срабатывал когнитивный диссонанс, что молодой цыган-очкарик – это, примерно, такая же невидаль, как и говорящая собачка, на которую впору странницам приходить посмотреть.
Натерпевшись такой проактивной неполиткорректности, этот молодой преподаватель сочинил проект про проблемы национализма в странах Восточной Европы, на который со свойственной индусам пронырливостью (нет-нет, не только евреи и армяне) сумел получить у Сороса совсем неплохие деньги.
Работа в этом проекте стала моей первой работой после получения соросовского образования. В рамках проекта выпускники Центрально-Европейского Университета из разных стран Восточной Европы должны были в течение года на месяц-два погружаться в пучины национализма и нетолерантности в своих странах, а потом на месяц съезжаться в Прагу на сортировку добытой этногрязи и обсуждение намытых инсайтов. И так весь год, пока длился проект.
Работа была хоть и грязная, но не пыльная. Платили по 400 долларов в месяц (в Москве в 1992 году зарплата и в 100 долларов считалась хорошей), плюс еще для работы выдавали ноутбук, который по тогдашним российским реалиям вполне канал за статус-символ.
Во время своих остановок в Москве, я по всем уличным книжным развалам, коими столица в то время просто кишела, активно скупал всю выходившую черносотенную литературу. Поскольку выходило ее тогда немало, у меня скопилась весьма объемистая личная коллекция данного чтива (в нынешние времена, обнаружив такую подборку, спецслужбы могли бы и в экстремисты зачислить).
Читая месяцами нон-стопом весь этот черносотенный pulp fiction (не читать-то было нельзя – работа у меня была такая) и практически ничего кроме него, при сбитых настройках восприятия приходилось проходить через две стадии эмоциональной реакции: 1) «Боже мой, какая хрень!», 2) «А, может быть, оно и правда?».
Когда мы приезжали в Прагу на обсуждение прочитанного, комнат в ЦЕУ как отучившимся отрезанным ломтям нам уже не предоставляли. Соответственно, приходилось искать жилье самостоятельно. И, естественно, в ход шли самые бюджетные варианты. Самым моим сколь экзотичным, столь и бюджетным вариантом заселения было проживание за 5 долларов в сутки в некоем «Доме спортсмена», находившемся в самом дальнем районе Праги под романтичным названием Дольние Мехолупы (есть еще и Горние Мехолупы – но это уже для ангелов, а я в ту пору еще к людям стремился).
Чтобы попасть в Дольние Мехолупы нужно было от конечной остановки трамвая около получаса идти по полям, разевая рот на вспархивающих из под ног фазанов, или же пытаться дождаться автобуса, который ходил не чаще чем раз в сорок минут, а после десяти вечера вообще не ходил. В общем, пешком быстрее получалось.
Это была в чистом виде деревня. А «Дом спортсмена» – приземистое двухэтажное сооружение, выходящее окнами на футбольное поле, чей весь первый этаж занимал деревенский паб (чешские спортсмены – прежде всего чехи, и без пива не тренируются). Паб гомонил до часу ночи, а уже в шесть утра потренировавшиеся накануне в пабе спортсмены шли похмельно и с руганью с оттяжкой пинать под окнами звонкий мяч. Верю, что в чемпионате Юго-Востока Праги команда Дольних Мехолуп неоднократно брала заслуженные трофеи.
Жилые комнатки, расположенные на втором этаже «Дома спортсмена», были без преувеличения размером ровно с железнодорожное купе. Кроме узкой кровати, там помещались только тумбочка и небольшой шкафчик для одежды. Когда в мою комнатку однажды заполз крупный паук, кои в Праге, увы, нередки, мне показалось, что он занял ровно полкомнаты.
Постояльцы представляли собой очень смешанную публику. Помимо «спортсменов»-пиволюбов, квартировали еще цыгане и американские студенты-бэкпекеры. Стены между комнатками были фанерными – в полном смысле этого слова. И когда ночью затихал пабовый гул снизу, и у тебя возникала иллюзия сна, за стеной начиналось действо с характерными звуками и простодушным американским риторическим вопросом в конце: “Am I a good fucker?”
Польша: мокрый предбанник Европы
Следующей моей долгой остановкой на извилистом треке соровского образования было четырехгодичное обучение на докторантской Ph.D.-программе в только что открывшейся в Варшаве Graduate School for Social Research. В этом учебном заведении с преподаванием на английском Сорос давал возможность подзаработать тем польским профессорам, которые много стажировались по западным университетам и, соответственно, владели языком. Среди них попадались и интересные экземпляры, а польская школа социологии с ее многочисленными международными связями вообще считалась лучшей в Восточной Европе. Студентам же из разных стран Восточной Европы, получавшим стипендию от Сороса в размере выживание+ (в дополнение к поддержанию бренного существования хватало на пиво, водку, дешевое болгарское вино, бюджетные ресторанчики в день получения стипендии, пару поездок на такси в месяц и небольшие уикендовские путешествия по стране), предоставлялась возможность аж целых четыре года быть избавленным от необходимости зарабатывать на хлеб насущный в поте лица своего на своих исторических родинах, проходящих в 90-х тот ухабистый этап, который получил название «социальной трансформации» (тот самый набивший всем оскомину transition). Именно это, а не блестящая перспектива обзавестись высоким званием «польского доктора», послужило для меня ключевым драйвером, приведшим так надолго на унылые берега некрасивой Вислы.
Если в Чехии все радует твой глаз по принципу «все не как у нас» – климат, пейзаж, растительность, архитектура, – то в Польше тебя начинает одолевать шизофренический синдром «а я вообще где?». Серые блочные кварталы Варшавы Всходней (Варшава Восточная) ничем бы не отличались от спальных районов Воронежа, если бы не надписи на латинице. Ну, и бесконечная депрессивная польская равнина, где торчат хрестоматийные «то березка, то рябина», не способствует ни духоподъемности, ни #яоттудавырвался – отрицаемому, но внутренне лелеемому чувству каждого русского, оказавшегося надолго за границей.
Польша и Россия лучше всего описывается в категории близнецы-антиподы. Во-первых, вопреки, бытующему в «прогрессивных кругах» мнению, исторические отношения между Россией и Польшей – это не отношения агрессор-жертва, а ожесточенная конкуренция двух империалистических держав, приведшая в силу ряда обстоятельств к победе одной из сторон. Во-вторых, мы во многом похожи в ментальности и в быту, хотя поляки это обычно рьяно отрицают.
В XVI-XVII веках Речь Посполита была самой мощной империей Восточной Европы, простиравшейся от «моря до моря» и включавшей в себя помимо исторической территории Польши еще всю Литву, Белоруссию, Украину и изрядный кусок современной России. По Деулинскому перемирию 1618 года между Россией и Польшей, польская граница начиналась сразу за Калугой и Вязьмой и проходила всего в 200 км (задумайтесь об этом – в двухстах!) от Москвы. А потом мы толкали эту границу «от себя» на запад, пока на границе XVIII-XIX веков не дотолкались до Варшавы.
Причем речь идет не только об успехах русского оружия, сговоре «больших держав» (России, Австрии, Пруссии), но и о «торжестве польской демократии» (Речь Посполита – Res Publica в переводе с латыни), где сейм (парламент) мог полностью заблокировать действия короля и правительства, а два польских магната в момент, требовавший национального единства, вполне были способны начать друг против друга межевую войну с применением артиллерии.
В новейшей истории все снова перезагрузилось. Поляки любят попенять русским, что войска Тухачевского в 1920 году оказались под Варшавой. А как они там, спрашивается, оказались? А оказались они там в результате контрнаступления Красной Армии против войск Пилсудского, захвативших до этого Минск и Киев в рамках идеи воссоздания пресловутого «междуморья» – конфедерации Польши, Белоруссии и Украины под руководством Варшавы. И сейчас Польша продолжает считать Белоруссию и Украину сферой своих интересов и зоной своего влияния, где, по понятным причинам, сталкивается с встречным движением «агрессивного российского империализма».
В этом пушкинском извечном «споре славян между собою» самым убедительным аргументом является «сам дурак»:
– Вы, русские, – империалисты, агрессоры и угнетатели других народов!
– А вы кто?
– Вы, русские, пьете как свиньи!
– А вы как?
Впервые я увидел в Польше, что лежание лицом в супе или салате – это не такая метафора в утреннем гусарском описании вчерашних удалых алкогольных похождений, а что ни на есть неприглядная проза жизни, равно как и распивание на троих у магазина без закуски, или же падение пьяным на рельсы, поскольку платформа и земное притяжение уже никак не держат (слава Богу, при мне обходилось без расчленёнки а ля Каренина – успевали вытащить).
Резонируют у русских в душе и сердце также польские «трудолюбие», «ответственность», а также готовность полагаться на авось (последний полет Качиньского под Смоленском – тому яркий пример).
Но есть и нюансная разница – польская вежливость и польское понимание пресловутых «прав человека». Вежливость – это польский культурный код. Обращение «на ты» к незнакомому человеку в принципе невозможно. Только «на вы» (в польском языке аналогом «вы» являются обращение «пан/пани»). Даже если на узкой дорожке не могут разойтись два польских алкаша-пролетария, то дискурс все равно ведется на уровне: «А не был бы пан так любезен».
Вежливость – это волшебный ключик получить помощь от поляков. Если вы потерялись или не можете правильно сориентироваться в окружающих вас польских социокультурных реалиях, достаточно приветливо произнести: «Джень добрый! Прошу пана…». Вас, понятно, по акценту сразу выкупят, откуда вы, даже если вы потом перейдете на английский (бесполезное, кстати, в Польше занятие – чтобы быть понятым, если не говорите по-польски, уж лучше дальше вещайте медленно по-русски). Но отказать в просьбе о помощи вежливому человеку (в смысле не по-крымски вежливому) поляк никогда не сможет. Он, слегка скривившись от векового груза комплексов в отношении восточного соседа, все равно вам все очень подробно покажет и расскажет, а если вы из его спича так ни хрена и не поняли, то буквально за руку отведет вас туда, куда вам нужно. Чех в подобной ситуации лишь слегка бы замедлил движение и указал рукой в неопределенном направлении – примерно тудой, зюйд-зюйд-вест (москвичи, кстати, точно также реагируют на просьбу подсказать дорогу).
Другая, отличающая нас от поляков особенность – это способность признавать за людьми определенные права и свободы (не нужно путать с толерантностью «виват ди ганце вельт» в стиле Пьера Безухова – поляки еще те ксенофобы и расисты). В бытовом смысле это означает, что ты человек, и как бы ты в данный момент не был социально уязвим, а то и вовсе непрезентабелен, ты тоже можешь на что-то претендовать и рассчитывать.
Например, в Варшаве в начале и середине 90-х прямо на самых центральных улицах, в том числе на улице Новый Швят, варшавском аналоге нашей Тверской, продолжали функционировать дешевые столовые и дешевые бары (по сути, относительно цивильные восточноевропейские аналоги наших рюмочных). Хотя соображения рационального использования коммерческой недвижимости в центре города явно находились в конфликте с этой затеей, в польском обществе преобладала идея, что человек небогатый тоже имеет право поесть и выпить в ауте (у нас же в те, да и в чуть более поздние годы еще доминировала философия «у кого нет миллиарда, тот идет в жопу»).
В столовой при Варшавском университете (входная дверь в нее выходила, как раз, на парадную улицу Новый Швят и была открыта для всех желающих) я был свидетелем следующей сцены. Стояла довольно длинная студенческая очередь, девчушки-студентки что-то весело щебетали о Хайдеггере и Хабермасе, как вдруг в столовую с улицы зашел бомж. Зашел и тихо с достоинством встал в очередь. Несмотря на промозглую ноябрьскую погоду, бомж был одет в стиле bottomless. То есть верхняя часть туловища была замотана во что-то на манер огородного чучела, а снизу вообще не было ничего, кроме короткого куска рубероида, прилаженного на манер набедренной повязки, края которого игриво крепились цветной проволокой прямо поперек сероватой голой задницы. Характерный запах бомжа тоже, понятно, никто не отменял.
И хоть бы кто-нибудь попытался ему сказать, чтобы он отсюда вышел, либо с негодованием вышел сам, либо создал вокруг бомжа «зону отчуждения», какие обычно формируются в общественном транспорте. Нет. Студенточки продолжали вставать в очередь прямо за ним и, как ни в чем ни бывало, щебетать о своем молодом и студенческом, лицезрея перед собой с максимально короткой дистанции объект, который мог бы претендовать на звание лауреата конкурса «Мистер Бум Бум – лучшие бомжиные ягодицы Варшавы». А что, бомж тоже человек, и если он где-то надыбал пару злотых, то имеет полное право купить себе миску супа в студенческой столовой.
У меня по местам моего проживания польская полиция неоднократно проверяла документы (просили проверить соседи: типа, какие-то русские живут – а «русской мафией» в те годы в Польше маленьких детей пугали). Но меня ни разу не клали носом в пол, как любила и продолжает любить делать наша милиция/полиция в отношении лиц с сопредельных территорий, подозреваемых в незаконопослушном поведении. А увидев у меня наличие официальной регистрации, непросроченной визы и студенческого билета, вообще извинялись, брали под козырек и желали хорошей учебы (мысленно смоделируем поведение нашей полиции в отношении, к примеру, киргизского студента, у которого вроде тоже все в порядке).
Вообще, Польша – это и Европа, и не Европа. С точки зрения дождливой балтийской погоды и унылой польской равнины – это такой ее мокрый предбанник, где русскому, с одной стороны, все до неприятности своё, а, с другой, – до такой же неприятности чужое. Но из всех восточноевропейцев к русским по характеру и менталитету ближе всего поляки. И те и другие обладают уникальной особенностью, с одной стороны, быть храбрыми солдатами, а, с другой, – все сливать в одну калитку, когда, то Русь слиняет в три дня, то Речь Посполита – в две недели.
У поляков, как и русских, есть свои красивые исторические мифы (в смысле духоподъемные истории, а не лживые сказки). Так, будут вечно цвести «червоны маки Монте-Кассино», когда польская пехота храбро атаковала в лоб, а немецкая 1-я парашютно-десантная дивизия архиумело до последней возможности много месяцев подряд удерживала позицию против в разы превосходящих сил западных союзников (справедливости ради, победу под монастырем Монте-Кассино принесли не поляки, мужественно шедшие под косившие их немецкие пулеметы, а сражавшиеся под французскими знаменами горные марокканцы, козьими тропами сумевшие зайти в тыл немцев по горам, считавшимися непроходимыми – их не прошли даже гималайские гуркхи из состава британских войск – и, таким образом, сделавшие бессмысленной дальнейшую немецкую оборону).
Если русский и поляк оба могут отбросить свою имперскую фанаберию, то ни с кем из восточноевропейцев русскому так хорошо не удастся поговорить под водочку о душе, попасть в эмоциональный резонанс, оказаться на одной волне и, возможно, даже почувствовать себя в своей тарелке, если количество выпитого в горячем славянском споре укажет вам на эту линию настольного горизонта.
Польские крысы в пасти украинского удава
При обучении в Варшаве никакого аспирантского общежития нам не полагалось, поэтому жилье нужно было оплачивать из стипендии и искать его самостоятельно. Поиск жилья со всей неизбежностью наталкивался на языковую проблему, поскольку по-польски по приезде я еще не говорил. Местное же население на английском говорить не могло, а на русском не хотело. Вообще, в вопросах языкознания, в которых, как известно, был так силен товарищ Сталин, поляки занимают ровно ту же позицию, что и русские – мы иностранные языки учить не желаем, пусть иностранцы учат наш. Поэтому именно суровая необходимость заставила меня выучить польский, а вовсе не любовь к дивной фонетике этого языка, состоящей почти целиком из одних шипящих. Потом я с гордостью указывал во всех анкетах, что владею польским примерно на том уровне, на котором у нас владеют русским таджикские дворники.
Еще одной закавыкой в польской версии квартирного вопроса было получение регистрации (замельдования по-польски). Регистрация выдавалась только при наличии визы (в 90-е годы краткосрочные поездки в Польшу были безвизовыми, – для въезда требовался лишь липовый туристический ваучер за три доллара – а для длительного пребывания, в том числе для учебы, нужно было получать так называемую визу побытову). Виза же выдавалась только при наличии регистрации. Данную юридическую коллизию замкнутого круга следовало решать следующим образом. Сначала нужно было на три дня оформлять визу. Потом под нее на три дня оформлять регистрацию. Получив обе можно было подавать на годовую визу. А после получения годовой визы – подавать на годичную регистрацию. Визы и регистрации выдавались в разных присутственных местах, и посему хождение по польским бюрократическим мукам было далеко не самым развлекательным в жизни эпизодом.

