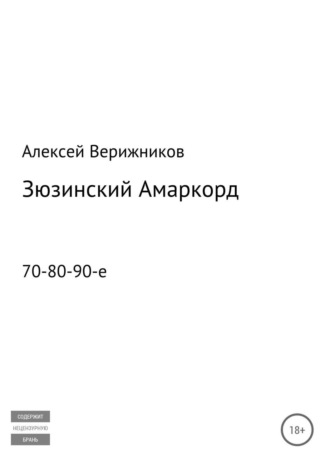 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
Поездка в Баден завершилась просмотром местного эко-зверинца, главным экспонатом которого был невиданной импозантности пригородный козел. Он смотрел на меня наглым и уверенным тамплиерским взглядом, как будто все тайны и сокровища мира были в его полной козлиной власти. Когда вспоминается моя австрийская эпопея, почему-то в памяти часто всплывает именно этот «двухкозловый» день.
Насколько «лихи» были «лихие 90-е»?
За время шестилетнего отсутствия на исторической родине я периодически ненадолго приезжал навестить родные пенаты и погостить у родителей. Поэтому какие-то фрагментарные представления о «лихих 90-х» у меня все же сложились.
«Лихость» 90-х должна оцениваться через призму непосредственного опыта каждой конкретной семьи – у всех могли складываться совершенно разные личные истории. Мама после 1991 года еще пару лет просидела в своем оборонном НИИ, питаясь иллюзиями, что жизнь вот-вот наладится, и пойдут некие зарубежные оружейные контракты. Контракты так тогда и не пошли, а выдаваемой зарплаты хватало лишь на то, чтобы покупать молоко, хлеб и картошку. Благо мама летом 91-го, когда уже все шло вразнос, через свой профсоюзный канал затарилась консервами в таком количестве, которому могла бы позавидовать и крупная антарктическая станция, функционирующая в полном автономном режиме с момента открытия ледового континента. Эти консервами питались аж два года. Но, как и любой ресурс, консервы имеют свойство заканчиваться. Выжав максимум из стратегии «медведь-в-берлоге-ждет-весны», мама, в конечном счете, пошла торговать шмотками на рынок.
Имея природную коммерческую жилку, отточенную профсоюзными шахер-махерами, мама торговала лихо. Шмотки с одной польский фабрики, работавшей исключительно на российский рынок, она выдавала за «Францию», с другой – за «Германию». На комиссионных с продажи она выручала в месяц от 500 до 1500 долларов. В среднем, порядка тысячи. Прямо скажем не заоблачные, но вполне пристойные для того времени деньги (для сравнения, в Москве в 1995-96 гг. средняя зарплата составляла порядка двухсот долларов, в 1997-98 гг. – около трехсот).
Но эти деньги легкими не были. Мама уходила на рынок около восьми утра, а возвращалась домой не раньше девяти вечера. Выходных практически не было. Плюс еще необходимость таскать на себе тяжеленные баулы с товаром, риск, что у тебя на рынке или по пути к нему отнимут/украдут либо товар, либо деньги, постоянная нервная мелочная грызня с товарками по рыночной торговле, кому какие причитаются комиссионные.
Но, в целом, мама была на своей волне и в своей стихии. В исследовательском институте, где «по книжке» проработала 30 лет, она была абсолютно рядовой сошкой «на подхвате». Поэтому в ее случае речь шла не о потере статуса, а даже о некотором его приобретении. Уминая каждый вечер осетрину, которую в советское время могла себе позволить только по престольным праздникам, мама любила порассуждать, как «гайдаро-чубайсы нас всего лишили». На вопрос, чего же конкретно эти рыже-лысые хищники лишили именно тебя, мама отвечала: «Ну как чего? Я же сказала – всего!», и углублялась в свой бутерброд с белорыбицей.
С отцом было куда сложнее. Отцовский НИИ закрылся и всех выставили на улицу. Торговыми и коммуникативными талантами Меркурий его не сподобил, а с учетом возраста за пятьдесят в 90-е не брали уже никуда (хотя, справедливости ради, для нынешних пятидесятилетних поиск работы – тоже не самое легкое и приятное занятие). Единственное, куда удавалось периодически устраиваться – это в ночные вахтеры с зарплатой, стремящейся к статистической погрешности. Для него, бывшего в советское время «крепким Акакием Акакиевичем» (на работе – белый халат, в командировках – увесистый портфель с бумагами и возможность «столичной штучкой» раздавать ценные указания смежникам по всему бывшему СССР), с перемещением в вахтерскую подсобку к полуграмотным возрастным алкашам пришлось пережить страшный удар по самоощущению и самооценке.
Спустя двадцать пять лет, я все пытаюсь отрефлексировать, а что такое был «Советский Союз, который мы потеряли», и была ли цена, заплаченная в 90-е, адекватной? Как я отмечал в начале повествования, на момент завершения советского проекта мне было 25 лет. К этому возрасту у меня еще не было ни статуса, ни теплого насиженного места/ привычного образа жизни, об утрате которых можно было бы потом сожалеть как «о потерянном рае».
В моем нынешнем зрелом понимании, Советский Союз – это был такой poor welfare state (буквальный перевод на русский как «бедное государство всеобщего благосостояния» грешит некоторой оксюморонистостью). Но тому, кто сидел тихо и не имел амбиций, государство выдавало свои 150-200 рублей в месяц, на которые вполне себе можно было и гоголевскую шинель справить, и на работе от переутомления не сгореть. А если хотелось в 2-3 раза больше – то, пожалуйста, закусывайте удила и влезайте без мыла в КПСС, пишите кандидатскую/докторскую, дослуживайтесь в армии до подполковника/полковника, шуруйте работать «на севера», или на, худой конец, поезжайте вместо отпуска на «шабашку». Если хотелось в великие разы больше – то, милости просим, в теневую экономику (риски там свои существовали, но сажали, в лучшем случае, каждого десятого – посадить всех советских спекулянтов, которые полстраны одевали, означало бы обезлюдеть наш и без того малонаселенный край).
В современной Европе на другом уровне воспроизведена примерно та же суть. Половина людей получает 1500-2000 евро в месяц, перекладывая папочки в офисах, и реально считают, что жизнь и карьера удались. Зарплаты в 4000-6000 евро считаются очень хорошими, и получает их уже куда меньше народу. А зарплаты в 10 000 евро (с которых нужно еще по прогрессивной шкале налог в 45% заплатить) проходят по категории баснословно хороших, и получает их совсем небольшой процент населения. Это если мы работаем с широкой статистикой, а с не отдельными кейсами владельцев замков и яхт.
В европейской модели дифференциация доходов между широким слоем «ветоши», имеющей совсем неоскорбительную жизнь, и чуть более узким слоем относительных «удачников», куда-то слегка вылезших по карьерной лестнице, грубо составляет те самые 2-3 раза, имевших место в позднем СССР. То есть, имеешь право выбора – можешь не напрягаться, но сыт/обут будешь, а можешь напрячься, чтобы получить на свой бутерброд слой масла той или иной толщины.
Можно на это возразить, что общий уровень богатства в СССР был на порядок ниже, потому что, мол, работали мало и плохо. И посему жизнь советского «Акакия Акакиевича» она, якобы, в принципе несравнима с жизнью его европейского функционального аналога.
Для наблюдавших за тем, как работают испанцы или итальянцы, возражение «мало и плохо» можно сразу отмести. Все остальное – это выход определенной цивилизации всем ходом своего исторического развития на определенный уровень, который затем зачастую консервируется. Так на стыке 80-х и 90-х жизненный уровень Восточной Европы и Прибалтики примерно на 25-30 процентов превосходил российский, на 50% уступал южноевропейскому (Испания, Италия) и почти в 2 раза отставал от западноевропейского. Спустя 30 лет все пропорции те же самые. Один в один! То, что Эстония с 1991-го по 2000-й за десятилетие пресловутого «транзишена» (transition) по уровню жизни сравняется с Финляндией, а Чехия – с Австрией и Германией, оказались «легендами нашего городка». Ахиллес ни хрена не догоняет черепаху!
Страны типа Южной Кореи, где в 60-е на рис денег не хватало, в 70-е впервые в жизни досыта наелись, а к концу «нулевых» по уровню жизни вышли на планку Италии и Испании – это исключение, а не правило. Цена вопроса – продолжительность трудовой недели в 50-60 часов, и отпуск 7-10 дней году, которые, к тому же, нужно еще брать в разбивку на 3-4 порции (стандартный корейский «отпуск» – это 1-2 дня, добавленные к уикенду). Философский вопрос: готовы ли вы лично платить такую цену, чтобы вашу страна продвинулась в уровне благосостояния?
Во время «перестройки» советскому человеку предложили очень простое искушение – работать он будет столько же, а жить станет лучше. За счет чего? За счет того, что резко сократятся расходы на оборону, космос, активную внешнюю политику и, конечно же, на «зажравшуюся от привилегий» номенклатуру. С точки зрения элементарной математической логики, вроде, все верно. Но в этой логике оказался один очень существенный изъян. Пропихивавшие ее не предполагали, что в результате «перемен» ВВП упадет аж на 50% (как он упал с 1991 по 1996 год), и что при сокращении ВВП вдвое никакие урезания «непроизводительных коммунистических затрат» не компенсируют резкого падения уровня жизни.
На советский уровень жизни вышли почти двадцать лет спустя с начала перемен – где-то к 2007-2008 годам. Потом грянул кризис 2009 года, и от советской планки снова немного откатились назад. К 2012 году опять на нее вышли. Затем surprise-surprise – «большая рецессия» 2013-16 гг., и мы вновь по уровню жизни – «СССР минус полшишечки». Сейчас в очередной раз будем брать эту «зияющую высоту».
На бытовом уровне со сменой эпох меняются формы потребления (ну, не было в СССР смартфонов), но суть остается неизменной. Уровень и качество жизни самой массовой советской профессии (инженеры) практически ничем не отличается от оных самой массовой постсоветской (бухгалтеры). Есть нюансная разница, что отдыхать поедут на море в Турцию, а не в Сочи. А так – та же самая исполненная высокого человеческого достоинства аккуратная мышиная бедность (простите, мышиное благосостояние).
Есть ли у меня лично ностальгия по СССР? Отвечу, что нет. Жизнь в СССР лучше всего описывается фразой из советского пропагандистского фильма, эдаким «кукишем в кармане» вложенной в уста антигероя-диссидента: «Социализм – это такая система, где гарантия не умереть с голода обменивается на гарантию умереть со скуки». Что ж, за последние тридцать лет у нас было все кроме скуки, и лишь наше зрелое самодержавие смутно обещает нам возвращение – причем, только в самом первом пробном приближении – к этому воспетому Чеховым небурливому человеческому состоянию. Как говорится, спасибо, однако, небесному режиссеру культурно-массовых мероприятий!
Изгнание из рая в рай пожиже: от Сороса – в
TACIS
и
USAID
Как в дантовском аде есть свои круги, так, наверное, аналогичные круги должны быть и в раю. Есть VIP-зоны, где понажористей, а есть в «месте злачном и спокойном» те сектора, где сажают на достаточную для пробравшегося в эмпиреи организма щадящую низкокалорийную диету.
После возвращения из заграниц я озаботился трудоустройством на родине. Первым делом я постучался во все имеющиеся в наличии московские соросовские кормушечки. Я был уверен, что мне откроют, как только я произнесу заветные слова: «Я же свой – я соросовский выкормыш! Срок добротного зернового откорма – аж шесть лет! Я польский доктор, чешский фельдшер и практически австрийский медбрат! Могу делать вербальные интервенции, глубокие ментальные пенетрации, полостные операции сознания. Так пустите уже скорее переночевать!» А мне в ответ: «Куда вы, молодой человек, ломитесь! Мы же «открытое общество». Все поросята в домике, а двери крепко на засове, чтобы с улицы какой конкурентный волк не забежал, и все нажитое за эти годы непосильным поросячьим трудом не схрумкал».
Но злой мир оказался не без добрых людей. В конечном счете, мне предложили поработать в одном из проектов европейской программы TACIS (Technical Assistance for Commonwealth of Independent States – Техническая поддержка для стран СНГ). TACIS был таким доброхотским прожектом, где Евросоюз за свой счет снабжал постсоветское пространство слабо релевантными добрыми советами, а две трети выделенных денег оседали в карманах самих европейских экспертов, колесившим по лежащим во мраке 90-х пространствам СНГ с лекциями «Как нам сделать так, чтобы на Марсе яблони цвели».
Наш проект назывался «Система профилактических мер и здоровье населения Россия» и подвизался при российском Минздраве. Пафос проекта был очень простой – нужно тратить поменьше денег на медицину, убедив людей заниматься профилактикой. То есть, вместо того, чтобы пить водку, кушали бы яблочки и спортом занимались. А там глядишь, можно и больнички закрыть, и денежку тем самым сэкономить.
Курировал проект от Минздрава Геннадий Онищенко. Да, тот самый Геннадий Онищенко. Тогда в конце 90-х он еще не был всенародно известным борцом с имеющей политические основания продуктовой порчей, равно как и вызванном ею мерзкой духовной скверной. Это был просто импозантный замминистра с внешностью стареющего плейбоя. Онищенко в проект особо не вникал и лишь очень издалека махал нам своею барственной министерской рукою.
Министерству проект был глубоко безразличен, но участие в проекте давало возможность людям из системы Минздрава за счет TACIS съездить за границу на многочисленные «обучающие мероприятия». А от поездок на халяву за границу никто никогда не отказывался, тем паче работники социальной сферы на фоне безденежья 90-х.
К зарубежному руководству нашего проекта, призванного заниматься здоровым образом жизни, лучшего всего подходил призыв: «Врач, исцелися сам!» Руководили нами финская психопатка, классический финский запойный буйный алкоголик и жирная хорватская бабенка, публично объедавшаяся адски калорийными сладостями.
Руководитель проекта Паулина Аарва, собрав своих российских сотрудников в первый раз, доходчиво довела до нас ключевые корпоративные ценности организации: «Вы русские хорошо работаете только тогда, когда у вас над головой свистит плеть!» Говорила по-русски она очень хорошо (в юности изучала в Ленинграде русскую филологию) и имела темперамент совершенно противоположный тому, который приписывается финнам на уровне рассказываемых про них клишированных анекдотов. Это была пулеметная скорость речи и какой-то итальянский везувий сменяющих друг друга взрывных женских эмоций.
При этом Паулина бесконечно подозревала всех, что к ней как к женщине-руководителю относятся недостаточно серьезно по причине якобы пропитанного мужским шовинизмом российского общества. Что для человека учившегося и достаточно долго жившего в СССР/России это несколько странно, ибо у нас всегда был пруд-пруди руководящих в среднем звене дам, плюс еще всякие Фурцевы и Терешковы, в прямом и переносном смысле залетавшие на такие высоты, которые нашей пришибленной феминизмом Паулине никогда и не снились.
Научный руководитель проекта финн Илка Вохлонен был, в принципе, неплохим невредным малым. И все было бы хорошо, если бы не губившая его «финская болезнь». Периодически он приходил на работу с огромным фингалом под глазом и объяснял это украшение лица тем, что на него якобы напали на улице и пытались что-то отобрать. «Девяностые», они и есть «девяностые», но то, что его гоп-стопят с такой завидной регулярностью, все-таки наводило на определенные подозрения. Дальнейшее масштабное ЧП навело нас на мысль, что причиной повреждения лица были не злонамеренные уличные нападения, а банальное получение по физиономии в баре от вышибал или посетителей по причине редкостного пьяного буйства.
Теперь о сути происшествия. Во время выходных Илка притащился в Институт профилактической медицины, где базировался наш проект, под предлогом, что ему нужно «поработать». «Поработал» он так, что начал задирать научных сотрудников института, находившихся в здании на дежурстве. Те попытались его урезонить, в ответ на что наш горячий финский парень начал с ними драться. Сотрудники сначала вызвали скорую, объяснив свой вызов, что человек, находящийся в состоянии близком к белой горячке, нуждается в помощи медицинских работников. Скорая приехала, и Илка Вохлонен стал драться с прибывшими врачами и санитарами. А был он крупной лосиной комплекции и ростом под два метра. Медики со скорой поняли, что одни не справятся, и вызвали на подмогу милицию. Финн принял неравный бой и с милицией. По результатам этой великой алкогольной битвы во имя здорового образа жизни весь Институт профилактической медицины был залит кровью, которую отмывали еще несколько дней.
Илку тихо убрали из проекта, и прислали ряд временных западноевропейских экспертов, которые должны были заделать образовавшуюся в высокой научной экспертизе брешь. Из них запомнился один голландский дедок с сизым носом и густым неотпускающим его целый день запахом перегара. Этот, к счастью, был не буйный. Для научной концентрации его посадили в подвальную комнатку института, под дверью которой обильно срали неприученные к лотку полудикие институтские кошки. Деда тихо сидел за дверью, не производя ровным счетом ничего, потом с робкой виноватой улыбкой широко перешагивал через свежее кошачье дерьмо и брел в свою гостиницу, где был бар с виски, обильное потребление которого было оплачено в рамках оказанной России Евросоюзом щедрой технической и экспертной помощи.
Теперь пару слов о заграничных «обучающих мероприятиях» проекта. Российских врачей, каким-то боком относившихся к теме профилактики, возили в Финляндию, Германию, Англию и другие страны, дабы ознакомить с передовыми практиками их зарубежных коллег. Особо много поездок было почему-то в Голландию. В качестве сопровождающего группу и переводчика, мне довелось везти в Амстердам группу российских врачей из Вологды. Гости с российского севера в качестве первой к просмотру передовой европейской практики захотели ознакомиться с амстердамским «кварталом красных фонарей».
На мои увиливания из серии «у нас обширная научная программы, вы уж как-нибудь туда сами в индивидуальном порядке, а мне типа неудобняк» я получал жесткие возражения, что мне деньги платят за то, чтобы группа была счастлива, и если мне что-то не нравится, то не стоит ли задуматься о поиске другой работы. Против российского радушия и доброжелательности, как известно, нет приема. Поэтому пришлось идти.
Наша большая группа из более чем 30 человек длинной вологодской змеей растянулась вдоль всей набережной канала. Северные врачи решительно, как во время библейского исхода, шли вперед в своих нахлобученных меховых шапках, которые мелкий, но интенсивный голландский дождик (была плюсовая погода) превращал в объект, похожий на замоченную в тазике плюшевую обезьяну. В руках были наши извечные авоськи, предназначенные, видимо, к сбору неких трофеев, которыми предположительно можно было разжиться в квартале красных фонарей (флаер «группам от 30 человек 25-процентная скидка»?).
Перед каждой освещенной витриной, в которой выставляла свои стати в неглиже азиатка, мулатка или восточноевропейка, врачи останавливались, крякали, а потом громко на всю улицу начинали обсуждать, вела ли та здоровый образ жизни перед тем, как познать всю глубину падения, и как это отразилось на её еле прикрытой бикини физической конституции.
После осмотра передового амстердамского человеческого капитала все пошли в ближайший к «фонарям» ресторан, где подвыпив, вологодские эскулапы во все тридцать приполярных глоток грянули заунывную таежную песню о том, как не соединиться в любви заполошной лесной красавице и пробуравленному страстью медведю. Сидевшие за соседними столиками голландцы прекращали разговаривать и робко утыкались в свои пивные бокалы. Непривычные они. Жизни не знают. Во время оккупации разве что вермахт-то и видели.
Были в проекте культурные шоки и с обратной географией. С инспекцией в Москве нас навестил один важный брюссельский чин, задачей которого было выяснить, не транжирим ли мы зря выделенные ЕС деньги. Его решили свозить в расположенный неподалеку от Москвы город Электросталь, который, наряду с Вологдой, входил в число так называемых «пилотных регионов» проекта. Смотреть в Электростали, как известно нечего, поэтому после краткого тура по подшефной поликлинике важную брюссельскую птицу решили дальше вести в ресторан.
Возник вопрос, в какой. Город Электросталь эпохи 90-х не блистал светской ресторанной жизнью. В городе было несколько «братковских» точек, но мы не знали, насколько наш европейский чиновный гость готов слушать «Владимирский централ» на полную громкость и не тушеваться от подходов к столу крепких молодцев в кожаных куртках с вопросами «кто, бля, такие?».
В качестве альтернативы, был предложен «комбинат школьного питания», при котором имелся банкетный зал. Исходя из того, что «братки» вряд ли прельстятся школьными завтраками, решили, что идем туда. Ну, а гостю сказали, что идем просто в ресторан, ибо доступно перевести такую российскую реалию, как «банкетный зал при комбинате школьного питания» не представлялось никакой возможности.
«Комбинат школьного питания» – это такое глухое массивное бетонное сооружение фабричного типа с позитивной колористикой «облезший серый». Когда мы вылезли из доставивших нас туда машин, евробюрократ с опаской нас спросил: “Is this a kind of restaurant?” Мы утвердительно кивнули: «Ресторан, ресторан – что, ресторанов никогда не видел? Прошу следовать за нами».
У охранника на входе мы спросили, где тут вход в банкетный зал. Он показал нам на дверь, добавив, что «ваши там уже собрались». Какие такие «наши»? Может быть, городская администрация, которая нам этот банкетный зал бронировала, каких-то своих людей для массовки и для ублажения важного иностранца подогнала? Мы с ходу всей толпой оказались в самом центре зала, и только потом заметили, что все сидевшие за столами одеты в черное.
Мы ворвались на чужие поминки! Брюссельский же гость, увидев на головах женщин черные повязки, совсем спал с лица. Сидевшие у него в голове культурные коды сообщили ему, что его обманом заманили на тайную сходку джихадистов, и что его – большого белого европейца – вот-вот начнут прилюдно газаватить.
А, всего-то, человеческий фактор! Оказывается, рядом был другой банкетный зал, накрытый специально для нас, а полусонный охранник решил, что если еще кто-то пришел – то это опоздавшие на поминки. Метрдотеля-то на входе нет, и не ему, охраннику, сортировать входящие потоки. Мы быстро переместились в другой зал и налегли на глубоко полезные и способствующие профилактике всего майонезные салаты. А представитель объединенной Европы, поднося к губам бокал, судорожно произносил заученный тост: “Na zdorov’ie!”.
В нашем тасисовском проекте образовался технический перерыв на несколько месяцев, во время которого господа, рулящие денежными потоками в Брюсселе, решали, заслуживает наш глубоко содержательный проект продолжения или нет. Чтобы как-то подкормиться во время вынужденного простоя, нужно было искать, чем на этот период заняться. Подвернулся другой не менее интригующий проект – на сей раз от USAID (United States Agency for International Development – Агентство США по международному развитию).
Проект ставил своей задачей научить российских женщин правильно рожать – то есть, без эпидуральной анестезии и сидя, а не с раскоряченными задранными вверх ногами на так называемой «рахмановской кровати». Нам объясняли, что это уже такая сложившаяся общемировая практика, хотя позже я узнал, что был, скорее, лишь один из трендов в акушерстве.
Мне же отводилась роль переводчика на основании того, что я уже поднаторел в переводах в другом проекте медицинской направленности. То есть, я должен был переводить во время родов рекомендации английских и американских врачей нашему медперсоналу. Такая, вот, уникальная специальность – акушер-переводчик.
Но было одно немаленькое «но» – весь мой наработанный профессиональный вокабуляр относился к организации и экономике здравоохранения. Мои же терминологические познания в английском по отношению к акушерству и гинекологии ровненько стремились к нулю. Знать бы заранее, что у женщин в таком достаточно компактном месте кроется столько терминов! Причем, на пальцах не объяснишь, а словом cunt медики не оперируют.
Чтобы понимать, что происходит, и что имеют в виду зарубежные коллеги, во время родов приходилось все время держать свою голову строго между ног рожавших. Если брать общее время за всю жизнь, где мне приходилось быть лицом между женских ног, пожалуй, эта служебная оказия превзошла все личные. Но, ничего, родилось много замечательных деток, и я внес свой личный посильный вклад в решение российской демографической проблемы!
Дальнейшая судьба «кормушечек» переходного периода складывалась следующим образом. TACIS сам сошел на нет, поскольку ревизионная комиссия ЕС выявила, что только 5 из 29 проектов имели какой-то внятный эффект. А «Фонд Сороса» и USAID уже наши попросили с российской поляны во время развернувшихся геополитических борений. И пошли они в Лету, крепко обнявшись – как два закадычных собутыльника, как Доу с Джонсом, как энзим с коэнзимом.

