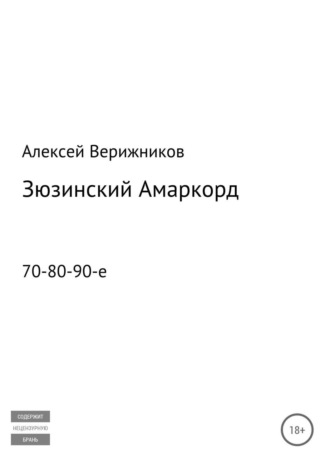 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
Третьим моим стройотрядом – самым «настоящим» – было строительство узкоколейной железной дороги на таежных лесозаготовках в Архангельской области. Точкой нашего прибытия был одинокий поселок Зеленник, стоящий на брегах Северной Двины. От Зеленника вглубь таежного болотистого криволесья на десятки километров лучами расходились ветки узкоколейки.
Система хозяйствования – элементарна и симбиотична. Лес, который рубят в тайге, нужно вывозить. Вывозят его по железной дороге. Для этого по уходящим вглубь тайги новым вырубкам тянут продолжения существующих линий, а также дополнительные боковые ответвления узкоколейки.
Узкоколейка – это такая полуигрушечная железная дорога. Ширина колеи у нее в два раза уже, чем стандартной российской железной дороги – 750 мм vs 1520 мм. И ходят по ней миниатюрные тепловозики и вагончики. Чем-то напоминает апгрейд детской железной дороги под нужды страдающих от переедания о-о-чень крупных деток.
Из-за того, что узкоколейка строится практически «на живую нитку» (строить нужно быстро, да и возимые по ней бревна и лесорубы – невелика ценность), максимально разрешенная по ней скорость движения – 25 км/ч. Но русский человек не был бы русским человеком, если бы не любил быстрой езды. Среди машинистов местного леспромхоза были свои лихачи-шумахеры, норовившие разогнаться до пятидесяти. Кто-то, конечно, скажет, а что такое пятьдесят километров в час? Но на лядащей узкоколейке и сорок километров ощущаются так, будто весь мир идет вразнос, и Земля вот-вот наскочит на астероид.
Результатом лихой езды было то, что на местном сленге называлось «забуриться», то есть, пойти под откос. Спасал эффект малого масштаба. Крушение многотонной махины обычного поезда и «забурение» миниатюрного тепловозика и прицепленных к нему одной-двух маленьких грузовых платформ (больше по технологии не полагалось) – это разные вещи. При мне тяжелых увечий и смертей не было, и лихачи, выбравшись из кювета и отлежавшись недельку-другую в медсанчасти, потом, как ни в чем не бывало, продолжали участвовать в своей таежной «Формуле-1». «Забурения» однако приводили к остановке всего трудового процесса леспромхоза. Для ликвидации последствий аварии нужно было по рельсам подгонять краны и домкраты, парализуя движение по всей узкоколейке. Хотя, что такое производственные показатели по сравнению с driving pleasure?
Несколько слов о самом поселке Зеленник, столице леспромхоза и узкоколейного таежного царства. В те времена все его население состояло только из так называемых «выселенных» – лишенных права вернуться домой по месту прежней прописки после отсидки по факту тяжелых преступлений.
Как только мы сошли с теплохода на берег, а речное сообщение в Зеленнике – единственная связь с «большой землей», к нам сразу подбежал невзрачный мужичонка и спросил, кто среди нас врач (в выездных стройотрядах советского времени по штату обязательно полагался медик). Когда мы ему указали на нашего доктора, он бросился к нему со словами: «Здорово, коллега! Очень рад! Будет теперь с кем поговорить. Я тоже врач. Я главврача убил!» А потом перешел на герметичный медицинский сленг, дабы доказать свою принадлежность к корпорации.
В общем, поселковый контингент был закален и суров – подстать самому северному пейзажу. Во времена жестоких горбачевских гонений на национальную идею, то есть на употребление водки, он активно пристрастился к тому, что обитатели поселка называли «коктейль «строитель»» – смесь браги с одеколоном. Кстати, самогона в Зеленнике было не достать – у поселковых нетерпеж начинался уже на уровне браги.
Особой поселковой достопримечательностью были местные псы – помесь собак с волками. По весне волки в лесу начинали зазывно и интригующе выть: «А, пойдемте-ка, дорогие собачки, в тайгу прогуляемся». И поселковые дворняги, наскучив подзаборным деревенским имбридингом, с замиранием сердца неслись со всех ног в лес, влекомые духом авантюры, ожиданием новых, доселе невиданных знакомств и открывавшимися в их собачьем воображении матримониальными перспективами (передача Ларисы Гузеевой «Замуж за волка»). После чего волки кого-то из них ели, а кого-то употребляли иным способом. Играл ли в способе употребления какую-либо роль собачий гендер, или даже и гендер здесь был ни при чем, нам знать не дано. Но продукт волчье-собачьей недолгой любви получался знатный – стоит себе посреди поселковой дороги вылитый волк и, виляя хвостом и полаивая, еду у тебя выпрашивает.
Был этот волчье-собачий гибрид абсолютно всеяден. Раньше я, например, никогда не видел, чтобы собаки с таким аппетитом уплетали хлеб. Но то, как оценивающе с головы до ног и облизываясь на тебя начинала смотреть эта милая собачка, дожевав брошенную ей корку, говорило, наверное, о том, что поедание хлеба – это не триумф вегетарианства в семействе псовых, а, скорее, вынужденный голодный северный компромисс.
Работали мы на дальнем конце узкоколейки в глухой тайге в 30 км от поселка. В паре километров от нас посменно (в смысле то работали, то не работали) трудились лесорубы, вгрызавшиеся все дальше в тайгу. Кроме них на десятки километров вокруг не было ни души.
Жили мы в строительных вагончиках. Спали в них на нарах вповалку (некоторые даже резиновых сапог на ночь не снимали). Воду для готовки черпали из ближайшего болотца, вместе с водомерками, жуками-плавунцами и прочей водной нечистью и потом кипятили. Рацион – день макароны с тушенкой, день гречка с тушенкой (я на макароны и гречку потом год смотреть не мог). Всё, кроме макарон, нужно было тащить с собой из Москвы, поскольку в местном сельпо кроме сероватых макарон, не менее серого хлеба, слипшихся карамелек, железных от старости пряников и рыбных консервов самого низкого разбора (из серии «последний завтрак туриста») ничего не было.
Вокруг тайги и северных лесов в целом сложился целый ореол романтики – «могучая и суровая природа», «завораживающая северная красота». Но там, где я был, природа была ошеломляюще некрасивой – болота, перемежающиеся островками относительно сухой почвы, и корявый, лишенный хвои сухостой, а также еще пока живые елки под разными совершенно немыслимыми углами, торчащие из чавкающей сыроватой поверхности. Для перемещения по этому крайне недружелюбному пространству лучше всего подходит термин «по буегорам и косоракам».
Плюс еще местная летающая кровососущая фауна, являющая просто исключительное видовое разнообразие. Причем, у каждого вида свой четкий time-slot. С раннего утра на работу выходили черные слепни. К полудню их сменяли слепни желтые. Часа в три на свою смену являлись мелкие кусачие черные мухи, название которым я не знаю. В пять вечера – огромными клубящимися тучами налетала «мошка» (с ударением на последнем слоге), мельчайшая кровососущая дрянь, которая лезет в глаза, в уши, в ноздри, в рот. А в семь вечера выходили на облет территории здоровенные таежные комары и тусовали всю ночь, пока по утру не сдавали вахту черным слепням.
Ночь во время полярного лета – вещь довольно относительная. Коснувшись края горизонта, солнца снова начинает вставать. Поэтому темнота не наступает вообще. В первые пару дней по приезде даже трудно было засыпать. Но потом здоровая усталость начинала брать свое. Работали мы все семь дней в неделю: с понедельника по субботу – по 12 часов в день, в воскресенье – 6 часов в день (во второй половине дня по узкоколейке нас возили в баню в поселок за тридцать километров).
От постоянной работы лопатой возникал синдром «заточенных под лопату рук». Утром ты просыпаешься, а пальцы рук полусогнуты и скрючены полукругом, как будто ты всю ночь продолжал держать лопату. Чтобы разогнуть ладонь, нужно было при помощи другой руки постепенно отгибать до нормального положения палец за пальцем. По возвращению в Москву у меня еще пару месяцев наблюдалось полное ороговение кожи ладоней – что у твоего рептилоида (Цукербергу с его выгибающимися назад коленями до меня тогдашнего далеко).
Если бы не калорийная белково-углеводная кормежка, то пребывание в этом стройотряде вполне можно было бы сравнить с опытом каторги (всегда можно ввернуть в качестве аргумента для тех, кто норовит тебя упрекнуть в том, что ты, мол, «по-настоящему в жизни никогда не работал, а только штаны протирал»). Этот стройотряд также научил меня тому, что тяжело заработанные, «потные» деньги не приносят большого удовольствия. Easy come, easy go – в терминах добредшей до нобелевки «поведенческой экономики», так как-то приятнее.
Кроме того, побывав в таких «красивых» и расположенных к человеку местах, вроде окрестностей поселка Зеленник в Архангельской области, напрочь отбивает модное «экологическое сознание». Так и подмывает, как в пушкинской «Сцене из Фауста» на финальный вердикт: «Все утопить!» – все криволесье порубить к чертям под корень и продать на кругляк финнам, а на освободившиеся болота завезти белорусов и организовать там клюквенные фермы (у них с «клюквономикой» как-то лучше, чем у нас получается). В той же логике я бы снес под ноль и «красивый город Екатеринбург» с его пузатыми купеческими особнячками и режущим глаз конструктивизмом и все застроил небоскребами.
И, напоследок, небольшое кадровое наблюдение. Многие российские бизнесмены средней руки вышли как раз из командиров стройотрядов-«шабашек». Некоторые из них работу в стройотряде до сих пор считают самым звездным часом своей жизни.
Военные сборы и колония имени Розы Люксембург
Одним из основных (а для некоторых и главным) критерием выбора вуза в советское время было наличие военной кафедры. Считалось, что солдатом в армию уже точно не заберут, а если уж и пойдешь служить, то офицером и после получения диплома. Правда, вся эта благостность пошла под откос в 1985 г., когда по достижении 18 лет начали «забривать в солдаты» даже при наличии военной кафедры. Наш курс – последний, который не попал под раздачу.
Военная специальность, которой я обучался на военной кафедре, называлось длинно и сложно: «политико-массовая работа среди войск и населения противника». Сокращенным ее названием было «спецпропаганда», но сам термин считался «секретным», и произносить его можно было исключительно полушепотом, дабы вражеский пропагандист и не заподозрил, что мы готовим «наш ответ Чемберлену» со своей стороны колючей проволоки.
«Спецпропаганде» учили студентов всех факультетов и отделений факультетов МГУ, где предполагалось углубленное изучение иностранных языков (я учился на отделении «экономики зарубежных стран»). Если бы вы знали, какое это было унылое … органическое удобрение. Как будто бы опыта взаимных пропагандистских баталий Первой и Второй мировых войн и многочисленных наработанных кейсов вообще не существовало, а все эти закрытые пособия по «спецпропаганде» сочинил «из пальца» деревенский партийный агитатор, специализирующийся на чтении в сельском клубе лекций по международному положению.
Плюс еще уровень владения иностранным языком. Большинство из нас тогда владело иностранным языком в лучшем случае на уровне Upper Intermediate. А, как известно, ничто так не раздражает и не злит солдат воюющей армии, как обращение к ним пропагандистов противника на примитивном языке и с большим количеством ошибок. Да, в лучшем случае, что мы тогда могли из себя выдать, это что-то из серии: «Рус, сдафайся. Сталин капут! Наш пофар тебе уже готофит супп. Та».
Несколько слов о потенциальной судьбе военного спецпропагандиста в реальных боевых условиях. Главным оружием пропагандиста был «матюгальник» – мегафон, смонтированный поверх башни бронетранспортера. Чтобы враг тебя как-то услышал, нужно было подъехать, как минимум, на километр к его позициям. Современными средствами артиллерийской акустической разведки источник звука определяется примерно за 30 секунд. Так что спецпрогандист был актером одного очень короткого, но яркого, обрывающегося в фейерверке монолога.
Преподавателями, которые доносили до нас всю эту байду, были, в большинстве своем весьма неглупыми, образованными и повидавшими жизнь людьми. Это были военные переводчики, прошедшие войны в третьем мире (Ангола, Мозамбик, Эфиопия, и т.п.) и не понаслышке знавшие, что такое свист пуль в африканской саванне. Попав на военную кафедру, они впадали в сонный анабиоз людей, выведенных из зоны опасности в зону полного комфорта (гражданская, по сути ничего не требующая работа, при высокой в то время военной зарплате просто «за погоны»), и механически бубнили текст, озвучивая вышеупомянутые нудные и бессмысленные закрытые пособия по спецпропаганде. А мы столь же механически все это записывали в так называемые «секретные тетради».
Сидеть на военной кафедре нужно было раз в неделю, но целый день – с 9 утра до 5 вечера. Впрочем, лекции были где-то до часу дня. Потом часовой обеденный перерыв, а затем с двух до пяти объявлялась «самоподготовка», где студенты и преподаватели соревновались друг с другом в зевках и дремотности.
Когнитивным диссонансом был иностранный язык, который никак не рифмовался с этой уныло-фарсовой военщиной. До сих пор помню рапорт дежурного студента дежурному офицеру: “Comrade lieutenant colonel, the group is ready for the lesson! All are present and correct. But the student Ivanov is missing for the reasons unknown!”. Или же колоритные речения на английском толстого характерного полковника Модина, которые студенты окрестили «выступлением группы Modin Talking».
Если еженедельная отсидка на военной кафедре была просто необременительной нудятиной, то летние военные сборы после четвертого курса, которые должны были завершить наше ускоренное военное образование офицеров запаса, внесли немало оживляжа.
Проходили мы военные сборы под городом оружейников Ковровом, что во Владимирской области. По прибытии офицеры попросили нас не пугаться, если мы вдруг вдали услышим выстрелы: «Вы ребята не бойтесь – это местная шпана от милиции отстреливается». Оказалось, местные рабочие-оружейники тайком выносили с заводов детали, из которых здешние кулибины мастерили самодельные стволы, попадавшие затем в руки буйных ковровских апашей.
Наши военные сборы – это полуторамесячное проживание в лесу в палаточном лагере рядом с военным городком Ковровского учебного полка Владимирской танковой дивизии. Полк («учебка») ставил перед собой совершенно нереальную сверхзадачу сделать из почти не говоривших по-русски и не видавших ранее никакой другой техники, кроме груженных поклажей ишаков, аульских узбеков и таджиков командиров танковых экипажей. К этим ребятам идеально подошли бы слова более поздней песни: «Какой ты нафиг танкист».
Мелкие, тщедушные, полуграмотные, забитые – они хромали по военные части в более чем странном комплекте обуви: на одной ноге – кирзовый сапог, на другой – кед или тапочек. Оказывается, что если они натирали до крови ногу кирзачом и неумело намотанной портянкой, то сердобольный офицер разрешал временно обуть пострадавшую заднюю конечность в более комфортный вариант обуви, в то время как пока еще не намозоленная вторая нога должна была продолжать пребывать в предусмотренном уставом корявом сапожище. Танки были под стать узбекам – ржавые и неказистые Т-62, поставленные на вооружение еще в начале 60-х годов.
Вообще, военная эстетика – дело тонкое. На нас она тоже распространялась, хотя мы были не на срочной службе и жили за пределами гарнизона. Например, строжайше воспрещалось носить привезенные с собой из дома носки вместо армейских портянок и надевать свои собственные трусы вместо предусмотренных уставом синих армейских. Также ни в коем случае нельзя было поддевать под гимнастерку домашний свитерок, хотя лето выдалось, зараза, холодное и температура в среднем не превышала +15 градусов.
Утро начиналось с построения на импровизированном плацу (по сути, лесной поляне), после чего следовала команда: «Расстегни». По этой команде нужно было снять один сапог, приспустить штаны и расстегнуть до пупа гимнастерку, чтобы господа офицеры могли убедиться, что требования устава и суровой военной эстетики по отношению к исподнему полностью нами соблюдены.
Также при построении на плацу должны были быть безукоризненно начищены сапоги. Вообще, чистка сапог дело хорошее, и, например, на параде начищенные до блеска сапоги более чем уместны. Но, вот, насколько они уместны в лесу, в палаточном лагере? В нашем сосновом лесу почва была сухая и песчаная, так что каждый шаг поднимал облачка мелкой пыли. В общем, это вам не намытая перед парадом брусчатка Красной площади. Так что пока ты добирался до плаца, все усилия по чистке сапог шли полностью насмарку. А за пыльные сапоги – можно было схлопотать наряд на кухню вне очереди (об «адской кухне» чуть позже). Поэтому кто-то шел до плаца на пяточках, немыслимо выгибаясь и балансируя как поклевавший мухоморов гусь, а кто-то и вовсе брел босиком, неся начищенные сапоги в руках, дабы обуть их уже прямо на месте утреннего построения.
Еще одним существенным моментом военной эстетики и ключевым элементом нашей боевой подготовки, поглощавшим большую часть времени пребывания на сборах, была уборка шишек и иголок в сосновом лесу. Наши палатки, рассчитанные на 8 человек, стояли прямо под соснами. Кто бывал в сосновых лесах, знает, что с ветвей нон-стопом сыплется хвоя, образуя под деревьями густую пружинящую подстилку. Офицеры с военной кафедры однако сочли, что это некрасиво, и вменили нам в обязанность каждый день убирать лес так, чтобы на земле в течение дня не оставалось ни хвоинки. Упражнение было сродни попытке вычерпать ложкой море – как только ты сгреб граблями и веником все шишки и иголки, через час успевали нападать новые (особенно, если ветер подул). Но военная эстетика – это не результат, это процесс. Такое, вот, дзеновское подвижничество.
Еще офицеры заботились о том, чтобы мы были в хорошей физической форме. Было огромное количество шагистики в рамках так называемой «строевой подготовки». Видимо, предполагалась особая тактика использования военных пропагандистов со знанием иностранных языков, когда они стройными колоннами, с песнями и речевками типа «Здравствуй НАТО, Новый Год!» должны были выйти к передовой и покорить бравой выправкой в стиле шоу «Спасская башня» сердца и души засевшего в окопах противника.
Среди других конкретных упражнений военного воркаута – рытье окопов в противогазах (очень, надо сказать, лишний вес сгоняет), марш бросок сразу после бани (помылись чуток, а теперь можно и снова попотеть), а также посещение столовой по команде «бегом». Добежали до столовой – поступает команда бежать обратно, поскольку прибежали слишком рано. И так несколько раз подряд перед тем, как сесть за стол.
Впрочем, даже здоровый аппетит, вызванный многочисленными экзерсисами на свежем воздухе, не позволял до конца доедать то, что нам там готовили. Основным блюдом, повторявшимся практически изо дня в день, был горох с комбижиром. Плавающий в густом отвратительном полупромышленном жиру, по внешнему виду и консистенции он напоминал, скорее, конечный результат недоброго пищеварения, нежели его «исходник».
Причем, все условия для подобного рода «компаративистики» были созданы. Ровно в десяти-пятнадцати шагах от столовой располагался военно-полевой сортир аж на двадцать посадочных мест. Это был циклопический вариант дачного «скворечника», где для вентиляции не было не только дверей, но и торцевых стенок, а расположенные в метре друг от друга дырки над сероводородной бездной вообще не разделялись никакими перегородками. У присевших в рядок бойцов вырабатывалось – ну, как бы это сказать, – «чувство локтя». Отдавая дань смелости предложенных архитектурных решений, для «философских раздумий» я все же предпочитал ходить подальше лес.
Близость выгребной ямы к пищеблоку и отсутствие временами целыми сутками воды в кране, чтобы нормально помыть руки (в лучшем случае, перед едой их протирали лосьоном после бритья), привели к более чем двадцати случаям дизентерии в нашем лагере. Хотя, увезенные в местные больнички пострадавшие почти и не скрывали своей радости представившейся возможности на время откосить от этой растянувшейся на 45 дней инициации в «настоящие мужчины».
Важной частью нашей инициации были вышеупомянутые хождения в наряды. Наряд по кухне подразумевал мытье сотен покрытых слоем комбижира тарелок. Если и была какая-то вода, то, разумеется, только холодная, а в качестве военного средства для мытья посуды выдавалась … хлорка. Да, та самая едкая бытовая хлорка с характерным резким запахом, которой в деревнях для дезинфекции отхожие места посыпают, и от которой моментально начинают слезиться глаза.
Никаких резиновых перчаток для работы с хлоркой нам, понятно, не полагалось, и руки моментально начинало разъедать. Поэтому процесс мытья тарелок сводился, по большей части, к быстрому разбрасыванию горстей хлорки по дну тарелки и прополаскиванию ее под тонкой струйкой холодной воды. В результате, комочки хлорки просто влипали белыми созвездиями в ни разу не отмытый комбижир, и в таком виде тарелки шли в оборот на следующий день. Впрочем, непроизвольное хлорирование тарелок на фоне дизентерии, возможно, и было неким решением. Не знаю, что уж желудку нравилось меньше – хлорка или антисанитария.
Еще был наряд по стоянию на карауле у «оружейки» – отдельно стоящего на краю нашего летнего лагеря кирпичного сарайчика, где под замком хранились автоматы. Автоматы были боевыми, настоящими. Правда, патронов к ним нам не выдавали, что было, наверное, и правильно, и в оружейке, соответственно, патроны не складировались. Сменяясь, каждые четыре часа, нужно было стоять на карауле сутки.
Особенно некомфортно было стоять в карауле ночью. Дело в том, что ровно в километре от нашего палаточного лагеря располагалась колония имени Розы Люксембург для особо опасных рецидивистов. Если зеки отправляются в побег, то первым делом они стремятся завладеть оружием (а откуда им знать, что в нашей оружейке только бесполезные автоматы без патронов). Звать в ночи кого-то на помощь особого смысла не имело: офицеры с кафедры ночуют не в палаточном лагере, а поодаль в офицерском общежитии, до КПП гарнизона – довольно приличное расстояние, не докричишься. Коллега же студент-гуманитарий – довольно сомнительная боевая единица. В случае чего, забились бы в углу своих палаток, и никто бы и не вышел. А выданного для обороны оружия, когда ты стоишь на карауле, у тебя всего-то тупой штык-нож (все имеющиеся в наличии штыки-ножи в Ковровском танковом полку специально старательно затуплялись на абразиве после того, как в гарнизоне случилось ЧП – «молодой» солдат обиженный «дедом» всадил штык-нож в задницу своему обидчику по самую рукоятку).
По совокупности, военные сборы поразили меня не столько необходимостью «стойко переносить тяготы военной жизни» (слова из текста военной присяги), – до этого уже была вполне закаляющая каторга-реконструкция моего таежного стройотряда – сколько какой-то полной и выдающейся нелепостью всего происходящего. Рефлексировали ли офицеры с военной кафедры, что то, чем мы занимаемся, не имеет ничего общего с военной подготовкой? Да, думаю, рефлексировали (как я отмечал в начале этого сюжета, многие из них были неглупыми, повидавшими по роду службы мир людьми). Просто им было элементарно скучно, и шокотерапия для представлявшихся им субтильными и «не хававшим праны» гуманитариями была такой брутальной военной развлекухой.
Подтверждением этого тезиса может служить то, что для бывших на сборах студентов Института стран Азии и Африки (факультет МГУ), которые изучали язык пушту, и которым через год предстояло, одев офицерские погоны, ехать в Афганистан, была выбрана совсем иная программа. «Вам, ребята, тут другое нужно», – сразу сказали им офицеры. Поэтому они все 45 дней на военных сборах практически не вылезали со стрельбища, пока все остальные ожесточенно боролись с хвоей в хвойном лесу.
Как бы то ни было, уже взрослым в разговорах с экспатами я любил ввернуть, что в советское время был подготовлен как офицер запаса по направлению psychological warfare («психологическая война» – название в вооруженных силах США военной специальности, которая является аналогом нашей «спецпропаганды»). После чего они начинали отодвигать от меня свои пивные кружки, видимо, опасаясь, что я вот-вот тайком им подолью туда полоний.
Пивная и тайваньский вопрос
Пообщаться за кружкой пива – было самой распространенной формой студенческой социализации, а пивные – самым востребованным у студентов форматом советского алкогольного общепита, если шла не о special event, а выходе в хореку, что называется на everyday level.
Вообще, советский алкогольный общепит предлагал следующие основные форматы: 1)рюмочные; 2)пельменные/чебуречные/шашлычные; 3)пивные; 4)кафе; 5)бары; 6)пиццерии; 7) рестораны. Попытаемся кратко охарактеризовать все из них.

