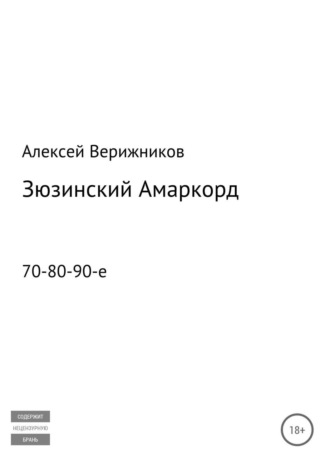 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
Настоящее же развлечение начиналось по заселению в арендованное жилье. Размер стипендии не позволял снять однокомнатную квартиру в одного. Поэтому в качестве вариантов была либо комната с польской семьей, либо те или иные комбинации с room-mates при аренде двух– или трехкомнатной квартиры.
Первым моим жильем в Варшаве была комната в частном доме в ближнем варшавском пригороде Урсус. В принципе, пригород как пригород. Застроен аккуратными двухэтажными частными домами с небольшими участками. До центра – полчаса электричкой (примерно, как у нас на метро из спального района Москвы). Единственный нюанс – это мои хозяева и соседи по дому.
Верхний этаж в доме занимала польская семья. В нижнем этаже же помимо меня еще квартировали два польских дальнобойщика, зависших между рейсами, и две украинских проститутки. В день моего заселения радушный польский хозяин усадил меня за накрытый стол, налил пива, после чего достал из буфета здоровенный револьвер, помахал им перед моим носом и сказал: «Ты русский. Поэтому смотри, у меня не балуй!».
Польская же хозяйка мне сразу установила лимит на помывку в ванной – строго не более двух раз в неделю. Дело в том, что в доме не было канализации, и израсходованная вода сбрасывалась в выгребную яму во дворе, которую нужно было откачивать по мере наполнения. Что стоило денег, с которыми экономное польское домохозяйство не спешило расставаться.
Я спросил у других квартирантов, как им такое драконовское лимитирование водных ресурсов. Украинские девушки мне ответили, что для нас, мол, ни разу не вопрос – каждый день у клиентов моемся. А посему эта ванная комната нам почти без надобности – разве что трусики свои кружевные там развесить. Что же касается опрошенных польских дальнобойщиков, то, с их точки зрения, мытье два раза в неделю – это вообще как-то недопустимо много (хозяйка с дидактическим выражением лица мне часто выговаривала – какие однако молодцы ребята, за последние три недели всего разок-то и помылись!).
В целом, как жанр, заселение в польский частный сектор таило в себе немало сюрпризов. Так один мой коллега снимал крошечную мансарду в частном доме, в то время как хозяева жили на просторном первом этаже. Чтобы квартирант не шлялся в хозяйский туалет, хозяева установили в мансарде унитаз прямо посреди общего, не особо-то и широкого пространства. Поэтому, сидя на унитазе, можно было тут же уютно помешивать жаркое в сковородке, шипящей на расположенной поблизости компактной кухонной плитке.
Осатанев от электрички, езду на которой никогда не любил, и от сахарско-туарегского нормирования воды, я стал лихорадочно искать рум-мейта, с которым мог бы напополам снять квартиру. Вариант вскоре подвернулся: один знакомый режиссер-документалист предложил с ним впополаме снимать двухкомнатную квартиру в добротном польском аналоге нашей «сталинки», расположенном рядом с Плацем Банковым – что ни на есть центре Варшавы, откуда до старого города было всего пять-семь минут пешком через симпатичный парк.
Все было бы просто прекрасно, если бы не нюансы творческой личности моего рум-мейта. Родом он был из Львова. Россию именовал исключительно «Кацапчизной» и позиционировал себя как «украинца». При этом новообретенную украинскую незалежность тоже особо не жаловал, называя государственный тризуб не иначе как «куриной лапой». По поводу незалежных лингвистических компетенций говорил про себя следующее: «Мову знаю, но без крайней необходимости на ней никогда не говорю».
У него была романтичная фамилия Маковей – сразу представляются полевые маки под теплым степным ветром. Но он оговаривался, что для дела лучше, когда его фамилию со слуха воспринимают как Маккавей, что говорило о его принадлежности к гораздо более древнему народу, нежели ополяченные обитатели Западной Украины.
Сережа Маковей любил животных и держал дома удава, которого нужно было кормить лабораторными белыми крысами. Удав – высокоинтеллектуальное существо, наполненное живыми глубокими эмоциями. Сожрав крысу, он неделю неподвижно лежит в аквариуме под греющей лампой, усваивая калории. Через неделю начинает сдержанно ерзать, показывая всем своим гадским видом: «Как-то скучно, мне бы крысу». Заполучив подругу для борьбы со скукой и пропустив новообретенное знакомство через себя, снова залегает под лампой. В общем, отличный друг. Радостно лает, хвостиком виляет, тапочки в зубах приносит.
Сосед по квартире снимал на фрилансе документалки для польского телевидения и периодически выезжал в поля на съемки на несколько недель. В этот период трогательная забота об аппетитах его удава возлагалась на меня. Дожидаясь своей участи, крысы жили в отдельной клеточке, и их нужно было поить и кормить, пока большой пятнистый господин не был готов к приему очередной одалиски из гарема в своих покоях. За время кормления я немного привязывался к крыскам, и, если честно, было как-то сильно некомфортно говорить: «Ну, пойдем милая. Ждут тебя».
Это все ерунда, что удавы кого-то там гипнотизируют. У лабораторной крысы никакого генетического страха перед удавом нет, поскольку ее предыдущие поколения с ним никак не сталкивались. Крыса начинает проявлять женское любопытство (какой однако большой и импозантный) и своими усиками тыкаться прямо в морду удава. Ну, а дальше срабатывает биологическая машина по поглощению живой органики (правда, перед тем, как глотать, сначала все же душит – одно утешение, что не живоглот).
Удав – это еще полбеды. Беда – это совместное проживание с так называемой «творческой личностью»: перепады настроения, эмоциональные выбросы, продавливание мытьем и катаньем своих капризов и приоритетов. Природа устроена так, что «креативные личности» и «редкостные говнюки» – это почти из синонимических рядов. Боюсь сказать что-нибудь крамольное, но Дантес Пушкина и Мартынов Лермонтова убили – ну, как бы это помягче сказать – за дело. Поэтому если тянет на увлекательный нарратив об околобогемной жизни, лучше встречаться с «людьми творчества» где-нибудь в ауте на нейтральной территории, чем иметь с ними какие бы то ни было личные дела.
Жизнь с эфиопом
Политкорректный прогрессивный читатель, наверное, меня уже заподозрил в целом ряде смертных грехов – в том, что я семитский антисемит, чехиялюбивый чехоненавистник, зоологический полонофоб (еще бы – милых польских крысок этому ужасному иудео-бандеровскому удаву скармливал). Но настало время для еще одного важного каминг-аута – в дополнение в перечисленному, я еще и бытовой расист. Я целых три года делил быт с негром. Вернее, с эфиопом.
Несколько слов про эфиопов. Это не совсем негры. Это такие темнокожие семиты. Цвет кожи у них – обамистого оттенка coffee with milk, а в религии, которую у нас некоторые ошибочно причисляют к разновидности православия, есть тезис, что все эфиопы якобы родом от плода грешной любви царя Соломона и царицы Савской. Плюс еще практика обрезания для мальчиков по иудейскому канону на восьмой день после рождения. В общем, по сути, «эфиопское христианство» – это такая синкретическая секта типа сирийских алавитов (в случае последних, в верованиях перемешались мусульманство и христианство), которых для удобства учета политического поголовья на определенном этапе записали в шииты.
Эфиоп в быту – это несочетаемое сочетание обволакивающей семитской хитромудрости и племенного африканского простодушия (типа, я выпил твой сок в холодильнике, потому что очень хотелось пить, а в магазин идти не хотелось). Мой эфиопской сосед по квартире – а звали его Тадессе – как и я, был лучшим учеником нашей богоугодной Школы Наук Сполэчных (перевод на польский Graduate School for Social Research) и регулярно составлял мне конкуренцию в конкурсе на лучшее докторантское эссе. Был он и хорошим интеллектуальным собутыльником, если бы не определенные нюансы.
После объема выпитого в районе пол литра водки, его тянуло на «погулять», и он попросту открывал дверь и растворялся в ночи. Такие ночные прогулки несли за собой определенные потери – как имиджевые, так и финансовые. В минимальном варианте, это заканчивалось потерей лица, а также бывших на нем ранее очков в хорошей оправе, что делало заметную дыру в студенческом и семейном бюджете. За что ему, охая и причитая, выговаривала его боевая украинская подруга Наташа, с которой он начал жить еще во время своей учебы в Киевском Университете (позже они вместе поехали учиться в Польшу – Тадессе в нашу Graduate School, а Наташа – в Варшавский Университет).
Более существенной историей было его задержание польской полицией с дальнейшим направлением в вытрезвитель, из которого затем приходил огромный по студенческим меркам штраф. Из иностранных языков Тадессе хорошо владел английским и русским (ни украинский, ни польский даже на бытовом разговорном уровне ему так и не дались). Поэтому в участке он говорил по-русски, что, полагаю, для польской полиции было еще тем шоком: пьяный негр, икая и запинаясь, вещающий на «языке агрессора». В их неустанной борьбе с представителями «мафии с востока» – русскими, украинскими, белорусскими – только вот чернорусских им еще не хватало.
В пошеренной съемной квартире с украинско-эфиопским семейством мы жили в довольно симпатичных варшавских спальных районах. Сначала это был Жолибож (из достопримечательностей там находился частный дом, ранее принадлежавший Анне Герман), а затем Садыба (прямо через улицу от нас был мини-райончик городских вилл, где среди прочих стояла и вилла Барбары Брыльской). Такие вот рифмы жизни с наиболее известными в СССР польками.
И та, и другая квартиры располагались в пятиэтажных домах – близких аналогах наших «хрущевок». Если тема «хрущевок» с рождения меня никак не оставляет, то имеет смысл пару слов сказать о том, что они из себя тогда представляли в Польше. Внешне все, примерно, один в один. Разница в подъездах и в оформлении пространства возле дома.
Подъезды в пятиэтажках у поляков очень милые и ухоженные. У нас даже целый зимний сад в подъезде был соседями оборудован. А пространство вокруг пятиэтажек – это такие мини-садики с цветочками. Если владельцам жилья в варшавской пятиэтажке доставался депривационный первый этаж, то по умолчанию им отходил и цветничок под окнами, куда можно было в теплый сезон ставить летние кресла и столики, организовывать семейные пикнички и, в целом, наслаждаться эффектом городской дачки. Как я ранее писал, у нас пространства вокруг «хрущевок» тоже были озеленены – но, в смысле подбора категорий высаженных растений, это были либо сугубо утилитарные плодово-ягодные, либо прагматичные срально-укрывальные с густой, прячущей все листвой.
Наша съемная квартира превратилась во что-то вроде комьюнити-центра для всей русскоязычной учащейся общины Варшавы (у нас бывали русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы), и на ухоженный цветничок под нашим балконом не только и не столько в силу злого умысла/свинства гостей, сколько в силу их общечеловеческого несовершенства периодически падало разное – окурки, пустые бутылки, трусы. Отметим, что трусы вежливые соседи снизу даже норовили потом вернуть.
В те годы зарубежного школярства организовать вечеринку означало выставить на стол две бутылки водки по 0.75 л, банку огурцов, банку патиссонов и килограмм полукопченной колбасы в нарезку. Вот вам и party. А собиравшийся у нас разношерстный люд рассказывал нам свои истории.
Бывал у нас в гостях ласковый и общительный голубой Коля. Буквально после первой рюмки он начинал обстоятельно погружать собравшихся за столом в технические детали гейского body care – как брить растительность на ягодицах, и как делать депиляцию в зоне ануса. Девушки из числа гостей очень внимательно слушали и задавали уточняющие вопросы. В вопросах депиляции даже делились с Колей своим опытом (а что – почти подружка). У эфиопа же Тадессе от этого бытового гей-прайда наливались от бешенства кровью глаза. Традиционное общество, оно и есть традиционное общество – даже несмотря на образовательный ценз.
Бывали и две разбитные и вульгарные девушки из Новосибирска (за глаза мы их звали «сибирскими девками»). Они находились в бесконечном поиске брачного проекта, который помог бы им соскочить с поезда русской неизбывности. В ход шли любые экспаты, имевшиеся в наличии в Варшаве – ирландцы, финны, датчане, и даже аргентинцы. За время неоднократных «подходов к снаряду», девушки научились довольно бойко лопотать на английском. Одной из них принадлежало следующее острое лингво-медицинское наблюдение: «Язык, он лучше всего половым путем передается».
Но гостили у нас и люди духа. Одному российскому аспиранту на православное Крещение приспичило совершить омовение в иордани. Стояли совершенно нетипичные для Польши пятнадцатиградусные морозы, а ночью вообще до двадцати доходило. За неделю таких трескучих морозов ближайшее к нам городское озеро покрылось пятидесятисантиметровым льдом. Прорубиться через этот лед и добраться до живительной крещенской водицы – такова была сверхзадача, поставленная нашим страстотерпцем.
У хозяев квартиры, где тот снимал комнату, он попросил топор. На удивленный вопрос «Зачем?», последовал ответ, что топор требуется для совершения одного важного православного обряда. И ушел с топором в глухую варшавскую зимнюю ночь.
Далее, события развивались следующим образом. До воды наш герой через толстый лед так и не дорубился. Зато иссек в кровь лицо острой ледяной крошкой, летевшей во все стороны от ударов топора. И в таком в виде – в бессильно свисающей руке топор, по лицу потеки крови – явился к своим квартирным хозяевам. «Интересные однако у вас в православии обычаи», – сдержанно заметили те, и на всякий случай вызвали полицию. Потом нашему любителю крещенских погружений пришлось провести ночь в отделении, отвечая на вопросы, есть ли труп, и если да, то где он спрятан.
В целом, эти четыре года в Польше были с оговорками неплохим временем. Если сравнивать Варшаву образца 1993-97 года и Москву того же периода, то по налаженности бытовой жизни и господствующим нравам, хоть поляки и говорят, что у них тоже были свои «лихие 90-е», все же выбор – он не в пользу первопрестольной.
Какова же была судьба главных героев, с которыми я три года провел под одной крышей? Всю дорогу, как жена декабриста, Наташа стойко переносила польский расизм – когда она шла с Тадессе по улице, ей вслед комментировали и свистели, а ее польские родственники отказались с ней общаться, узнав об экзотическом выборе бойфренда.
Также она стойко переносила эфиопскую тягу к пьяным ночным прогулкам, последствия которых убивали их семейный бюджет, и свирепую кавказского свойства ревность Тадессе (особого повода она не давала, и за все время изменила ему всего один раз – причем, в качестве рифмы жизни, с грузином). Сам же Тадессе в отношении любой особы женского пола в возрасте 20-40 лет, по той или иной причине оказавшейся у него на радаре в радиусе десяти метров, включал режим «африканский охотник взял след».
По окончании учебы в Варшаве Тадессе уехал на родину в Эфиопию – якобы ему удалось влезть в некий околоправительственный проект, финансируемый то ли ООН, то ли МВФ, – и обещал в течение нескольких месяцев вывезти к себе Наташу на обретенное туземное благополучие. В течение года от Тадессе не было ни слуху, ни духу, и Наташа решила, что хлопец решил раствориться в саванне, сняв с себя в одностороннем порядке необязательные на родине узы восточно-европейского гражданского брака.
Наташу сильно поджимали деньги, и она, в конечном счете, приняла ухаживания одного возрастного ирландца. В этот момент, Тадессе неожиданно нарисовался по телефону, и состоялся диалог украинской Татьяны Лариной с африканским Онегиным: «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Наташа перебралась в Ирландию, а затем в Англию.
Тадессе, как ни странно, спустя годы тоже оказался в Великобритании на преподавательской должности (эфиопы хорошо социализированы – не зря к царю Соломону в родственнички напрашиваются). С ним была молодая африканская жена – ровно в два раза моложе Тадессе. Согласно международному профессорскому обычаю, женился на своей студентке. Что ж, как писал Сомерсет Моэм, life is full of compensations.
Венский шницель и баденский козел
«Голубой Дунай»… Откуда это вообще пошло? Если про цвет воды в реке, то в районе Вены он откровенно бурый. Могу только сделать предположение, что это такой тайный боевой пароль австрийского ЛГБТ-сообщества, вроде франкистского «Над всей Испанией безоблачное небо». Как пойдут его ретвиты и репосты по соцсетям, так вскинутся боевые дружины рафинированных венских содомитов, и начнут водружаться радужные флаги над зданиями вокзала, почтамта, телефона, телеграфа и прочим ленинско-революционным ключевым городским локациям.
А, вообще, Дунай он в Вене не один – их целых четыре. Есть собственно Дунай (Донау). Плюс еще Нойе Донау (Новый Дунай), Альте Донау (Старый Дунай) и Донау Канал (Дунайский Канал). До самого Дуная туристы в Вене редко добираются – он течет через городскую окраину, и делать там особо нечего. Рядом же с историческим центром проходит Донау Канал, которые многие географически неподкованные туристы ничтоже сумняшеся и принимают за мать (вернее, отца) всех немецких-австрийских-венгерских-сербских-болгарских-и-примкнувших-к-ним-румынских рек. Типа, река в Вене – значит Дунай. А что же это еще может быть?
В центре Вены, на берегах Донау Канала, неподалеку от судьбоносного для нефтяной России старого здания ОПЕК, расположилось еще одно соросовское странноприимное учреждение под названием Institute for Human Sciences, куда я встал на постой на полгода.
Все это называлось научной стажировкой (research fellowship) для молодых ученых. Располагался институт в уютной постройке, бывшей ранее домом свиданий с почасовой оплатой. Унаследованная атмосфера здания располагала к релаксу и получению удовольствия.
По правилам научной стажировки нужно было являться в исследовательский институт каждый день, но никто не оговаривал точно, к какому времени, и как надолго. Я приходил ровно к часу дня, когда ученые – как стажирующиеся, так и входящие в постоянный штат – приступали к ритуалу коллективного обеда. В институте был свой повар, накрывавший каждый рабочий день для всех обед ресторанного качества с ежедневно меняющимися блюдами. Не возбранялось к обеду брать пиво, и послеобеденное рабочее настроение становилось более чем благодушным.
После этого я шел на пару часов в институтскую библиотеку, чтобы почитать свежую научную периодику по социальным наукам. И всё, домой в свою компактную квартирку на Фаворитенштрассе (главная торговая улица Вены, аналог лондонской Оксфорд-стрит). На сей раз, заселение было в одного – без удава или эфиопа в комплекте. Скажу честно, на этой стажировке точно не надорвался. Но таки успел закончить пару глав своей диссертации и тиснуть статейку в один австрийский университетский журнальчик.
Вообще, Вена идеальна для длинного туристического уикенда. За три дня улыбка умиления и восторга не будет сходить с ваших уст. Но жить там долго и продолжать пребывать в эйфории от города – совсем неочевидно. Насмотревшись на дворцы, парки и золоченых баб Климта, съев венский шницель (в девичестве cotoletta alla Milanese) и запив его кофе по-венски со штруделем, начинаешь быстро задаваться вопросом, а чтобы там еще поделать.
Вена – это такой сплошной спальный район, где все ложатся спать ровно в восемь вечера. Во всех кварталах города в восемь, как по команде, в квартирах гаснет свет, как будто бы венцы продолжают придерживаться правил светомаскировки, установленных для них в годы Второй мировой. Как стемнеет, в центре Вены кроме иностранных туристов никого и нет, да и те, попадая в местный ритм, торопятся побыстрее залечь к телевизору в гостиницу. Из того, что в то время было открыто в центре города после десяти вечера – лишь несколько светящихся неоном стрип-клубов.
И так, в общем-то, не только в Вене, но и по всей Австрии. Один мой знакомый решил съездить в Зальцбург, чтобы припасть к моцартовским корням. Приехал он поздно вечером, практически на ночь глядя, и тут ему в голову пришла нестандартная идея, что в гостиницу он, экономии ради, не пойдет, а проведет всю ночь в веселом бар-хоппинге по местным ночным заведениям.
Из всех открытых ночных заведений в Зальцбурге приветливыми огоньками светился лишь единственный в городе бордель. А так, над городом стояла траурная, что твой моцартовский реквием, тьма – хоть глаз коли. За неимением опций, знакомый решил разведать – как там, в борделе.
И вскоре ему раскрылась вся экономика вопроса. Взять девушку на всю ночь до утра – точно не хватает денег. Взять на час – вроде хватает. Но что делать по истечении этого часа? Бордель – учреждение с жесткой почасовой тарификацией. Час закончился: либо, ауфидерзейн – на улицу, либо плати за следующий час. На улицу точно не хочется, а рассвет, ох, еще как далек!
Чтобы тебя вежливо или не очень не попросили, в борделе нужно оставлять какие-то деньги. Поэтому, чтобы пересидеть ночь в тепле, наш герой выбрал стратегию угощения девушек дринками по бордельным ценам, которые заметно отличаются в большую сторону от цен в обычных питейных заведениях. Зная, что до утра долгонько будет, он старался не частить. Но все равно оставил в борделе сумму, существенно превышающую ту, которую пришлось бы отдать за ночь в трехзвездочной гостинице. Так вот сэкономил, а заодно и приобщился к бурной австрийской ночной жизни.
Австрийцы очень любят классическую музыку – и Моцарта, и весь пантеон австрийских и австро-венгерских серьезных и легкомысленных композиторов. Для тех, кто не попал в венскую оперу, на улице устанавливаются огромные электронные экраны, на которые транслируется изображение и звук происходящего в этот момент на театральной сцене. Грохочет оперный немецкий. Но это для гурманов. Для меня же на слух опера на немецком – это такой вермахтовский аналог нашего ансамбля песни и пляски имени Александрова. Если, конечно, таковой когда-либо существовал.
Здание Венской государственной оперы выходит на площадь, под которой идет длинный подземный переход. В нем же находится большой общественный туалет. Переход и туалет облюбовали венские бомжи, которых толерантная венская общественность и полиция совершенно не гоняют. Поэтому наверху – элегантная фрачная публика у дверей оперного театра, а в пятидесяти метрах внизу – колоритные бомжи, в живописных позах прикорнувшие прямо у писсуаров. Причем, многие венцы добираются до театра на общественном транспорте и идут до его дверей ровно по этому переходу. И ничего, с возвышенного театрального настроя, видимо, их не сбивает.
Еще от здания оперного театра идет трамвай «нах Баден». Баден – это такой утонченный аристократический пригород Вены, вроде нашего Петергофа под Питером (только там нет фонтанной скульптурной композиции «Кинг-Конг раздирает пасть тираннозавру»). Видимо, аристократам исторически сподручней было туда ездить на трамвае. 45 минут по трамвайным рельсам – и ты из самого центра Вены попадаешь в историческую спа-идиллию в живописной сельской местности с холмами и виноградниками.
Австрийский «Баден близ Вены» (Baden bei Wien) не стоит путать с известным немецким Баден-Баденом, где любил в свое время игрывать и проигрываться Достоевский. Но суть та же – лечебные воды, казино, аристократические виллы.
Всю панорамную трамвайную дорогу до Бадена меня настойчиво донимал сильно подвыпивший и как-то не по-польски развязный поляк, который попеременно ко мне обращался то на своем языке, то по-русски. Человеку, видно, уж очень хотелось общения после долгого пребывания в стерильном на коммуникацию австрийском обществе. И, похоже, даже русский попутчик, при всех светлых чувствах поляков к нам, был ситуационно пригоден.
А я ему все лапидарно отвечал на английском, что нихт ферштейн, при этом думая, а как же, блин, он меня выкупает? Рта я надолго не раскрывал. Ушанки, буденовки, кепаря, «петуха», популярной в 90-е «пидорки», борсетки, кожанки, спортивных штанов на мне и при мне не было – вроде как приоделся по местной моде в приличном, как мне тогда казалось, магазине C&A. На австрийском благополучии наел довольную бюргерскую пивную физиономию. На чем же я тогда палился, чтобы стать объектом навязчивого славянского братания? Но, видимо, как ни мимикририруй под окружающую действительность за долгие годы пребывания за границей, все равно тебя что-то выдает, вроде волочащегося за Штирлицем парашюта.

