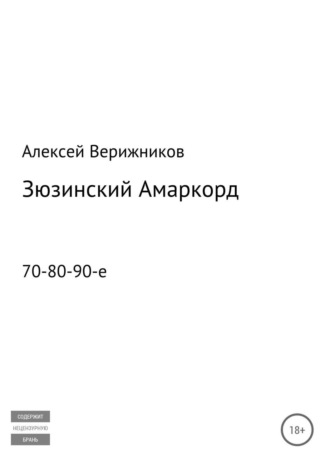 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
Рюмочные: московские рюмочные советского времени, в отличие от питерских, не были колоритными «идейными» заведениями. Посещали их, в основном, угрюмые возрастные крепко пьющие мужики с носами-баклажанами, закусывавшие стопари с водкой заветренными бутербродами (по правилам, водка без закуски, то есть без бутербродов разной степени неприглядности, там не отпускалась). Студенты туда заглядывали довольно редко.
Пельменные/чебуречные/шашлычные: из-за тяжелого кулинарного чада в зале, возможности не снимать верхнюю одежду, разлитого по столам жира, который никто не торопился вытирать, раздатчиц, похожих на персонажи фильмов Алексея Германа, они напоминали харчевни раннего средневековья. Там даже вместо салфеток ставили на столы резанную оберточную бумагу. Въедливый читатель может, конечно, ввернуть, что в раннем средневековье вообще никакой бумаги не было, даже оберточной, на что ему резонно можно ответить, что рукавом и занавесками там тоже вытирались. Туда можно было забежать раз в год – в полгода, чтобы под окказиональное брутальное настроение в охотку набить утробу горячей лоснящейся плотной едой (других достоинств у нее, пожалуй, и не было).
Рестораны: позднесоветский мейнстримовский ресторан предполагал безликое открытое пространство, лишенное какой-либо атмосферности, никакую еду (лучше, чем в столовой, но точно не про радость вкусовых рецепторов) и хамоватых высокомерных официантов. Основным развлечение там было даже не есть и не пить, а кидать в оркестр советские пятерки и десятки, чтобы тот исполнил песню «для гостя из солнечного Дилижана». Студенту там точно было делать нечего.
Кафе: в мейнстримовском советском кафе было все примерно то же самое, что и в ресторане, но только еще лапидарнее и без оркестра. Компенсацией за дополнительное упрощенчество была более низкая ценовая категория. Но и она не особо влекла. Как формат общепита, по сути, получалась просто более чистая и дорогая столовая с алкоголем. Зачем туда было ходить, вообще было непонятно. Статусности – ноль, атмосферности – ноль, событийности вечера – ноль. Похоже, туда, по большей части, забегали командировочные, чтобы снять командировочный стресс и усталость сотней граммов водки или стаканом портвейна и поесть еды, которая была хоть на какой-то градус лучше, чем та, которая подавалась в их заводской/институтской столовой.
Бары: бары были двух типов – апгрейд рюмочной, то есть «наливайка», где было не особо интересно, и немногочисленные заведения (где-то полтора десятка на всю Москву), до какой-то степени располагавшие интерьером и атмосферой. Но на дверях у них всегда красовалась табличка «мест нет», а перед входом змеилась очередь. Нужно было либо пытаться влезть без очереди, либо коррумпировать привратника, либо и то, и другое сразу.
Пиццерии: пиццерии в Москве появились еще в советское время где-то в году восемьдесят пятом и сразу заняли нишу относительно бюджетного места, куда не стыдно было девушку привести. Вечер на двоих там обходился меньше чем в десятку (например, бутылка импортного итальянского кьянти с ресторанной наценкой там стоила всего пять рублей), было довольно уютненько, а сам формат прельщал своей новизной и иллюзией, что «почти как не у нас».
Пивные: если пиццерия была тем местом, куда советский студент мог сходить с девушкой, не сгорая от стыда и не проваливаясь в финансовую дыру, то пивные давали бюджетное пристанище для «мужского гендерного клуба» – отмечаний простых событий (вроде сдачи очередного зачета, экзамена, сессии, окончания работы в стройотряде, начала учебного года, и т.д.) и спонтанных разговоров «за жизнь». Пивные были трех основных типов: 1)«автопоилки»; 2)«стоячки»; 3) пивные рестораны.
«Автопоилки» – это были пивные, где пиво отпускалось в автоматах, подобных тем, что продавали в розлив газированную воду. Полная кружка стоила там 40 копеек. Но на любую «серебряную» мелочь – монеты из белого сплава достоинством в 10, 15 и 20 копеек – тебе наливали некую пропорцию от пол литра пива (хоть на четверть объема на самом донце кружки, но, тем не менее, осязаемое нечто). Заведение пользовалось популярностью у похмельного народа, поскольку любая найденная в кармане или выпрошенная у входа «серебряная» монетка, вносила свой индивидуальный посильный вклад в купирование похмельного синдрома. В связи с полной автоматизированностью процесса, там не было буфетчиков, и, соответственно, еды. Это был самый low-end советской пивной хореки, где запах мочи из вечно подтекающего прямо в зал туалета смешивался с запахом разлитого по полу подкисшего пива (автоматизации заодно предполагала отсутствие починки и уборки). Ходить туда можно было разве что из острого антропологического интереса.
В «стоячках», где не было стульев, и стоять нужно было вокруг круглых столиков, розлив пива был ручным, и работали еще буфетчики, выставлявшие на прилавок простую еду – как правило, либо сморщенные сероватые сосиски, либо мелкие переваренные креветки. Ручной розлив пива склонял оператора пивного крана к злоупотреблениям, самыми распространенными из которых было разбавление пива водой или добавление в пиво продуктов бытовой химии, дававших обильное пенообразование.
Самой популярной у студентов МГУ «стоячкой» был «Тайвань» – пивная-«стекляшка», примостившаяся эдаким островом к массивному зданию китайского посольства. Однажды в «Тайване» случилось ЧП – один из студентов, выпив десять кружек пива, разбодяженного ядреным советским стиральным порошком, оказался в реанимации. После чего директора пивной посадили, а улыбчивый новый администратор всех гостей приветствовал словами: «Я человек честный – водой не разбавляю и не бодяжу. Я просто недоливаю». Что вполне воспринималось как сделка.
Наконец, хай-эндом в категории были пивные рестораны. На всю Москву их было всего с пяток. Самый известный – «Жигули» на Новом Арбате (тогда Калининском проспекте), до сих пор влачащий некое посмертное существование. В «Жигули» по причине тогдашних вечных непроходимых очередей мы особо не ходили. Предпочитали «Золотой фазан» рядом с Киевским вокзалом. Он представлял собой крытый алюминием практически авиационный ангар, рассчитанный на несколько сот посадочных мест. Эффект масштаба давал шанс на быстрое прохождение очереди перед входом. Пиво там разносили в кувшинах официанты, а подаваемые к пиву крупные креветки являли собой приятный контраст по сравнению с тщедушной креветочной мелочью, которой можно было разжиться в «стоячках». Тогдашняя пятерка за вечер на брата – вполне комфортная цена за такой «премиум».
Советские пивные, конечно, не идут ни в какое сравнение с современными пивными барами и ресторанами. «Крафт» на стиральном порошке – это было то, что если нас тогда не убивало, то делало определенно сильнее и живучее. Но студенческие разговоры «по душам» в пивных заведениях советской эпохи рождал тот тип бондинга и неформальных связей, которые потом надолго ее пережили. Некоторые попали в хозяева новой жизни прямо от липкого круглого столика в «стоячке».
Искушение будущим
На мои старшие курсы в МГУ и первые годы работы после окончания вуза пришлась так называемая «перестройка». Хотя Горбачев пришел к власти в 1985 году, «перестройка» понеслась вскачь только с 1987 г. (до этого в ходу были лишь горбачевская антиалкогольная кампания и болтовня про «ускорение»).
Для меня о подлинном пришествии перестройки в 1987 голу поведали два знамения – большое и малое. Первое – это посадка восемнадцатилетнего немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади. Второе – это то, что в неоновой вывеске «Парикмахерская» у нас «на районе» перестали гореть первые семь букв, и это так никто и не стал чинить. Подвергшееся ребрендингу в интригующее «…херская» данное заведение по оказанию бытовых услуг населению в таком виде простояло еще несколько лет, пока в начале 90-х по причинам экономии электроэнергии вывеску не обесточили вообще.
В целом, жить в эти годы было очень весело. Но это веселье чем-то мне напоминает веселье туриста, оказавшегося в эпицентре карибского урагана – вначале очень прикольно, а потом только и ждешь, когда же это, наконец, все закончится. Фан сперва, как говорят в народе, «нереальный» – ты выходишь на балкон, а тебя силой ветра в стенку вдавливает, а вокруг все летит, летит и в воздухе так забавно кувыркается! А потом пожинаешь последствия фана – нет электричества и, соответственно, не работают кондиционеры. По той же причине не работают и насосы, обеспечивающие водоснабжение, а потому нет ни воды в душе и кране, ни слива в унитазе. В комнате – по щиколотку натекшей под адским напором ветра дождевой воды (запертые окна и балкон ни разу не спасают – в щели все равно просачивается), а руки перед едой приходится мыть липким и сладким ромом, ибо больше не чем.
После окончания МГУ в 1988 году я попал в Институт Экономики Академии Наук СССР. Будучи ранее заведением сугубо «блатным», в годы перестройки он гостеприимно распахнул свои двери для молодых специалистов «с улицы», подобных мне. Ветры перемен сносили и прежде выстроенные иерархические перегородки. Так, я, например, был «накоротке» знаком с директором института – тогдашним небожителем академиком Абалкиным. Как известно, во всех советских учреждениях единственным чистым туалетом, который регулярно намывали, был туалет, расположенный рядом с кабинетом директора. Поэтому, если было в лом пользоваться обычным туалетом на своем этаже, где туалет – это не унитаз, а, скорее, пространство вольного анального творчества, начинающееся прямо от двери, то можно было попробовать рискнуть сходить в директорский. Если раньше такие вольности определенно не приветствовались, то наступившие «либерте, эгалите и фратерните» ломали заскорузлые номенклатурные привилегии и вековую сортирную сословность. Я подчеркнуто громко и жизнерадостно здоровался с Абалкиным прямо у писсуара, на что тот заметно хмурился, но открытых замечаний мне, типа какого хрена я сюда повадился, а не хожу, как и все, в туалет при людской, все-таки не делал. Видимо, брали свое пресловутые perestroika и glasnost’.
Академическая жизнь была определенно хороша – два так называемых «присутственных» дня в неделю (вторник и четверг), когда нужно было отсидеть на работе где-то с 11.00 до 17.00 в режиме непрерывного чаепития. А остальное – «библиотечные дни», где факт твоего присутствия или отсутствия в библиотеке, понятно, никто и никак не контролировал. Установленным KPI для молодого сотрудника были две публикации в год. Причем, в зачет шли публикации в местном институтском сборнике, выходившем на напоминавшем подпольную революционную типографию ротапринте тиражом в 100 экземпляров. Не самый обременительный, мягко скажем, таргет. А, вообще, из 600 сотрудников (вдумайтесь в эту цифру – шестисот!) Института Экономики, наукой в смысле наукой занимались, наверное, человек пятнадцать (из их числа, кстати, потом выросли и некоторые нынешние светила – Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ, и Владимир Мау, ректор РАНХиГС). Остальные же имели, так сказать, «образ жизни» и, надо признать, образ жизни более чем неплохой.
Академическая общественность, да и советская интеллигенция в целом, взалкавшая новой жизни, видимо, полагала, что эта новая жизнь при прежних трудозатратах будет приносить больший доход. Также предполагалось, что будет монетизирована вынутая из кармана фига, и некий новый пока никак неотрефлексированный работодатель будет только приплачивать за дополнительный градус критичности и за более энергичное покусывание кормящей руки. Мало кому тогда приходило в голову, что если социализм требовал лояльности формальной (главное, шум не создавай), то капитализм требует лизать не только глубоко, но и, главное, искренне – так сказать, с огоньком-с.
Я, как и большинство молодых образованных людей того времени, был «на стороне будущего» – ратовал за «свободный рынок», «демократию», «роспуск Советской империи», и т.п. Сейчас все, конечно, крепки задним умом, и понимают, что «свободный рынок» и «демократия» – это абстракции, которые работают только в контексте заданного бенчмарка (то есть, «по сравнению с чем»). Тогда же это были символы веры, и никто особо не задумывался, что реальными агентами рынка станут не прискакавшие неизвестно откуда благородные и великодушные рыцари свободного предпринимательства, а вылезшие из подсобок хамоватые мордатики теневой экономики.
Примерно также и с империей. Вот, казалось бы, разоружимся, саморазоблачимся и станем приятны и себе, и людям. Но получилось как с римским ветераном-легионером. Пока он в панцире и шлеме, то вполне себе еще импозантный крепкий старик с огнем в глазах и мощной статью. Как только он их снимает, то перед нами предстает совсем не благородный зрелый муж, предающийся мирным трудам, а согбенный жалкий бомж в сгнившей под панцирем до рубища рваной тунике, давшей приют многочисленным насекомым. Так пусть уж лучше в имперском плаще, панцире и шлеме пока походит.
Можно, конечно, придумывать себе историю в сослагательном наклонении, размышляя о том, чтобы было бы, если бы у нас нашелся свой Дэн Сяопин, а не три подряд «живых трупа», балабол-герострат и редкостный уральский слон в посудной лавке. Но, во-первых, люди воспринимают лидеров не «вообще», а по сравнению с предшественниками. И то, что Горбачева не водят под руки, и он может оторваться от бумажки, когда говорит, вызывало поначалу большой энтузиазм. То же самое можно сказать и про Ельцина – если Горбачев был вообще не в состоянии принимать решения, то Ельцин их принимал. Авантюрные, невыверенные, нашептанные сиюминутными фаворитами, забытые на второй день после их объявления – но решения.
Во-вторых, нельзя забывать о том, что в 1991 году режим никто не вышел защищать. То есть, вообще никто. Историю сделали те всего пятьдесят – сто тысяч людей, кто собрался у Белого Дома. А остальные триста миллионов советских граждан сидели у телевизоров и обсуждали на кухнях происходящее – кто-то одобрительно, кто-то нет. Для сравнения, режим Мадуро в Венесуэле (чем бы там потом дело ни кончилось) сумел мобилизовать своих активных сторонников, которые числом и энергией смогли приблизительно сравняться с его противниками. Так что режим «мытьем и катаньем» пока держится. А ситуация в Венесуэле сейчас максимально напоминает то, что было в СССР в 1990-1991 годах – абсолютно пустые полки магазинов и восприятие власти как откровенно «маразматической» значительной частью населения.
Но все это ретроспективные рефлексии. А тогда в августе 1991 года, казалось, что мы вступаем в какую-то невиданную светлую эру, где России будет уготована совершенно особая судьба и миссия (кстати, как я прочитал, такие же чувства переполняли людей и в феврале 1917-го). Всем еще только предстояло вытащить свои жребии в грядущей борхесовской «вавилонской лотерее» – кому от веселого и пройдошного Меркурия, кому от убойного «чисто конкретного» братковского Марса, а кому от мрачного Аида «черных риелторов».
Глава 3. Спасибо Соросу за наше счастливое детство!
На содержании у богатого старика
Наиболее «лихую» часть «лихих 90-х» – с 1991 по 1997 год – я провел за границей на содержании у богатого старика Сороса. По нынешним временам подобный каминг-аут примерно равносилен, как если бы кто-то в советское время ни с того ни с сего взял, да и указал в анкете, что в годы войны жил на оккупированной территории и вступал в беспорядочные связи с военнослужащими Вермахта, будучи при этом в прошлой жизни собкором сельской многотиражки «Красное вымя».
Что могу сказать в свое оправдание? Во-первых, Сорос был тогда еще совсем не стариком, а подтянутым шестидесятилетним джентльменом (если дескриптор «джентльмен» можно, конечно, употреблять по отношению к Соросу), пружинисто перемещавшимся и игравшим в большой теннис. Соответственно, от ярлыка содержанца дряхлого дедушки я решительным образом открещиваюсь.
Во-вторых, в финансируемых им образовательных структурах в те годы не было еще прямой идеологической накачки, поскольку первая волна смены режимов 1989-91 гг. уже завершилась, а до второй волны, начавшейся с отстранения Милошевича в Сербии в 2000 году, было еще весьма далеко. Сорос тогда почивал на лаврах, представляя себя в качестве эдакого демиурга, скупившего на корню всю восточноевропейскую интеллигенцию на рубеже 80-х и 90-х и обеспечившего тем самым произошедшие перемены. В соросовском Центрально-Европейском Университете, где я учился, в качестве обязательного чтения изучали опус Фукуямы «Конец истории». Однако, справедливости ради, должен отметить, что критика этого опуса в студенческих рефератах и эссе совершенно не возбранялась.
В-третьих, в России Фонд Сороса был «мать сыра земля» всему когда-то обильно взошедшему и по сю пору бурно колосящемуся. По сути, вся Высшая школа экономики этно-культурно родом из Фонда Сороса («культурно» в смысле, что ее бессменный ректор на стыке 80-х и 90-х был директором фонда «Культурная инициатива», первой российской инкарнации соровского фонда «Открытое общество»).
Междусобойчик «Открытого общества»
Сорос всю жизнь носился с идеей «открытого общества», которую позаимствовал у известного философа Карла Поппера во время своих недолгих занятий философией в юности (потом победила тяга к обогащению). Вкратце, в обществе должны быть свободный обмен информацией и конкуренция идей, открытость, плюрализм, и т.п. В общем, как говорится, все только за.
Другое дело, что в силу этнического бэкграунда Сорос по большей части доверял только своим (что является общечеловеческой нормой: армяне предпочитают иметь дела с армянами, чеченцы – с чеченцами, и так далее). Поэтому при всем разнообразии российских городов, где были представлены отделения Фонда Сороса, они со всей неизбежностью в изрядном количестве случае приобретали черты моноэтничных междусобойчиков.
Сложившийся междусобойчик «таки все свои» под громким названием «Открытое общество» был еще тот оксюморон. Когда в 1991 году я пришел в фонд «Культурная инициатива», чтобы уточнить про учебные программы в только что открывшемся Центрально-Европейском Университете (инфа у меня была железная – объявление своими глазами прочитал на информационном стенде Института Экономики Академии Наук, где тогда работал), мне там на голубом глазу говорили, что понятия не имеют, о чем я таком спрашиваю. Лишь приперев сотрудников фонда к стенке, удалось получить детали. Понятно, что нужно было своих знакомых в первую очередь пропихнуть. А зачем, таки спрашивается, усиливать конкуренцию? Как говорится, к вопросу о свободном обмене информацией в «открытом обществе».
К чести Сороса нужно отметить, что он слегка выправил ситуацию в российском отделении своего Фонда и даже провел небольшие кадровые чистки. Ему приписывают следующие слова: «Я хотел создать открытое общество, а они сделали из него русскую мафию». Информация о финансируемых Соросом учебных программах и программах научного обмена стала поступать получше, хотя этносостав фонда не то чтобы уж очень сильно поменялся.
Наличие еврейской крови исключает меня из числа антисемитов. То, о чем я пишу – это «человеческое, слишком человеческое». И оно присуще всем сплоченным малым народам с амбициями. Так, моей знакомой девушке-еврейке удалось поработать в одной московской бизнес-школе, где на тот момент всем рулили армяне. И я от нее понаслушался об армянах примерно того же, что русские обычно говорят о евреях: «Все под себя подмяли, сплошной междусобойчик, внятной инфы ни о чем нет, своих середнячков пропихивают, а меня талантливую зажимают и карьере хода не дают». Далее по тексту.
Впрочем, армяне сами про себя говорят, что «армяне – это такие евреи с дисконтом». Причина дисконта – те вершины, которые удалось занять в мировом медийно-коммуникационном пространстве. Единственное внятное visibility армян в актуальном международном хайп-континууме – это, по сути, вольтова дуга, двумя электродами которой являются твиты Симоньян и жопа Кардашьян. У евреев, понятно, чуток побогаче. Ну и с боди-позитивом в задней проекции тоже вроде не подкачали.
В завершение пассажа краткое резюме по Соросу. Чтобы он из себя ни представлял (про таких принято говорить «очень неоднозначная фигура»), в голодноватое время первой половины 90-х он как белок подкармливал гуманитариев, не требуя практически ничего взамен. «Кровавые шекели» не приходилось отрабатывать. За что ему от меня личное спасибо. А думал ли он про свою роль демиурга, когда белочек кормил, беличьим умом сие постфактум уже не постичь.
Что же касается «междусобойчиков», их не Сорос нам насадил. Они составляют органическую ткань нашего общества, его «культурный код». Сорос этот код просто верно набрал. Обличающие неустроенность российской жизни часто просто не могут честно отрефлексировать, что же им на самом деле не нравится. У них происходит внутреннее интуитивное отторжение климата, стиля жизни и культурного кода, а они делают когнитивную ошибку и переводят стрелки на власть. На самом же деле, российская власть – это модератор для мириадов находящихся в полуконфликтных отношениях эгоистичных амеб-междусобойчиков. Пока у нас будут междусобойчики как способ жизни, будет у нас и царь-решала. С учетом культурной специфики, единственная реалистичная альтернатива этому – броуновское движение олигархов с соответствующими последствиями для общества. Примерно то, что было у нас в 90-х, и что сейчас происходит на Украине. Я имею в виду реальную Украину, а не ту телевизионную, которой у нас маленьких детей пугают.
Прага: сияющий град на холмах
В сентябре 1991 года вскоре после так называемого «августовского путча» я отбыл на учебу в магистратуру в Прагу, в соросовский Central European University. Мой отъезд за границу по времени совпал с фактическим завершением советского проекта (де юре он закрылся в декабре этого года с подписанием Беловежских соглашений). Осень 1991 года была у нас самым противным межвременьем – не горели фонари, не вывозились помойки, в длинном подземном переходе у метро «Пушкинская» стояли лужи мочи, и горками лежала шелуха от «семок».
Тогдашний переезд на поезде через пограничный переход Чоп лучше всего описывался заезженной до расхожей метафоры строчкой из Арсения Тарковского: «из тени в свет перелетая». На одной стороне границы – тьма египетская (станционные фонари не горят) и злые, кислые физиономии наших (в смысле уже полунезалежных) погранцов и таможенников, на другой – добротные пивные морды чешской полиции и, о чудо, поистине бриллиантовое – по крайней мере, как мне тогда показалось – сияние станционного освещения. А дальше, как отъехали от погранперехода, вообще началась прямо какая-то детская сказка – непуганые косули и зайчики прямо к железнодорожному полотну подбегают.
Чехия – вообще, волшебная страна, единственным недостатком которой является то, что ее населяют чехи. В 1620 году в катастрофичной битве на Белой горе целиком полегло все чешское дворянство. После чего произошло – ну, как бы это аккуратно сказать – некое опрощение национально-культурной жизни.
В такой стране от народа ждешь как-то больше, а чехи со своим незатейливым пивным прагматизмом, жалкой пародией на немецкое трудолюбие, общей приземленностью и занудностью, лишь изредка перемежаемыми сортирным швейковским юморком, находятся в полном диссонансе с божественной красоты волшебным пейзажем, где на высоких холмах стоят прекрасные замки, в городской черте летают фазаны, бегают зайцы и ежики, и цветут с марта по июнь меняющимся дивным разноцветьем самые разнообразные деревья и кустарники. Причем, Чехия – теплая страна, где вызревают абрикосы и виноград, а снег и мороз зимой – скорее, редкое исключение, чем правило. Сюда бы лучше итальянцев. Или, на худой конец, прошедших огранку всеми музами австрийцев.
Но, сейчас все живут, где живут, и так, как им живется. Большие проекты, как то онемечивание чехов в ранней фазе Австрийской Империи, больше не на повестке дня. В тренде толерантность и мультикультурализм. Но если кто-то смотрел фильм Феллини «Казанова», то наибольшим личным унижением для рафинированного героя-любовника было провести свои последние годы среди чехов.
Уже много-много лет кампус соросовского Центрально-Европейского Университета (ЦЕУ/CEU) находится в Будапеште, где местное национал-популистское правительство ожесточенно, но пока не до конца успешно борется с этим трояно-конским даром своего бывшего соотечественника (Сорос родом из венгерских евреев). Первый же кампус ЦЕУ был основан Соросом в Праге, где просуществовал порядка пяти лет до переезда в Венгрию. В 1991 году мы стали первым призывом, на котором была обкатана модель соросовского образования.

