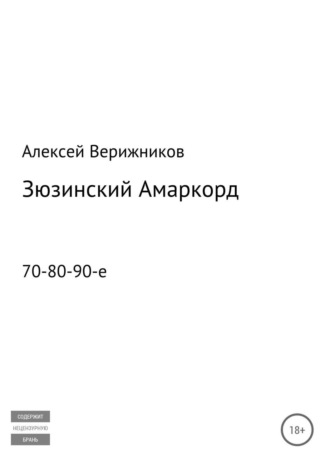 полная версия
полная версияЗюзинский Амаркорд
В 1941 году дед добровольцем ушел на фронт. Прошел всю войну – от старшины, замкомандира роты, до капитана, замкомандира полка. Воевал и пехотинцем, и танкистом. Был несколько раз тяжело ранен. Три раза горел в танке. Какого-то выдающегося иконостаса наград у деда не было – видимо, как и большинство людей на фронте, он был «выживальщиком», а не «адреналинщиком». Был награжден медалью «За оборону Москвы» и Орденом Отечественной войны I степени.
Сейчас все наградные листы за ордена выложены в интернет. Можно почитать, кто и за что их получил. В наградном листе деда было указано, что он во главе своего танкового батальона ворвался на узловую станцию в Восточной Пруссии. Отразил четыре немецких танковых контратаки. Будучи раненым, не выходил из боя и продолжал командовать своим подразделением.
Дед удачно получил ранение и орден под самый конец войны – в марте 1945 года. До конца войны можно было героем посидеть в медсанбате (обиднее всего погибать именно в последний месяц боевых действий). Но что-либо духоподъемное «про войну» дед нам наотрез рассказывать отказывался – что для человека несколько раз горевшего в танке, наверное, и понятно – и до конца жизни во сне громко кричал от ужаса, когда ему снилась война.
Выйдя на пенсию в 60-х, дед вернулся к своим крестьянским корням и всецело посвятил себя садоводству. Все деревья и кустарники вокруг нашей пятиэтажки – как фруктовые, так и декоративные – были посажены им. А по вечерам смотрел по телевизору советские политические ток-шоу, где локальные сыны Сиона – зануда Зорин и живчик Бовин – выводили на чистую воду международный сионизм.
Наличие во мне двух кровей – русско-крестьянской и торгово-еврейской – привело к изрядной противоречивости моей натуры. То горят в моей душе огненными скрижалями пламенные словеса из «Бесогон ТВ», то вдруг становятся близки и понятны резоны того самого Каца, который предлагал сдаться.
Вообще, кровь – она сильная штука. Вот, вполне себе натурный эксперимент. В нашей многочисленной родне есть три ветви: русские+евреи, русские+татары и русские+марийцы (финно-угорский народ). Все в чем-то преуспели, но во всей родне лишь у моего папы и меня фиксировалась выраженная тяга к книгам и, вообще, печатному слову.
Папу всю жизнь четко и однозначно принимали за еврея несмотря на что ни на есть русскую дедовскую фамилию. В старости его иногда путали с балетмейстером Григоровичем, а в молодости один бдительный советский гражданин принял отца за разведчика-предателя Пеньковского, высадил из трамвая и сдал на руки наряду милиции для выяснения личности.
Мама с ее крестьянской сметкой (ее родители – выходцы из крестьян Липецкой области) наставляла вечно витающего в облаках книжности папу словами, относящимися по большей части к категории непечатных. В этом симбиозе печати и непечатности и проходило, по большей части, мое семейное воспитание.
Что же касается школы, то, наряду с армией и (опционально) тюрьмой, она являлась ключевым социальным институтом, где ковался и проходил огранку советский гражданин. Вот что интересно: школа нашим гражданам в плохих снах продолжает сниться до конца жизни, а вуз, где вроде тоже чему-то учили и как-то воспитывали, – нет.
Советская и предшествовавшая ей российская дореволюционная школа строились по прусской модели. А прусская модель зиждилась на очень простом предположении – вымуштрованный еще в школе грамотный солдат воюет лучше, чем неграмотный разгильдяй. В связи с этим, советская школа всегда была пропитана особой полуказарменной атмосферой, а поступление в вуз казалось своего рода «дембелем» – больше не носишь форму, не вытягиваешься перед учителями и не ходишь по струночке.
Но свой функционал советская школа отрабатывала. Даже двоечники были функционально грамотны (хотя двоечники по определению никогда не делали домашних заданий, систематический прогул ими занятий был, тем не менее, тогда просто не мыслим). А тем, кто хотел учиться, знания, достаточные для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, тоже давали.
Другое дело, насколько церемонились или нет с так называемой «трепетной и ранимой личностью школьника». Например, упомянутый выше учитель математики (тот, который был спущен с лестницы), ко всем ученикам обращался исключительно как «мразь», «подлец» и «скотина несчастная». Видимо, в процессе обучения преимущественно имея дело со взращенными безоблачным советским детством и портвейном счастливыми скотами, он пытался обратить их рассеянное подростковое внимание и на возможность скорбной скотской юдоли. Наш математик любил кидаться в учеников линейками, мелом и мокрыми тряпками, которыми вытирали доску. А также, вышвыривая ученика из класса, запускать ему вслед стулом, на котором тот сидел. Если бы он был физиком, то, наверное, мог бы и прикинуть, что действие равно противодействию, и избежал бы спуска с лестницы неуспевающим, но проактивным переростком в описанном выше сюжете.
А учил-то он хорошо. Умел «разжевывать» математику так, что даже мне, стопроцентному гуманитарию, все было более-менее понятно. Данных им знаний было достаточно для твердой пятерки по школьной программе и дальнейшей сдачи без предварительных натаскиваний с репетитором вступительного экзамена в МГУ по математике на достаточном для поступления уровне. Наш класс был единственным, где учителя-математика не били на школьном выпускном вечере, что к моменту выпуска нашего класса было уже сложившейся доброй школьной традицией.
В целом, советская школа была компенсаторным механизмом для обеспечения «равенства возможностей» (из 36 выпускников нашего класса в вузы поступили 32) на фоне вездесущего блата позднего СССР и определенного социального неравенства. Хотя последнее, положа руку на сердце, было не то чтобы уж таким зашкаливающим.
Экономика домохозяйства
В те времена «на районе» все жили примерно одинаково («привилегированными» считались лишь некоторые московские квартальчики с квартирами улучшенной планировки и отдельные дома в центре). Когда я бывал в гостях у одноклассников, я видел в их квартирах примерно то же самое, что и у нас – телевизор (по большей части, черно-белый), холодильник, ковры на стенах, «стенку» мебели в гостиной, «горки» сервизов в буфете, энное количество хрусталя, а также радиолу (приемник для прослушивания «вражеских голосов» + проигрыватель виниловых дисков) и переносной кассетный магнитофон. По благосостоянию в нашем классе значимо выделялись только две семьи – в одной из них папа был управленцем-строителем, а в другой – кандидатом наук, постоянно мотавшимся за границу по программе «Интеркосмос».
Мой же папа был ведущим инженером, а мама – старшим инженером, что в зарплатном эквиваленте равнялось, соответственно, 180 и 150 советским рублям. Вообще, если человек не защищал диссертацию, то вся инженерная карьера делилась лишь на три грэйда – просто инженер, старший инженер и ведущий инженер с зарплатными ставками в 120, 150 и 180 рублей. На заводах могли платить и больше, но в НИИ это был потолок.
Можно ли было жить на эти деньги? В принципе, да. Мы каждый год ездили отдыхать на море (иногда я за лето ездил два раза – один раз с мамой, один раз с папой), покупались те самые ковры и «хрусталя», а маме даже удалось отложить «на книжку» 2000 рублей (годовая зарплата инженера), которые затем «сгорели» в результате инфляции начала 90-х. Но при этом была бесконечная экономия «на спичках» из серии «уходя гасите свет». В целом, в социологических терминах это можно было назвать жизнью low middle class.
Московские окраинные магазины в те годы выглядели сносно – не современный супермаркет, конечно же, но и не сорокинская «православная лавка», где выбирают только из двух. В продаже всегда было 4-5 видов вареной колбасы (до середины 70-х годов она была вполне съедобной – это уже позже пошли задания партии на «оптимизацию» ГОСТов за счет крахмала, костной муки и целлюлозы), 3-4 вида жирненькой полукопченой колбасы (из-за своей жирности она больше проходила по разряду «закусона», нежели еды), 3-4 вида сыра. Копченая «сухая» колбаса считалась «дефицитом» и в свободную продажу не поступала.
В мясных отделах всегда было мясо. Но только двух типов – «суповое» (кость с кусками мяса по периметру для варки наваристых супов) и «котлетное» (мясо с большим количеством жил, которое нужно прокручивать через мясорубку, чтобы добиться его базовой прожевываемости). Мяса, которое можно было просто порезать кусками и бросить на сковородку, в свободной продаже, увы, не было.
Особо уважаемой считалась фигура мясника, который швырял завернутый в бумагу кусок мяса на весы и умудрялся назвать цену еще до того, как стрелка весов останавливалась, продолжая судорожно метаться из стороны в сторону. При этом никогда не ошибался в пользу покупателя. Вот настоящий математический гений! А вы: «Перельман, Перельман».
В рыбных отделах лежали на прилавках вполне съедобные треска и пучеглазая «ледяная» рыба, не говоря уже о менее съедобных хеке и минтае. «Ледяная» стоила всего 60 копеек за килограмм (сейчас в «Азбуке вкуса» она стоит каких-то нелепых денег). Часто продавались не вызывавшие большого энтузиазма у населения кальмары и креветки. Советский народ тогда их еще, видимо, не распробовал и потому брезговал (говорят, аналогичная ситуация была с крабами в 50-х – в те годы их не особо брали, и относились они к категории дешевой студенческой закуски).
Кроме продовольственных магазинов, были еще многочисленные кулинарии, где продавались, в целом не вызывающие радикального отторжения мясные и рыбные полуфабрикаты для любителей готовки на скорую руку.
Для любителей же «дефицита» – икры, копченой колбасы, осетрины, вырезки, языка – вопреки сложившемуся стереотипу, существовали не только номенклатурные тропы. Во-первых, почти в каждой советской семье того времени был такой ценный ресурс, как ветеран войны. А им всем по советским «престольным» праздникам полагался ветеранский «праздничный заказ» – набор чуть более премиальных для советского человека продуктов (гречка, тушенка, шпроты, сайра, и т.д.), куда подбоченившимся королем в тех или иных пропорциях входил и вышеупомянутый «дефицит».
Во-вторых, можно было подсуетиться по профсоюзной линии, куда брали без особых фильтров всех проявляющих социальную активность советских граждан. Так, моя мама была низовым профсоюзным активистом в своем огромном оборонном НИИ, где аж шесть тысяч человек работало. В число ее профсоюзных обязанностей входил контроль за институтской столовой и буфетом, а контролеру, как понимаете, грех не взять вне очереди самых лучших продуктов (естественно, предварительно оплатив их по кассе).
Кроме того, в кооперации с профсоюзной организацией всего района, где располагался их НИИ, осуществлялся контроль за магазинами, торговавшими одеждой и обувью. И опять, профсоюзные активисты не оставались в накладе, разжившись вне очереди дефицитными финскими сапогами или югославскими костюмами.
Далее мама, уже в качестве индивидуального предпринимательского почина, шла к магазинам «Березка» и продавала возле них на улице с рук избыток раздобытого шмоточного дефицита за так называемые «чеки Внешпосылторга» («Березки» торговали импортными товарами за «чеки», являвшимися в СССР, по сути, параллельной валютой, а получать эти чеки имели право советские граждане, поработавшие за границей и сдавшие государству в обмен на чеки заработанную там валюту). Ассортимент в «Березках» был намного лучше, чем в самых продвинутых советских магазинах, доступных для простых смертных. Но могло не быть какой-то модели или размера. Поэтому сбыть с рук у «Березки» за чеки, к примеру, финские сапоги или немецкие туфли, купленные на «профсоюзном рейде» в обычном магазине, было вполне реально.
Дополнительного большого навара эти мамины чековые шахер-махеры в семью не приносили. Но, во-первых, они давали возможность одеваться из «Березки», что по тем временам было верхом советского шика. А, во-вторых, позволяли немного сэкономить – если бы те же джинсы пришлось покупать на черном рынке у спекулянтов, то за них нужно было выложить целую месячную зарплату инженера. В «Березке» же импортные джинсы стоили где-то 70-80 чеков.
Что интересно, мама панически боялась долларов, и до 1992 года отказывалась даже их в руки брать, опасаясь, что ей за это «статья полагается». Когда же я ей пытался объяснить, что за чеки «Березки» ей светила бы ровно та же самая статья, поскольку никакого легитимного права обладания этими чеками у нее не было, мама активно изображала непонимание.
Тем не менее, все эти до некоторой степени рискованные манипуляции с «дефицитом» позволяли по принципу «ты мне, я тебе» вписываться в систему блата, который был главным смыслообразующим элементом позднесоветского общества.
Блат и вертикальная мобильность
Как сейчас все говорят о засорившихся каналах вертикальной мобильности, так в те годы все говорили о «блате». «Блат» был на всё – от приобретения копченой колбасы, до поступления в вузы. В старших классах школы все шушукались, у кого какой блат в институтах (основное тогдашнее название для вузов, сейчас поголовно переименованных в университеты). И это сильно давило на мозги, поскольку в нашей семье блат на колбасу был, а, вот, на институтских кафедрах никаких близких знакомых не было.
У меня даже возникли капитулянтские настроения – поступать во второразрядный технический вуз, где был конкурс полтора-два человека на место, потому что, мол, «везде блат, а без блата в хорошее место все равно не поступишь». То, что я по складу абсолютный гуманитарий, особо не останавливало, поскольку уже тогда вузовский диплом трактовался, скорее, как справка об успешно пройденной социализации, нежели чем реальное подтверждение приобретенных за годы учебы знаний и умений.
Когда наш директор на выпускном вечере отловил мою маму и спросил ее, куда же собирается поступать такой видный школьный отличник как я, то был откровенно озадачен невысокостью полета моей абитуриентской мечты. Будучи в благодушном настроении после обильной еды и щедрых возлияний, он сказал: «Вы потом дома там подумайте над каким-нибудь более интересным вариантом, а я уж помогу, чем смогу».
Моя мама, помимо профсоюзных дерзаний, была еще и активным членом школьного родительского комитета. На время школьных выпускных экзаменов со всех родителей собрали по 50 рублей (что по тем временам было очень значительной суммой). И не только на сам выпускной, но и после каждого экзамена школьному директору и учителям накрывали обильную «поляну». Как в фильме «Формула любви» – «врач сыт, и больному легче». А моя мама, помимо общих организационных вопросов, занималась еще подтаскиванием советских деликатесов на эту скатерть-самобранку, щедро расстеленную на ниве народного просвещения.
Что же касается нашего школьного директора, то этот более чем колоритный тип заслуживает отдельного рассказа. Будучи наполовину евреем, наполовину представителем одного из кавказских народов, он имел бурный человеческий и бизнес-темперамент и активно занимался тем, что на современном языке называется «хайпом» и «внутренним предпринимательством».
Из нашей школы не вылезало телевидение, он ней постоянно писали в газетах, а директор наш был еще и народным депутатом районного уровня, членом каких-то высоких комиссий и комитетов, занимающихся проталкиванием народного образования сопротивляющемуся учению народу.
У школы было уникальное название – «спецшкола с трудовым уклоном». Уже после поступления в МГУ мои однокурсники спрашивали друг у друга, кто какую спецшколу окончил. Один говорил – «я – английскую», другой – «я – математическую». Я же гордо вставлял – «а я – трудовую!» Коллеги понимающе кивали, поскольку «трудовая спецшкола» однозначно воспринималась как коррекционное учреждение для особо трудных подростков.
История же вопроса была в том, что те годы, как и сейчас, было модно и актуально склонять школьников к получению не высшего, а среднего профессионального образования (умных, типа, и так хватает, а кто-то и у станка стоять должен). Стремясь оседлать тренд, наш директор прямо в школе на втором этаже с помпой и телевизионными софитами открыл учебно-производственный комбинат (УПК) с многочисленными сложносочиненными станками, а наше учебному заведению было присвоено гордое и, самое главное, актуальное название – «трудовая спецшкола». Как только телевизионщики уехали, станки были заперты на ключ. Они пропылились взаперти лет пять, после чего были тихо вынесены на помойку в результате ночной спецоперации. А, вот, название школы сохранилось и продолжало приносить директору столь нужные ему имиджевые дивиденды.
Реальным же школьным УПК стало парикмахерское дело, которое вела любовница нашего директора (никаких станков, один гламур). Учились стричь мы на школьных хулиганах и двоечниках из младших классов. В школе существовала такая форма наказания – схлопотал двойку или набедокурил – шуруй, сцуко, стричься к начинающим неумехам, а потом своим причесоном пугай ворон и родителей. Один раз пришлось стричь сильно ароматного маленького мальчика. Оказывается, что он развлекался тем, что вывинтив крышку в мусоропроводе, катался в нем со второго этажа на первый, приземляясь в мягкой куче гниющих пищевых отходов. Можно однако было запатентовать аттракцион как «русские горки».
Директор, помимо того, что школа давала ему возможность любить и купаться в лучах славы, использовал ее и как инструмент извлечения «левого» дохода, что сейчас на корпоративным языке именуют «внутренним предпринимательством».
Неформальная платная услуга называлась «помочь подтянуть средний балл аттестата». Советская средняя школа была устроена следующим образом. После восьмого класса избавлялись в принудительном порядке от балласта двоечников и троечников, направив их осваивать рабочие специальности в ПТУ, а среди учеников старших девятого и десятого классов разворачивалась гонка за средний балл в аттестате. Школьный средний балл тогда учитывался при поступлении в вузы, плюсуясь к оценкам на вступительных экзаменах, а недобрать полбалла при поступлении было самой обидной из возможных ситуаций.
В девятом-десятом классах в нашей школе появлялись новые ученики совсем из других районов, которые добирались до школы не пешком, а на общественном транспорте (подвоз дорогих чад до школы на машине тогда еще не практиковался). К этим новеньким учителя волшебным образом относились чуть менее строго, и их средний балл в аттестате возрастал на те самые критически значимые полбалла. Запредельного очковтирательства тут не было. Эта не та история, когда бездаря-троечника искусственно выводили в отличники. В принципе, ребята были относительно толковые. При обычном раскладе им, скорее всего, светил бы средний балл где-то в районе 4.3 по пятибалльной шкале. А при предоставленном им директором «режиме наибольшего благоприятствования», они оканчивали школу со средним баллом в 4.8, который по законам математики при поступлении округлялся до 5.0.
Поговаривали, что стоил этот «режим наибольшего благоприятствования» 1000 советских рублей (примерно 6 месячных зарплат инженера). Я со свечкой, понятно, при сделке не стоял. Поэтому железно поручиться за точность названной суммы не могу. Но факт наличия «блатных» в выпускных классах, находящихся под крылом у директора нашей школы, визуально был более чем очевиден.
Кроме того, чтобы все «блатные» на выпускных экзаменах чувствовали себя комфортно, в нашей школе, благодаря директорским связям, на них никогда не было комиссии из РОНО (районный отдел народного образования). При этом, по причине гарантированного отсутствия комиссии из РОНО на выпускных, в школе никогда не выдавались и золотые медали. По правилам того времени, РОНО должно было на месте фиксировать факт, что медалисты в самом деле подлинные, а не «нарисованные».
В нашем выпуске было аж четыре настоящих (в смысле не «блатных») круглых отличника, включая меня, но медалей, естественно, никто не получил. Весь выпускной год директор убаюкивал нас обещанием, что эквивалентом медали будут некие «красные аттестаты». Когда же на выпускном аттестаты оказались обычного цвета, он в благодушном подпитии предложил нам оперативно спуститься вниз в кабинет труда и самостоятельно покрасить аттестаты в нужный цвет, опираясь на имеющиеся в наличии лакокрасочные материалы.
Как «эффективный менеджер», наш директор любил использовать учеников своей школы в качестве бесплатной рабочей силы при неформальном обмене услугами с расположенными поблизости организациями. Так, мы каждую зиму безвозмездно гребли снег на Конноспортивном комплексе Битца за смутное обещание, что нам якобы будут выданы бесплатные абонементы в тамошний бассейн. По факту, бесплатно в этот бассейн ходили директор и его ближайшее окружение из числа учителей.
Были у нашего директора и свои некоммерческие фантазии, а также своеобразные ритуалы. Например, каждый год ученики выпускного десятого класса 1 сентября тащили по лестнице тяжеленный рояль с первого этажа на пятый, а 25 мая на последний звонок – в обратном направлении, с пятого на первый. Тот еще, поверьте, экзерсис.
В общем, «матерый человечище» – веселый и доброкозненный – был наш директор. Но мне он реально помог. На семейном совете мы решили, что я попробую поступать на экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова на отделение политэкономии – полугуманитарное направление, готовящее преимущественно советских пропагандистов-талмудистов.
Главной заковыкой было то, что экономический факультет МГУ, наряду с историческим, философским и юридическим, в те годы носил название «идеологического», что означало, что в комплект документов при поступлении входили рекомендации от райкома комсомола и райкома партии.
Получить эти бумажки, в принципе, можно было и без «блата» – достаточно было хороших школьных оценок, направления от школы и красивой рекомендации школьной комсомольской организации. Но нужно было неделями обивать пороги – сначала сдать все по форме (как у нас водится, могли и завернуть на второй круг, если абзац не так был оформлен, или запятая не там стояла), а затем неопределенно долго ждать рассмотрения и утверждения.
У меня же, в связи с поздним решением, куда буду поступать, в запасе было всего три дня на подачу документов и неделя до первого вступительного экзамена. Так вот, благодаря звонкам директора «куда надо», мне рекомендацию и райкома комсомола, и райкома партии сделали в один день! И там, и там я провел не более часа – полутора, и в тот же самый день отвез в МГУ весь комплект документов на поступление. Кроме того, в качестве «шефской помощи» и частичной компенсации за невыданную медаль, директор мне в один день оформил школьные грамоты по всем четырем предметам, по которым предстояло сдавать вступительные экзамены.
На экзаменах по ключевым предметам – обществоведению и истории – я получил пятерки. Если бы у меня была медаль, для поступления хватило бы пятерки по обществоведению, – первому главному экзамену – и, таким образом, остальные три экзамена сдавать бы не пришлось (сдавших «на пять» обществоведение медалистов зачисляли сразу вне конкурса). С другой стороны, наличие четырех грамот по всем четырем сдаваемым предметам сыграло решающую роль. Общее количество баллов, которое я набрал, было «на грани», и при таком балле зачисляли только тех, у кого были грамоты по всем предметам. В связи с этим, к нашему директору я тогда испытал очень двойственные чувства.
Но, главное, я поступил, что, конечно же, было маленьким чудом. В те годы для поступления в МГУ все – и «блатные», и обычные граждане – как минимум год, а то и два занимались с репетиторами. Поступление-импровизация с принятием решения, куда поступать за неделю до первого экзамена, при конкурсе десять человек на место было, конечно же, вне всякого канона. Небеса ко мне тогда оказались благосклонны. Но и тот факт, что окраинная школа «на районе» с неформатной «трудовой» специализацией давала знания, достаточные для поступления в МГУ «с кондачка», говорит, в общем-то, о многом.
После моего успешного поступления директор вызвал маму в школу с намеком, что «хорошо бы рассчитаться». Мама хотела отойти бутылкой французского коньяка (в те времена он стоил треть зарплаты инженера), на что ухмыляющийся директор сказал: «Таки дешево цените своего сына». В ответ мама вспылила, что «сына-то она как раз ценит дорого» и, хлопнув дверью, вышла. После этого при случайной встрече на улице они не здоровались и делали вид, что друг друга не знают.
Был, конечно, небольшой осадочек после всей этой истории. Но сугубо внакладе наш директор тоже, как водится, не остался. Мое поступление определенно добавило ему хайпа. Хотя из нашей школы всегда был высокий процент поступления в вузы (в среднем – 70%, из нашего класса – аж 90%), в МГУ «зюзинские» все же не каждый год поступали.
Директора же ждала следующая дальнейшая судьба. В возрасте «ребра и беса» он решил развестись с женой и жениться на своей любовнице-парикмахерше. А обиженная жена, которая, естественно, была в курсе всех его многочисленных шахер-махеров, пошла в райком партии и, что называется, «сдала с потрохами». Благодаря связям, нашего директора не посадили, а лишь отстранили от руководства школой. Он отделался многочисленными выговорами и двухлетней опалой. А потом поставили на директорство в только что открывшуюся новую школу в другом районе. Как говорится, «завыдовать будэм!» Копите, однако, свой социальный капитал.

