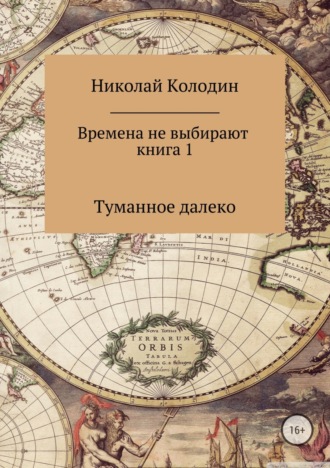 полная версия
полная версияВремена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
– Иди ты!
– Честно, просто по дорожке рядом бежит тренер, ты по слуху ориентируешься на него, если же, случается, начнешь сходить с дорожки, он поправит прямо на бегу. У меня даже грамоты по бегу были…
Среднюю школу закончил успешно и стал поступать на историко-филологический факультет. Экзамены, в том числе и вступительные, а также зачеты и контрольные сдавал следующим образом: протыкал в толстой тетради по системе Брайля шилом буквы, затем, оставшись один на один с преподавателем, читал, грубо выражаясь, «по натыканному», указывая и сложные написания в орфографии, и знаки препинания. Жажда полноценной жизни оказалась столь велика, что все пять лет не имел он ни одной четверки, только отличные оценки. Мы в том помогали, как могли…
Может показаться странным, но нас, молодых, безнадежно холостых и убежденно свободных, особенно заботила проблема его женитьбы. Мы занялись этим настолько серьезно, что уже на втором курсе подобрали ему невесту. Однокурсница из группы литераторов Наташа Потемкина, маленькая, аккуратная, красивая. Да-да, красивая, хотя, казалось бы, к чему слепому красота! Но мы думали иначе и приступили к осаде. Наташа – девушка серьезная, и для начала мы позвали её на наши чтения. Добрая душой, Наташа откликнулась мгновенно и уже на следующий день сидела в нашем окружении и первой начала читать. Мы без конца уходили курить, задерживались специально, чтобы оставить их наедине друг с другом. Мы знали, что Валентин со своей коммуникабельностью долго не промолчит, разговорится, а это на первоначальном этапе главное, считали мы. И не ошиблись. Через пару дней они друг с другом болтали так, что мы сами себе казались лишними. В конце концов, мне поручили сделать Наташе предложение от имени Валентина. Я готовился к долгому разговору, но Наташа неожиданно согласилась сразу:
– Он мне нравится, и я согласна выйти за него.
Ложности мы создаем себе сами. Истина старая и непреходящая. Заманив Наташу в нашу компанию, мы, понятно, не сказали Валентину об истинной причине её неожиданного для него появления. А тут заявляюсь я и говорю о её согласии выйти за него. Валентин обмер, начисто лишившись своей разговорчивости. Помедлив, тихо спросил:
– А сам-то чего не делаешь ей предложения, если такая красивая.
– Еще в колхозе намекал на желание близко подружиться, она отказала, обозвав меня нахалом и бабником.
Валентин опять замолк. Я терпеливо и молча ждал продолжения. Оно последовало, но не в том ключе, на какой все мы рассчитывали. После длительной паузы он сказал, что хочет подумать и посоветоваться с матерью. Казалось бы, уж кто-кто, а Вера Михайловна приложит все силы, чтобы брак состоялся. Увы…
Наташа еще какое-то время приходила, затем перестала, а во время зимних каникул вообще уехала из Ярославля к родственникам в Баку. Итог нашей длительной подготовки: она одна, и он один.
– Почему? Может, у него не всё в порядке по мужской части, – прямо спросил я у Виктора Михайловича.
– Если бы, – грустно откликнулся он. – Я мою его в ванной. И из пены иной раз такое покажется…
– В чем же дело?
– В Вере Михайловне. Она считает, что невестка будет обижать Валю. И только при ней он может жить спокойно.
– Но она же не вечна.
– Попробуй докажи ей …
Материнская любовь… Вечная и бесконечная. Часто эгоистичная. Ну, не хочется отрывать от себя кровиночку свою. Финал неизбежно печален, драматичен и трагичен. Но об этом чуть позже.
У нас сложилась интеллектуально очень сильная группа. Сразу несколько отличников, а красный диплом один – у Валентина. Но и без работы остался он один. Слепой учитель в школе?… Только в кино. Для начала мы добились, чтобы его приняли на предприятие общества слепых в качестве надомника.
Страшный исход. Он дома один. Слушает записанную на магнитофонную ленту лекцию об экзистенциализме и клепает на черных ботиночных шнурках металлические наконечники.
Все ребята из нашего узкого круга разъехались. Я продолжал ходить к Валентину. Старался прихватить пачку свежих газет. Я ему – новости советские, а он мне – заграничные, «забугорные», подслушанные по Би-Би-Си либо «Голосу Америки». Валя стал жутким диссидентом, которому не нравилось у нас абсолютно всё, с чем я никак не мог согласиться. Меня лично многое устраивало, и вообще я горд был за свою самую свободную страну, за наши достижения в космосе и балете… Спорили отчаянно. Он мне говорит про низкую зарплату, я в ответ – про фонды общественного потребления, он мне – про слабую медицину, я – про бесплатную медпомощь…
Не без нашей помощи Зиновьевы получили к тому времени двухкомнатную квартиру на проспекте Толбухина. Сидели обычно на кухне, потому что я курил и курил много. Как он, некуривший и некурящий, выдерживал только!
Мы не отступились от главного и находили время, чтобы ходить по инстанциям, добиваясь для Вали места в школе. Пройдя все круги чиновничьего ада от районного до республиканского, вышли на Министерство образования и добились своего. Из столицы поступила команда принять меры к трудоустройству обладателя красного диплома. И место сразу нашлось. Причем в вечерней школе для таких же слепых, располагавшейся на первом этаже дома, где жили Зиновьевы теперь.
Он оказался талантливым педагогом. Стремительно за несколько лет вырос до завуча, а затем и директора той школы, сохранив за собой преподавание истории в старших классах…
Валя, обретя соответствующий статус и материальное обеспечение, полнился опытом и полнел телом. Фигура с чертами обтекаемыми стала вполне приличествовать директорской должности. А всё оттого, что поесть Валя любил, а вот сжигать полученные калории не мог, негде было. И вся физическая нагрузка заключалась в хождении по комнатам, благо квартира «трамвайчиком». Он слушал библиотечные записи в кассетах и вышагивал комнатные километры. Совсем худо стало, когда рак менее чем за год сжег мать. Она умирала в страданиях физических и нравственных, понимая, что оставляет сына одного на не очень дееспособного мужа. Виктор Михайлович к тому времени катастрофически терял зрение.
Два слепых в доме для слепых. Это видеть надо. Неизбежная неухоженность, особенно на кухне, плодила тараканов в неимоверном количестве. И не в отдельно взятой квартире, а по всему подъезду. Хозяева их не уничтожали, потому что не видели их. Я, конечно, с этой разновидностью фауны был знаком давно, но в таком количестве встретил впервые. Чувствуя полную безопасность, те бегали по кухонному столу, полу и подоконнику даже днем. Каждый свой приход я, как мог, очищал кухню от них, собирая в банку, которую плотно закрывал и, уходя, выбрасывал в мусорный бак во дворе. Но разве могли редкие мои приходы изменить ситуацию?!
– Галя, – звонил я первой своей женщине. – Ты не боишься, что тараканы сожрут Валю вместе с Лешим?
– Ой, и не говори. Я без конца таскаю отраву. Жрут паразиты, как хлеб…
– А результат?
– Дохнут. Выметаю на полный совок, тут же набегают соседские.
С Галей мы сохранили отношения почти дружеские. И неудивительно, что именно она позвонила мне, чтобы сообщить о смерти Валентина. Он умер совсем молодым, не дотянув до пятидесяти. Подвела излишняя полнота.
Сразу же подъехал к ним. В большой комнате уже стоял гроб. На кухне копошилась Галина с незнакомыми мне женщинами в черных платках.
Виктор Михайлович смотрел на меня мутными слезящимися глазами в полной прострации. Он, похоже, не очень воспринимал окружающее. Кроме одного: порвана последняя нить, связывавшая его с прошлым, оставляя с одиноким настоящим без будущего. Он бродил, спотыкаясь из большой комнаты в маленькую, тыкаясь об углы разом ставшей для него незнакомой жилплощади. И всё что-то бормотал, бормотал.
Я прислушался. Он беседовал с Валентином, укорял его:
– Ну, что ты удумал? Вон и картошки запасли на всю зиму, и луку, и чесноку. До весны проживем без забот… А ты вон что… Не дело, понимаешь, не дело…
Видеть и слышать без слез я не мог. Украдкой смахивал их. Но Галина увидела. Принесла полстакана водки.
– Выпей. Полегчает. И лучше иди домой…
Валю хоронили сумрачным, стылым зимним днем. К могиле, вырытой рядом с могилой матери, приходилось пробираться через сугробы и ограды.
Не стало нашего Гомера, и оказалось, что именно он незримо связывал нас. После его ухода никогда мы вместе уже не собирались, ни группой, ни узким кругом. Никогда.
Ванильно-шоколадный роман
На короткое время возвращаюсь в прошлое. Наши чтения с Валентином продолжались, история с неудачным сводничеством стала забываться. Продолжились и послеэкзаменационные «мытухи». Как-то так получалось, что всякий раз моей соседкой на них оказывалась двоюродная сестра Валентина Галина. Она недавно вышла замуж, родила двух девочек. Муж, трудно поверить, какой-то дипломатический работник, до приезда в Ярославль трудился в Германии. Это он привез большие виниловые диски с записями песен запрещенного Лещенко. Не Лёвы, конечно!
Худенькая блондиночка с короткой стрижкой не особенно привлекала мое внимание. Но решающим фактором стала не красота, а теснота. Телесная близость часто эффективнее духовной. Так и с нами. С каждыми посиделками близость становилась все теплее и теплее, пока не воспламенилась до невыносимости. И однажды, когда все уже стали собираться, она прошептала;
– Не уходи!
Я охотно подчинился, догадавшись о причине её решимости. В тот раз отсутствовали и Виктор Михайлович, и Вера Михайловна, а за хозяйку по их просьбе была сама Галина. Все ушли, я задержался, Валентин напротив спал, лежа поверх одеяла.
Нас словно бросило друг к другу. Мы целовались и целовались, пока горячность не дошла до точки кипения. И уже не оглядываясь на Валентина, улеглись. Я был несдержан и неопытен, поскольку подобное со мной происходило впервые, и знал только, что мужчина должен находиться сверху (что и сделал незамедлительно), а партнерша снизу. Что делать дальше, не знал, зато она знала великолепно, все-таки двух дочек не аист принес. Понимая мою неопытность, взяла и дело, и тело в свои руки. И ухнул я в яму безумной, безудержной страсти. Поскольку у меня подобное происходило впервые, я и расслабился раньше, чем она могла проникнуться мной, но, спасибо ей, виду не подала. Мне же о непременном проявлении взаимности как высшей формы контакта и мысли прийти не могло. Откуда им взяться?!
Потом мы торопливо приводили себя порядок, не глядя друг на друга, полные смущения и невзрослой стеснительности.
Расставаясь, успели договориться о встрече. Вечером она пришла в легкой белоснежной плиссированной юбочке, легком голубом свитерке с глубоким вырезом. Как говаривал классик-юморист, «вся такая воздушная и вся к поцелуям зовущая». Мы танцевали в парке ДК, пили в буфете пиво, жевали ватные бутерброды, перемежая всё это поцелуями украдкой. Иначе и не помыслить. Не то чтобы мы пуритане какие-то, нет. Просто не принято тогда было выставлять свои чувства напоказ. Это сейчас открыто целуются и обнимаются, и не только парни с девчатами. Чего стоят горячие объятья на грани истерики в спортивных состязаниях, когда здоровые мужики тискают друг друга и целуют во все открытые места.
Я, помнится, на одно из первых своих свиданий с дочкой лагерного физрука отправился с огромным букетом хризантем, выпрошенным у соседки по Чертовой лапе за полтинник. Они жили в собственном деревянном доме на Малой Пролетарской, что позади Федоровского собора. От дома до трамвая я пробирался полями позади всех Починковских и Твороговских линий, в трамвае букет прятал меж ног, но, выйдя из трамвая, вынужден был нести тот букет, как некий крест. Пространство вокруг Федоровского собора тогда сплошь в одно– реже двухэтажных деревянных домах. Улочки без какого-либо покрытия, заросшие травой, ограниченные по краям канавами. Меж канавой и домами – тропочка. Я пробирался ею, с замирающим сердцем, красной от стыда физиономией и негнущимися ногами. Одним словом, гусь в цветах. И все казалось, что за каждым полуоткрытым окном смотрели на меня осуждающие глаза толчковских обывателей. Но испытание стоило того. Едва открыв дверь и вручив букет, на глазах родителей удостоился горячего, совсем не товарищеского поцелуя. Что-то потом не срослось у меня с каштановой красавицей, но для родителей её я навсегда остался примером, и при встречах они оба непременно оказывали мне свое уважение. А отец даже, как-то подобрав меня совсем никакого у трамвайного кольца, чуть ли не на себе донес до дома на Закгейме…
После танцев мы не брели лениво по набережной Волги, как подобает отдыхающим от трудов праведных, а неслись по ней в поисках места, достаточно укромного и удобного. Мы хотели и хотели сильно. Настолько, что первый же встреченный на пути забор показался надежным приютом. А забор огораживал выход к спуску, предназначенному под котлован наземной части будущего моста через Волгу.
Спуск он и есть спуск. Едва мы спустили с себя то, что требовалось, как покатились вниз. То ли я проявил поспешность, то ли она выбрала неверную позицию, но стремительно спустились до основания и уже на ровной площадке завершили начатое. От ерзанья по траве её белоснежная юбка позеленела. Она только рукой махнула, мол, все равно темно. Хуже было то, что выбраться из будущего котлована оказалось куда тяжелей, чем спуститься. Карабкались вверх на четвереньках, уже не думая об одежде и внешнем виде. Главное, зацепиться не за что. Под руками только трава, та или скользит в руках, или вырывается с корнем.
Выбрались. Отряхнулись. Насмеялись. И захотелось повторить, да еще как захотелось! Набережная завершалась у железнодорожного моста проспектом Ленина, тогда совсем коротким, однако располагавшим весьма уютным детским парком. Самое то! Один неожиданный нюанс. На ночь парк не только закрывался наглухо, но еще и охранялся. Мы решили преодолеть препятствие со стороны глухого тупичка по левой его стороне. На что рассчитывали? На везение, да еще на вероятность пролома. Ну, не может в России существовать забор без дыры. Увы, ни дыры, ни щели не оказалось. Исключительной крепости ограда из кованой чугунной решетки более чем двухметровой высоты. Препятствие при наличии плиссированной юбки непреодолимое. И каким же сильным было наше влечение друг к другу, что мы таки его одолели. Вначале я на своих плечах подтянул её до самого верха, затем она осторожно и самостоятельно спустилась вниз. Мне было легче.
Сразу за забором густые заросли высокой травы, а может, каких-то цветов. Там и умостились. Хорошо! Темнота, тишина, ароматы… Почти на самом пике наслаждения, до которого оставались мгновенья, и сладостные всхлипы Гали должны были завершиться глухим вскриком, а я готов был закрыть рот её поцелуем, дабы не нарушить тишины и покоя вокруг, в тот самый момент сзади и надо мной почувствовалось нечеловеческое дыхание. Затем что-то уперлось мне в спину. Не прекращая работы, обернулся и увидел огромную морду овчарки, дышавшей тяжело, но не тяжелее нашего. В ночной темноте как-то пронзительно жутко белели её оскаленные зубы и блестели недоверчивые огромные глаза. Я понял без слов, что собака размышляла, с чего начать поглощение: с носа, уха, а может, и с чего-то ниже. От догадки то, что ниже, потеряло потенциал, соответственно пропал интерес к самому процессу. Кошмар!
Тут из темноты раздался голос: « Ты это, парень, извини, это… Думал, за цветами лезут».
Охранник значит, не сатанинское видение. Уже легче. Голос исчез вместе с собакой мгновенно, словно растворившись во мраке. И это хорошо. Плохо, что ворот нам не открыли, и назад пришлось выбираться тем же партизанским способом. Казалось, что нелепый кошмар навсегда лишит меня радости интимной жизни. Не тут-то было!
Преодоление препятствий, видимо, все-таки напрягло партнершу, но отнюдь не погасило огонь желания. Она решительно повела меня к улочке с красивым названием «Загородный сад», где родилась и выросла. Здесь по левой стороне стояли земские, еще деревянные двухэтажные дома бывшей губернской больницы для сотрудников с невысоким рангом. Сама Галя к тому времени обитала в современном доме на улице Салтыкова-Щедрина.
Глухой ночью дом стоял темным, безмолвным и менее всего располагавшим к тому, чем хотелось заняться. Но Галя уверенно постучала в одно из окон. Кто-то выглянул, молча выслушал горячий Галин шепот. После чего она махнула мне, стоявшему на углу, как «на стреме». Я приблизился. Одно из окон приотворилось.
– Валяй первым, – прошептала она.
Скачка с преодолением препятствий продолжилась. Мы оказались в маленькой, метров пяти, комнатке, где из всей мебели имелась кровать с двумя стульями и хилый, раскачивающийся стол у окна, на который мы вставали, преодолев первый рубеж. Спуститься с него, шатающегося, оказалось не легче, чем взобраться на окно.
– Где мы? – прошептал я.
– У Генки, друга по детскому садику…
– Ничего себе «друган».
Пока я рассуждал и размышлял вслух, она успела раздеться и укрыться одеялом. Я с радостью и щенячьим восторгом последовал за ней…
Закончилось лето, встречи стали редкими, но потому, наверно, еще более продолжительными и, пожалуй, содержательными. Мы встречались у меня на Закгейме в дни, когда мать работала в ночную смену. Мы оставались одни, и никто ни в чем не мог помешать нам. Великое везенье. Мы выбирались из постели только по необходимости что-то съесть, попить, ну, и по крайней нужде. Я был молод и влюблен, она также молода и влюблена, но к тому же опытна и, как оказалось, ненасытна в любви. Я поражался, откуда в этом худеньком теле столько сил.
От неё вкусно пахло ванилью, шоколадом, еще какими-то неведомыми мне кондитерскими ароматами. Я дышал ими, возбуждаясь и набираясь сил. Ласкал сверху донизу. Она смеялась:
– Что ты там ищешь?
– Себя.
– Серьезно?
– Умереть – не встать. Слушай сюда. Девушка заказывает себе ночную рубашку длиной в три метра. – Зачем? – удивляется портной. – У меня муж ученый, для него главное – поиск.
Мы хохочем в полный голос, пока я не спохватываюсь: все-таки два часа ночи.
Целую грудь. Она сопротивляется.
– Почему?
– Она у меня маленькая, мне неловко.
– Здрасьте, причем тут объем. В ладони умещается – значит, грудь.
– А если не умещается?
– Не скажу. Меня знаешь, что в самом начале поразило больше всего?
– Что?
– Грудь оказалась такая мягкая.
– А с чего ты взял, что она должна быть твердой?
– У Валентина на горке статуэтка девушки. Помнишь?
– Ну…
– Я иногда, когда никто не видел, брал фигурку в руки и гладил её грудь, это волновало и возбуждало. Грудь, как и вся скульптура, была каменно твердой. Мне почему-то думалось, что и в жизни так же.
Галина смеется:
– Дурачок ты мой необразованный. Грудь всегда мягкая, а твердеет лишь при беременности и кормлении, но все же не до окаменелости.
Основы интимной жизни познавались неспешно, зато основательно. Наш роман раскручивался стремительно. Новый год я встречал с коллективом сотрудников кафе «Европа», где Галина, здешний кондитер, представляла меня совершенно серьезно как «своего парня» (это при двух детях и муже). Я не возражал, ибо удовольствие от встреч с ней глушило все соображения и доводы.
Однако уже следующим летом мы расстались. Для обоих – мучительно. Но таких рыданий, какие я услышал тогда, слышать больше не довелось.
На Ленинских горах
Зимняя сессия завершилась только хорошими и отличными оценками, что, хоть виду не подавал, душу грело. А тут еще одна нечаянная радость. Моя работа о Закгейме попала в сборник лучших студенческих научных работ, за что меня включили в группу студентов, отправлявшихся на зимние каникулы в столицу.
Нас разместили в Доме студента МГУ на Ленинских горах. Каждому выдали временный пропуск. Всем знаком силуэт здания главного корпуса МГУ. Это сама высотка и два, в половину меньших, боковых корпуса на одной с ней линии и такой же этажности корпуса, перпендикулярные боковым. В боковых нас и поселили.
У меня сохранился пропуск в корпус «Б», наши девочки – в соседнем, то ли «В», то ли «Г». Такие же, но постоянные пропуска имелись у всех студентов. Попасть в женский корпус можно, только сдав пропуск на вахте, а вахтеры отнюдь не бабушки-одуванчики. По виду люди служивые и бывалые, у этих не проскочишь и этих не уболтаешь. Получить пропуск назад можно только до 22.00, минута-две позже, и оставшийся пропуск отправляется к директору Дома студентов, далее следовало незамедлительное выселение, а то и отчисление из университета. Строгости вызваны, как мне сегодня кажется, отсутствием опыта совместного проживания иностранных студентов с нашими.
Шел 1962-й год. Начало развития международных контактов. Даже в ближней к столице провинции, такой, как Ярославль, иностранцы если и появлялись, то исключительно в качестве сотрудников иностранных посольств, и с провинцией знакомились они в сопровождении и под жестким контролем соответствующих органов. Позже для сопровождения стали привлекать студентов или институтских работников, не имевших со стороны тех органов замечаний.
В огромных корпусах Московского университета во время зимних каникул жили только мы – ярославцы и иностранные студенты, не выехавшие по каким-то причинам на родину. За пределы столицы они выезжать не имели права и мыкались по пустому Дому студентов или бродили по Москве. В основном, это представители знойной Африки. Ладно бы арабы, сильно смахивавшие на торговавших с лотков азербайджанцев и иных уроженцев Кавказа. Тут заскакиваешь в лифт, а там полно негров. Мы уже научились различать их континентально. Американские, те, скорее, серо-шоколадные. А из Африки, особенно экваториальной, чернее ночи. К тому же все студенты представляли свою местную элиту, то есть вождей или их приближенных. А тех разукрашивали с детства, наверное, чтобы свои отличали и уважали. Делалось так: на лице прорезались линии, заливавшиеся каким-то составом, в результате вместо лица получалась африканская маска… Ехать с такими породистыми красавцами в лифте не очень приятно. А девочки наши просто боялись и всегда у лифта ждали кого-нибудь из нас.
Жилые помещения Дома студентов представляли двусторонние боксы с общей прихожей. На каждой стороне комната метров в десять-двенадцать с двумя кроватями и письменным столом посередине, как раз под окном. Рамы в окнах наподобие нынешних стеклопакетов, только из прочного металла с прорезиненной окантовкой. Если открыть, сквозняк жуткий, все-таки сам двенадцатый этаж в здании на высоких, хоть и Воробьевых горах, гарантирует приличный ветер. Потому, попробовав один раз, больше окно не открывали.
Нашим соседом оказался араб из Ирака. Для иностранца выглядел очень по-русски, то есть затрапезно. Растянутый свитер, широченные брюки, разбитые поношенные ботинки. Весь какой-то недочесанный. Но имя! Фуад Исмаил аль-Хафаджи. В переводе, если память не изменяет, означает «Лев, сын Солнца». На льва походил мало, а тепла излучал много и улыбчивостью своей, и непоказным дружелюбием, и открытостью. Получал он две стипендии, одну от университета, вчетверо большую, чем наша, и еще одну – из Ирака. Ту, вторую, часть они, будущие студенты, либо их родственники, вносили полностью еще до отправки в Союз на счет представительства своей страны, так что бедным тут делать было нечего.
Он повел нас завтракать в столовую на первом этаже, чистую, светлую и огромную, как футбольное поле. Использованную посуду не тащили к мойке, а ставили на ленту транспортера, делившего обеденный зал пополам. Самым вкусным блюдом здесь показались нам сосиски с тушеной капустой либо макаронами. Одна порция – две сосиски, мы брали по две порции с одним гарниром и кофе. Отличный завтрак.
Там же, в столовой, мы предложили Фуаду поужинать дома, мол, принесем с собой что-нибудь русского. Тот согласился, добавив, что в свою очередь приготовит рыбу по-иракски. На том и расстались. Задержавшись в центре Москвы, к вечеру, довольно позднему, мы помчались на улицу Горького, нынешнюю Тверскую, где в угловом магазине «Подарки» купили приличный марочный портвейн, две бутылки по 0,7 за пятерку. Прихватили хлеба, сыра и чайной колбасы. С тем и заявились.
Собрались в нашей комнате, уж больно у Фуада не прибрано. К столу он принес огромную сковороду какой-то каши. Оказалось, что это мелко порезанная рыба, кажется, палтус, приправленная рисом с луком и густо политая томатным соусом. Тогда еще не знали слова «кетчуп».
Порезали принесенное быстро и крупно, разлили по стаканам, хотел сказать, граненым. Нет, здесь стаканы тонкого стекла и даже с легким рисунком. Для иностранцев всё без грани, надо понимать. Не заморачиваясь в деталях, подвинули стакан и к Фуаду, тот отчаянно замахал руками.
– Нет-нет. Коран запрещает.
– Да разве это алкоголь, – дружно возразили мы, – всего-то 17 оборотов.
– Что значит оборотов?
– Ну, крепости значит.
– То есть это не алкоголь?
– Напиток, называется портвейн. Ты на бутылки посмотри, разве в таких огромных емкостях может быть алкоголь? У нас об отношении к выпивке отвечают так: если это вопрос – нет, если предложение – да! Последний аргумент убедил его окончательно. Он взял стакан в руки. Пригубил.

