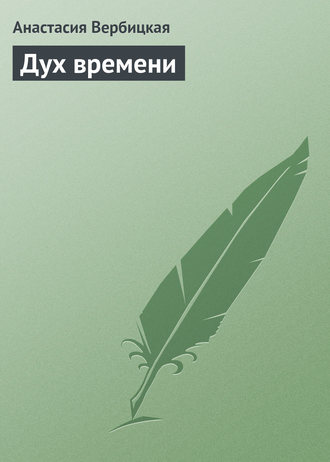 полная версия
полная версияДух времени
И они неслись опять. И Лиза иногда хохотала отрывисто и странно, как тогда, как слушала скверные анекдоты.
После свадьбы Николая Анна Порфирьевна отправила Тобольцеву в Италию портрет молодых, снятых в традиционной позе: он, совсем как приказчик, в длинном сюртуке, с торжественной миной. Она – под ручку с мужем, бесстрастная и безразличная, с поджатыми губами и опущенными ресницами… Тобольцев засмеялся и бросил портрет в ящик. Где-то в Неаполе или Флоренции, в отеле, он забыл его.
Когда он увидел Лизу, он не узнал ее. В ней была какая-то дикая грация, какая-то странная, точно застывшая красота. Она казалась околдованной… её смуглая кожа напоминала модные статуэтки из зеленоватой глины, которые Тобольцев видел в Париже. Бледность придавала ей «стиль», как говорил Андрей Кириллыч. Что-то значительное, почти трагическое было в очерке её бровей. Подспудной силой и нетронутой, ещё дремлющей страстью веяло от всех линий её худого лица, от взгляда, от немой, дрожащей улыбки… «Цыганка», – вспомнил Тобольцев прозвище нянюшки. К ней это шло. И, как цыганка, она любила драгоценности. Она не расставалась с цепочкой из аметистов, которую он привез ей из Швейцарии.
Как-то раз, забывшись, она поднесла их к губам.
– Что ты делаешь, Лиза? – испуганно крикнул Тобольцев. И тотчас ему вспомнилось выражение её лица в первый момент встречи. Сердце его застучало.
Она побледнела.
– Я люблю аметисты. Они приносят счастье, – своим глухим голосом ответила она, не подымая ресниц.
«И суеверна, как цыганка»… Но ему было приятно, что он ей угодил подарком.
Обеих невесток Тобольцев очаровал мимоходом, так легко, как и других женщин, с которыми сталкивался. Он в шутку флиртовал с обеими. Но в то время, когда Фимочка от всего сердца целовала братца, Лиза оставалась «недотрогой»… И это опять-таки ему нравилось. В Лизе было что-то «свое», что-то неуловимо тревожившее воображение Тобольцева. И когда теперь, зная её своеобразную улыбку, её странный смех, звук голоса, очерк бровей, он вспоминал портрет, забытый им в отеле, он начинал всякий раз бешено хохотать.
Скоро Тобольцев увлекся Лизой, как художник увлекается новым вымыслом. И жизнь её вдруг наполнилась каким-то нестерпимым счастьем, каким-то огромным смыслом.
Фимочка созвала гостей, чтоб показать всем «братца».
– Пожалуйста, чтоб не было барышень! – просил Тобольцев.
– Что так?
– Да стеснительно с ними. А я хочу дамам про Париж рассказать…
Фимочка поняла и захлопала в ладоши.
Собралась Зацепа, Таганка и Ордынка[42], все подруги по пансиону Фимочки и бывшие товарки Лизы по гимназии.
В числе приглашенных были и Конкина с мужем. Они с Фимочкой были на ти. Это была маленькая, черненькая, вертлявая женщина с «декадентской» прической, с пышно взбитыми и спускающимися на уши волосами. В своем кричащем туалете она была похожа на маленькую собачку, в яркой кофточке, которую вывели погулять.
И вот, после ужина, когда мужчины, опьянев, стали «резаться» в банчок, дамы заперлись в будуаре Фимочки, где Тобольцев по своему вкусу красиво разбросал мебель. Все расселись по кушеткам и козеткам, поджав ножки. На маленьких столиках поставили графинчики с ликерами и корзины с бисквитами. Конкина закурила. В доме Тобольцевых это была единственная курящая женщина. Даже братья Тобольцевы не признавали сами «курева».
Лиза села поодаль от других, в мягком кресле, как всегда молчаливая, как всегда трезвая, несмотря на выпитый ликер. У других дам головы уже кружились, а Фимочка была откровенно навеселе и болтала глупости.
Вошел Тобольцев, предварительно постучавшись. Его встретили хохотом, аплодисментами и заперли за ним дверь.
Он оглянулся, перешел комнату и сел у ног Лизы.
Все ахнули. Но Лиза не шелохнулась. И когда он, запрокинув к ней на колени голову, посмотрел на неё снизу вверх, её лицо с сдвинутыми черными бровями показалось ему чужим и жутким. С секунду они молчали, только зрачки их расширялись. Но эта пауза показалась им значительной.
Вдруг Лиза закрыла глаза с тем выражением, какое появлялось в её лице, когда лихач мчал её по шоссе, а весенний ветер бурно целовал её щеки. И Тобольцев вздрогнул.
– Расскажите, расскажите! – послышалось со всех сторон. – Про Париж… Про любовь и женщин, – пропищала Конкина.
Тобольцев окинул всех блестящими глазами. Сидя на ковре, он обхватил свои колени руками и начал говорить…
Сказка ли? Жизнь ли?.. Экспромт? Или воспоминание пережитого?.. Он сам не мог сказать, где кончалась правда, где начинался вымысел. Женщины слушали, не сводя глаз с его губ. Париж вставал перед ними… Этот единственный в мире город, полный блеска и мрака, полный дух захватывающей дерзости и красоты, поисков новых путей в творчестве, Чудовищных преступлений, противоестественных страстей, отчаянной борьбы за жизнь и высокой борьбы за счастье людей…
Они видели, казалось, перед собою эту ленту бульваров в час, когда падают сумерки и загораются огни… L ´heure bleue…[43] Бьет семь часов… Париж сверкает, трепещёт напряженной жаждой жизни… Запираются магазины и конторы. Бурливый людской поток, алчный до ощущений, наводняет улицы. Бегут конторщицы, продавщицы, модистки, барышни-«модели» и барышни-«манекены», все изящные, скромно одетые, в очаровательных шляпках собственного изделия. Они грациозно подбирают юбки, показывая красиво обутую ногу… Прачки и швейки идут кокетливые, изящнее наших барынь, без шляпок, но причесанные по моде, и если весна, то все с цветком на груди или в волосах. Штукатур, сняв рабочий фартук, приказчик из мясной лавки облекаются в пальто, котелки и с тростями в руках вмешиваются в толпу, и их не различишь от студентов и чиновников. Все преследуют женщин, но без нахальства и назойливости русских. Тут же, на улице, завязываются знакомства, связи, длящиеся одну ночь… Легко, просто, без слез и драм… Всем до безумия хочется счастия, забвения… Жизнь так тускла, труд так утомителен…
Кафе, ярко– озаренные внутри, раскрыты настежь Оттуда несутся звуки шансонеток. Все столики заняты публикою. Между ними бродят скромные, бледные, с усталыми, зачастую прелестными лицами продажные женщины, petites-femmes[44], одетые, как буржуазки, в темных шляпках… Без навязчивости, печально глядят они на мужчин.
– Неужели? – сорвалось у Конкиной. – Я себе представляла их иными.
– О, да! Культура сказывается даже в этом типе женщин…
…А улица живет: торопится, поет, смеется, гремит, ликует… «La presse!.. La presse!..»[45] – грассируя, кричит хриплым вороньим голосом жалкий старик, разнося вечернюю газету. Кучка людей остановилась над рекламой, горящей вверху разноцветными огнями. Вдруг огни меркнут. Толпа свищет, хохочет… Чисто дети! «Новый сенсационный роман!» – неистово выкрикивает, идя вдоль улицы, человек-реклама, оборванный, испитой, с доскою сзади и доскою на груди, исписанной гигантскими буквами… Тысячи разнородных звуков, сталкиваясь, сливаются в дикий, ликующий аккорд и мчатся дальше… А в театрах, оперетках, кабачках, в знаменитом Moulin-Rouge, Bulier, Variete[46] – уже своя жизнь. Там царит красивый, нарядный разврат.
– Расскажите про mi-careme[47]! – грассируя, подхватила Конкина, которая всё время в лорнет разглядывала Тобольцева.
И он рассказывал про этот радостный для прачек, единственный в году день, когда они, красивые, прелестно одетые (на счет города), с красивейшей между ними королевой, едут в колеснице, полной цветов, среди двух стен ликующей толпы. Везут белого глупого быка на колеснице, и у него на шее и на рогах розовые банты. А толпа, как один огромный ребенок, под звуки военной музыки, с безумным хохотом кидает пригоршнями конфетти и вступает в настоящую битву с девушками, едущими в колеснице. Вся земля почти на пол-аршина покрывается слоем конфетти… Всякое движение останавливается. Старики, почтенные отцы семейств, пускаются в пляс тут же, на улице. Что говорить о молодых? Это какой-то неудержимый поток веселья…
– Воображаю, что ты-то разделывал, голубчик! – пропела Фимочка. Все расхохотались… Тобольцев рассмеялся тоже и оглянулся на Лизу. Она сидела, вся подавшись вперед, поставив локти на колени и положив подбородок в ладони. Глаза её без улыбки и ласки, странно и жадно глядели в лицо Тобольцева. Так тревожно и жадно, что ему стало не по себе.
– Вот вам две картинки, иллюстрирующие Париж!
Утром, в праздник mi-careme’a, я видел среди толпы экипаж. Он двигался медленно, как все, мимо лож, эстрад и загородок. В ландо[48] сидел… нет, даже не сидел, а лежал какой-то старик в теплом пальто. Лежал как-то боком, опершись на одну руку. Не то паралитик, не то больной… Лет шестидесяти, не менее. Все ландо было полно букетами цветов и пачками конфетти. Одной рукою он бросал в женщин букеты. Пакетики же с конфетти он ожесточенно швырял в цилиндры мужчин. И так он раскидал все, что было у него в экипаже. А сам на ладан дышит… Ни кровинки в лице… Все ему аплодировали. Прачки посылали ему поцелуи, закидывали ему на котелок ленты серпантин… Он раскланивался, но ни один мускул не дрогнул у него в лице… И мне все казалось, что по дороге назад он умрет…
– Какой ужас! – Конкина повела узенькими плечиками. – Напротив! Какой восторг!.. Как эти люди любят жизнь и умеют жить! Там старости не признают… На балах танцуют отцы семейств, седые люди, которые у нас играют в карты… Там ничего не стоит после сорока лет начать жизнь сызнова… В пятьдесят лет француженка ещё полна обаяния и вдохновляет писателей, художников и драматургов…
– А другой случай? – перебила Фимочка.
– Вечером я пошел на публичный бал, в Бюлье. Вообразите себе сарай, пыльный, закопченный, с плохой вентиляцией, с отвратительным паркетом… Сбоку галерея, где стоят столики. Можно спросить себе и даме grenadine[49] или пунш, тянуть его из бокала через соломинку и наблюдать публику. В зале толпа. Женщины в шляпах, мужчины в цилиндрах, многие в пальто. Все национальности налицо… Я видел даже двух креолов-студентов, в котелках, в европейском костюме, в перчатках… Надменные, скучающие, с своими выпуклыми черными глазами и экзотическими лицами, казавшимися ещё темнее от ослепительных воротничков, они вяло бродили в толпе, не обращали никакого внимания на женщин…
– А женщины очень красивы? – вдруг перебил его глухой голос Лизы. Она не изменила позы, и выражение её глаз не смягчилось. Тобольцев взглянул на неё и опять отвернулся с тем же странным чувством отчуждения.
– Н-нет… У них скомканные личики, мелкие, не правильные черты… Но они безусловно все женственны грациозны, одеваются со вкусом. У них прелестная прическа, красиво обутая нога…
– А тело? – крикнула Фимочка, и глаза её за искрились.
– Это на чей вкус… Нашему купцу они покажутся «жидкими».
– А тебе? – опять спросила Лиза.
Тобольцев всем корпусом повернулся к ней и на этот раз смело, со странным упорством встретил её потемневший взгляд. В нем ему почудилась застывшая угроза… Какая-то смутная тайна кошмара.
– Мне они нравились… Очень нравились, моя прелестная Лизанька! Они веселы, добры, просты. Не истерички… С ними можно чудесно провести неделю-другую и расстаться друзьями. Они сцен ревности не делают. Слезы у них сохнут быстро. Разлучаясь, они не отравляются, а просто берут себе другого «сосо»[50]. Зачастую они первые нам «изменяют» (он комично подчеркнул это слово)… Но ведь в любви они не рабыни, а товарищи, равноправные и смелые. И это как-то безмолвно признано всеми, даже лицемерно-консервативным «обществом», которое освистывает пьесы с безнаказанным адюльтером, а само сквозь пальцы глядит в жизни на романы «госпожи» и на приключения «горничной»… Да-с, mesdames! Во Франции женщина, на какой бы низкой ступени она ни стояла, это – сила. Она чувствует свою власть над нами, пользуется ею и требует к себе уважения… Всегда! Там публичная женщина знает себе цену и не позволит себя оскорбить. Кто из вас, mesdames, читал «Историю одного преступления» Гюго?[51]
Все молчали.
– Он описал факт, как Наполеон III подкупил армию в 1852 году, чтоб задавить в одну ночь все, что было честного во Франции… И вот, когда один из генералов явился к своей любовнице, она крикнула ему в лицо: «Я – публичная женщина, но я не продаю своей родины!..» И выгнала его вон… Да, только в такой стране, я верю, народится когда-нибудь тот тип новой женщины, о которой я грезил не раз…
– Какой? – хором крикнули все, кроме Лизы.
– Той, которая свое счастье и свободу возьмет себе сама, относясь к мужчине не как к хозяину, а как к равному, беря его в минуты страсти и бросая его как ненужную ветошь, когда наступит разочарование.
– А что для этого надо? – вдруг задумчиво спросила Лиза.
– О, много, Лизанька, много!.. Нужно прежде всего взять новую метлу. И вымести, как из комнаты, которую хотят проветрить после тяжкой болезни жильца, весь хлам, пыль, сор, которые копились веками в женской душе… Не оставить там забытым и нетронутым ни одного уголка. Все смыть, все уничтожить!.. Реликвии, сувениры, фетиши… Распахнуть в вашей душе окна настежь. Разбить рамы, чтоб солнце и воздух лились в неё свободно и убивали все старое, гнилое, мертвящее, что веками не давало вам дышать полной грудью и жить… хотя бы так, как мы, мужчины, жить научились!
– То есть? – подхватила Конкина, и её скомканное личико отразило восторг.
– То есть смотреть на любовь как на необходимость жизни, от которой немыслимо, вредно отказываться, без которой нельзя жить, как нам, так и вам. Это раз… Но… Слушайте! Слушайте! – Он засмеялся. Главное впереди… Но, беря эту любовь, надо не переоценивать ее, как это делали Татьяна, Лиза, Елена в «Накануне»[52], героини Достоевского, наши бабушки; матери. И даже такие гении, как Софья Ковалевская…[53] И как это делаете вы сейчас, mesdames! Вы сделали из любви драму, а её надо брать как радости и забвение… как отдых после труда. Вы наполнили ею душу, а ей надо отвести в жизни второе место как это делаем мы… Поняли? Вот «где зарыта собака»
Наступила короткая пауза. Блестящими глазами Тобольцев следил за всеми этими лицами, полными недоумения. Опять его потянуло оглянуться на Лизу. И его поразил трагизм её лица. Невольно выпустил он её холодную руку. И бессильно она упала на её колени.
– Но если отнять у нас любовь, то чем же тогда наполнить жизнь? – напыщенно крикнула Конкина.
Глаза Тобольцева сверкнули.
– Трудом, mesdames! Упорным трудом над развитием вашей личности… Идеей, искусством, выработкой миросозерцания, общественными интересами, общественной деятельностью… Всем, чего вы лишили себя и что делает нашу мужскую жизнь мятежной и красивой. Но для этого надо, конечно, научиться независимо стоять на своих ногах, содержать себя и своего ребенка если он будет. И суметь нести высоко голову в сознании своего права на любовь и на материнство!
Вздох вырвался из груди этих разряженных женщин с которыми впервые заговорили по-человечески. Сказкой звучали для них эти речи, раскрывавшие туманные, заманчивые дали.
– Этого никогда не будет! – сказала Конкина.
– Напротив… Мы идем к тому. Какая конечная цель тысячелетнего прогресса, как не торжество индивидуализма? Счастье всех и каждого?.. И вы, женщины, все должны стать апостолами новой веры, потому что вы больше всех страдаете от гнета и насилия современных общественных форм… Семья, частная собственность – вот ваши оковы… Когда исчезнут эти кошмары, тысячелетия давившие на человека, он встанет во весь рост, вздохнет полной грудью. Он радостно улыбнется солнцу. Он использует всю короткую прекрасную жизнь для себя… Кто из нас теперь живет для себя? Кто свободен? Даже художники, которые рождены богами, не чувствуют своих крыльев и творят, как рабы, по чужой указке… Но наступит время, когда человек на крыльях своей бессмертной души взлетит на все вершины жизни, заглянет во все её бездны… И сознает себя тем, что он есть, – частицей Природы, не знающей ни лицемерия, ни страха…
Наступила пауза.
Вдруг Фимочка, у которой глазки давно посоловели от ликера и умных речей, вспомнила:
– А второй случай, братец?
– Да, да! Вы говорили о Бюлье…
– Oh, mesdames! Не пожалейте о вопросе!
– Нет, нет, пожалуйста! Это интересно!
– В Бюлье начался бал… Я вас удивлю, mesdames… знаете ли, что Париж, да и вообще Европа, признает только старый вальс, польку, кадриль, лансье…[54] У них нет, как у нас, этого махрового расцвета новых танцев, по сколько темперамента они вносят в этот спорт. На днях я был в Романовке на балу… Мне казалось, я вижу какие-то нагальванизированные трупы, выделывающие pas d’Espagne…[55]
– А кек-уок?[56] – крикнула Конкина.
– Да! Теперь это гвоздь всех публичных балов в Париже. Негритянский танец, бесстыдно-примитивный. Тогда, в Бюлье, ещё немногие его знали… Какой-нибудь десяток дам и мужчин. Но эффект вышел большой. Все ахнули, выскочили из-за столиков, кинулись вниз… Окружили тесным кольцом танцоров и с хохотом аплодировали… Мои оба креола преобразились. Закинув головы, с блаженством закатив глаза, свободно перегнувшись назад всем корпусом и заложив пальцы в карманы белых жилетов, они понеслись впереди. Они были обворожительно бесстыдны!.. Вдруг музыка смолкла, и все остановились, запыхавшиеся, красные, возбужденные, с блестящими глазами, с блуждающей улыбкой… В разгаре бала, после полуночи, заиграли кадриль, и начался канкан… тот французский канкан, полный грации, остроумия и изысканного бесстыдства, какому ни один народ подражать не умеет. У немцев, англичан и русских это одна сальность! В Париже это что-то своеобразно экзотическое… И вот, в шестой фигуре, один молодой рабочий, красивый, ловкий, очевидно влюбленный в свою подругу, грациозную швейку, обхватил её талию, вдруг каким-то неподражаемым движением перевернул её худенькую фигурку и поставил её посреди зала головой вниз…
– Ах! – крикнули дамы и покатились со смеху. Многие зааплодировали. Тобольцев встал с ковра и комически раскланялся, прижимая руки к сердцу.
– Это второй случай… которым вы так упорно интересовались…
Фимочка вдруг сорвалась с дивана и кинулась Тобольцеву на грудь.
– Миленький… Андрюшенька… Поучи нас кек-воку…
– Ковер… неудобно, – заметил кто-то.
Вмиг ковер выдернули из-под дивана, закатали в трубку и поставили в угол. Мебель отодвинули. Нашлись ноты на этажерке. Гостья села за рояль. При общем смехе и аханье Тобольцев прошелся через всю комнату, раз-другой, и остановился.
– Кто со мною? – спросил он весело.
– Я, – смело вызвалась Конкина.
Она, действительно, прошлась недурно, худенька вертлявая, легкая, как перо, свободно взбрасывая изыщно обутые ножки и перегибаясь назад «декадентской» фигуркой без бюста и бедер.
Фимочка тоже попробовала перегнуться, но тяжело на пол и замахала руками. В ней было уже около пяти пудов.
В комнате поднялся стон от смеха. Лиза прислонилась к стене и хохотала отрывисто, глухо и злобно. И лицо у неё было «без души», пустое и жесткое… «Как у птицы», – подумал Тобольцев.
Потом он сел за пианино.
– La poupouille… La poupouille… La-a![57] – запел он приятным баритоном модную в тот сезон песенку, бывшую на устах всего Парижа, начиная с депутатов и кончая гарсонами кафе.
Мотив был несложен. Не прошло минуты, как дамы подхватили напев кто неверным, кто слегка охрипшим голосом.
«Вот так оргия в почтенной Таганке!» – подумал он.
Потом с хохотом и визгом снова разложили ковер, усадили Тобольцева в кресло посреди комнаты, а дамы сели на ковре, и их пышные юбки, как цветы, легли венком вокруг.
– А правда ли, что в Париже есть кафе, где женщины… (следовали вопросы на ухо). – А правда ли есть кабачки, где… – И так далее, наперебой… – Тобольцев любезно оборачивался на все стороны и отвечал откровенно.
Лиза стояла все там же, у стены, и слушала, не проронив ни одного слова. Грудь вздрагивала от прерывистых вздохов.
– Лиза… Иди ко мне! – крикнул Тобольцев. В эту минуту она ему тревожно нравилась… Она будила в нем что-то дикое, таившееся в его крови сибиряка.
Лиза упрямо качнула головой и не двинулась с места.
– Андрюша! Успокой мое сердце, чокнись со мной! – вдруг завопила опьяневшая, разомлевшая вконец Фимочка.
– И со мной!.. И со мной!
Опять зазвенели рюмки, стали пить ликеры. Кто-то уронил столик и разбил кувшинчик с creme de vanille[58]. Маслянистой алой влагой ликер пополз по атласу кушетки, по платью женщин… Под каблуком дамской туфельки хрястнуло стекло.
– Ай-ай-ай!.. – завизжали дамы.
Лиза подошла к окну, распахнула занавес, открыла форточку и пила холодный воздух.
Фимочка села на колени к зятю и сочно поцеловала его в губы.
– Ай да наши! – сказал Тобольцев и расхохотался.
– Ах!.. Ах!.. – закричали дамы. Чувствовалось, что им завидно, но что у них на это не хватит смелости.
Тобольцев встал. У него кружилась голова.
– Браво, Фимочка! – задорно крикнул он. – Я заслужил награду… Ведь вы не соскучились со мною, mesdames? Кто же ещё за это поцелует меня? – И сердце у него забилось от предчувствия.
Все молчали, блестящими глазами глядя на Тобольцева. Вдруг зрачки его расширились, вспыхнули и как бы впились в побелевшее лицо Лизы.
И тут случилось что-то неожиданное. Лиза отделилась от стены… Как лунатик перешла она комнату и вплотную приблизилась к Тобольцеву, не сводя с него немигающих глаз. Улыбка сбежала к его губ, когда у самого лица своего он увидел эти неподвижные зрачки. Мрак и бездна глядели из них…
Странно захолонуло у него сердце. И он, как во сне, не шелохнулся и не отдал поцелуя, когда холодные губы Лизы в первый раз, опять-таки как во сне, чуть-чуть коснулись его губ.
– Ах, какой пассаж![59] – крикнула Фимочка пьяным голосом. Но оба они её не слыхали…
«Неужто влюблен?.. А если она?.. Какая глупость! Какое счастие!»
В дверь стучались.
– Отворите!.. Что вы там заперлись? Что за новости? – кричали встревоженные мужья, из которых многие успели отрезветь. А жены задорно хохотали, показывали язык запертой двери, грозили ей кулачками.
– Хозяева бушуют! Ахти!.. Страсти какие! Продулись и о женах вспомнили!
– Когда спать пора! – подхватила Фимочка подбоченясь и грузно покачнулась.
И над всем этим хаосом зловещими потоками звенел отрывистый и злой хохот Лизы.
И Тобольцев почувствовал, что к дикому желанию, загоревшемуся в его крови, примешивается, парализуя страсть, какой-то безотчетный ужас, какой бывает в кошмаре.
VII
Этот вечер для Лизы оказался роковым. Она полюбила Тобольцева с первого взгляда, когда увидала на портрете его лоб, глаза и улыбку. Ей казалось, что ничего прекраснее в своей жизни она не видала и не увидит. Часто, лежа ночью в своем будуаре, она грезила об этом далеком и чужом ей человеке. Грезы её были чисты и ароматны, как белые лилии, и долго она не понимала себя. Все герои романов, которые она читала, имели тот же хищно-ласковый взгляд, те же чувственно-изогнутые и насмешливые уста… В отсутствие хозяйки она кралась наверх с бьющимся сердцем, чтоб взглянуть в эти глаза. В один из припадков болезни Анны Порфирьевны, ухаживая за нею, она тайком унесла портрет к себе.
Но первое впечатление от его голоса и взгляда было так ярко и болезненно-глубоко, что Лиза не спала всю ночь. За ужином Тобольцев, сразу заговоривший с нею на ты, украдкой кидал на неё взгляды, от которых бледнело её лицо. Душа и тело Лизы разом наполнились какой-то новой, жгучей тревогой. Все валилось у неё из рук. Она бродила, как лунатик, поджидая звонка Тобольцева.
– Что это, как ты сменилась, Лизанька? – встревожилась свекровь…
Лиза затихала, только когда видела Тобольцева. И, казалось, расцветала от счастия.
– Тебя точно подменили, – смеялась Фимочка.
Когда впоследствии Тобольцев оглядывался на эту полосу своей жизни, длившуюся не более двух месяцев, ему всегда казалось, что это был какой-то удушливый кошмар… Потому что все давалось ему в жизни шутя и ни одна женщина не стоила ему ни одной слезы, ни одного вздоха сожаления… Тут же, под вихрем налетевшего знойного, больного желания к этой странной женщине, он начал добиваться своей цели упорно, жестоко. И встретил с первой минуты отпор. Отпор такой страстный, что весь он, как охотник, загорелся жаждой борьбы и победы… А может быть, это была любовь? Кто скажет? Но впервые он пережил муки истинной страсти; впервые узнал, что такое разбитые нервы. Он нередко бегал по комнате, хватаясь за голову, не зная, чем отбиться от мыслей о Лизе.
«Ничего не могу, ничего! – с отчаянием восклицал он. – Засела тут… (он ударял себя по лбу) и что хочешь! Хоть стреляйся!»
Николая он совершенно не принимал в расчет. Он чувствовал, что Лиза любит его, Тобольцева, и этого ему было довольно. И если она ему не уступает, то боясь своего Бога. Но… тут он признавал себя бессильным.
Он начал с того памятного вечера каждый день катать Лизу в парк. Иногда, не совладав со своей горячей кровью, он хватал её в объятия… Она никогда не боролась, только бледнела и старалась не дать ему своих губ или же начинала отрывисто и глухо хохотать. И это было лучшее средство отрезвить Тобольцева. Смех Лизы всегда казался ему зловещим… И всякий раз они возвращались: он – злой и молчаливый, она – бледная и угнетенная… Вся эта «канитель», как злобно думал Тобольцев, кончилась совершенно неожиданно.









