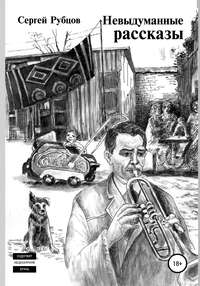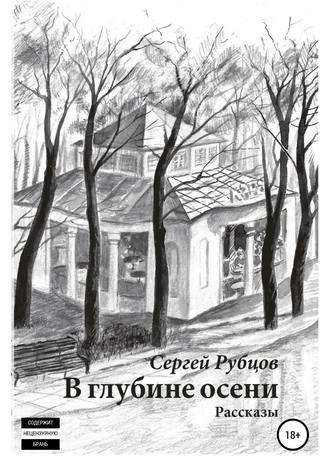 полная версия
полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
«Что у него там? Ты чего прячешь, дедушка? Наверное, октябрёнский значок, а может быть, изумрудное стёклышко или ириску “Кис-кис”?» Димке захотелось подойти и разжать ленинский кулак, но сделать этого он не мог. Да если бы и смог, то был бы разочарован: в зажатом кулаке гения революции – пустота.
Сжатый кулак объяснялся просто.
В тот час, когда вождя вот-вот должен был разбить паралич, Ильич вновь вспомнил о возмутительном поведении Кобы, о чём пожаловалась супругу Надежда Константиновна. Он хотел было разразиться гневной речью и написать в ЦК, но вместо пламенных, разящих фраз у него, к удивлению его самого и близкого круга, изо рта вырвалось нечто нечленораздельное, животное, отчего он ещё сильнее распалился в бессильной злобе. Тогда он перешёл на язык мимики и жестов, а именно: постарался пальцами правой руки свернуть крепкий шиш, и ткнуть его в воображаемое рябое лицо ненавистного Кобы, в его рысьи коварные зенки, но успел лишь сжать кулак. В следующее мгновение кровоток его левой сонной артерии был перекрыт силами более могущественными, чем партия большевиков, и вся правая сторона тела гения отключилась от классовой борьбы за победу мировой революции.
Врачи, окружавшие больного, приняли сжатый кулак Ильича на свой счёт и испугались. Они и так, конечно, находились в постоянном страхе, но тут струхнули ещё больше. Но Бухарин их успокоил: как идеолог партии, он объяснил, что Ленин грозил не им, а эксплуататорам и буржуям всего мира, а также внутренним врагам революции, вероятно, намекая на Троцкого.
Мальчик ничего про это не знал, как не знал и Филумов-старший, не знали часовые и молоденький милиционер, да чего уж, не знали и члены партии, а те, кто что-либо знал, покинули этот бренный мир и в основном не по своей воле.
Выйдя из мавзолея на залитую летним солнцем аллею, уставленную новогодними ёлками и бюстами покойных вождей пожиже, Димка остановился перед головой, торчащей на высоком гранитном постаменте. Солнечные лучи золотили лоб, щёки, усы. Бронзовые, они лоснились, словно исходили жёлтым жиром.
«С-Т-А-Л-И-Н», – прочитал мальчик выбитые на граните золотые буквы, и ничего не пошевелилось в его маленьком сердце.
Дорога к Вере
Добрались до Волгограда. У вокзала сели в такси. Волгу они увидели с высоты плотины Волжской ГЭС. Скорость движения машин здесь была ограничена до двадцати километров в час. Такси двигалось медленно. Река разлилась во всю свою ширь и казалась продолжением ковыльной степи. Они смотрели на сверкающую в солнечных лучах, шевелящуюся поверхность, на которой то тут, то там выпрыгивали чёрные червячки. Это были осетры. Димка тогда ещё не мог определить их реальных размеров. Как не мог он представить величину и значение всей Волги. Отец с сыном вслух считали выпрыгивающих осетров:
– Один, два, три…а вон ещё, папа, смотри, четыре, пять!
– Что-то вы слабо считаете, – заметил таксист, – я уже штук сорок насчитал. На нерест идут, а тут плотина. Пропадёт икра.
– А как же они размножаются? – спросил отец таксиста.
– Часть проходит через шлюз. Есть такой в плотине, оставили специально для прохода рыбы. Одна беда – рыба об этом не знает. Вот и тычется. Которая находит проход, идёт дальше в верховья, там и нерестится. А эта, что прыгает, икру здесь сбросит, и вся она или погибнет, или рыба съест. Год от года осетра всё меньше. Такая картина не только с осетром, но и со стерлядью, севрюгой, я уже не говорю про белугу, той практически уже нет. Жалко реку, сколько она раньше народу кормила! – водитель тяжело вздохнул и безнадёжно махнул рукой.
Отец резонно возразил, что электроэнергия тоже необходима.
– Нужна-то, она нужна, никуда не денешься, – вяло согласился таксист, но всё же чувствовалось, что, будь его воля и был бы выбор, он, не задумываясь, выбрал бы свободную реку с рыбой вместо электричества.
Димка уже знал, что Волгоград когда-то назывался Сталинградом, что во время войны сюда дошли немцы и что здесь их остановили и взяли в плен целую армию вместе с их командующим фельдмаршалом Паулюсом. Когда они подъезжали к городу, он видел на холме над городом гигантскую статую женщины с поднятым мечом над головой. Отец объяснил ему, что это Мамаев курган и здесь проходили самые жестокие бои, но всё равно наши дали фрицам прикурить. Вряд ли десятилетний мальчик как-то особенно переживал или думал о войне и о том, зачем немцам понадобилось идти так далеко, чтобы прикуривать у наших.
Бабушка Вера жила в посёлке, который находился между Волгоградом и Волжским, недалеко от реки Ахтубы, с семьёй своей дочери Надежды (сестры Димкиной мамы, его тёти): с её мужем-алкоголиком, монтажником-высотником, и двумя сыновьями, двоюродными Димкиными братьями.
Несколько раз они с отцом ездили на такси в город. Поднимались на Мамаев курган. Каменная тётка с мечом в поднятой руке вблизи оказалась ещё грандиознее, чем издали. Внутри статуи помещался лифт. Он поднимал желающих вверх, к голове монумента, на смотровую площадку, но это занимало слишком много времени, и они решили, что сделают это как-нибудь в другой раз. (Другого раза не случилось.) Обошли вокруг огромной бледно-жёлтой руки с факелом вечного огня, вдоль стен, на которых были выбиты имена погибших здесь солдат. Запомнился пожилой седой мужчина: он плакал, прислонившись к каменным скрижалям. Потом они спустились к Волге и смотрели на руины мельницы – единственное разрушенное здание в городе, оставленное нетронутым в память о войне.
Летний день. Жара. Димку разморило ещё на кургане. Он уже вяло реагировал на мельничные развалины и на выглядывающую из-за них Волгу. От жары не спасали даже мороженое с газировкой. Немного оживился он у Дома Павлова, и то не от вида самого здания – останки настоящего дома снесли после войны. Это была обычная пятиэтажка, ничем не отличающаяся от других таких же, стоящих рядом. Правда, на углу висела неприметная каменная доска с буквами. У Павлова наблюдалось некое народное движение. Оказалось, что снимали документальный фильм. Слышался лёгкий треск кинокамеры. Записывали какого-то пожилого коренастого мужчину в светло-сером костюме, на лацкане которого Димка заметил звезду Героя Союза. Вскоре выяснилось, что это и есть знаменитый снайпер Павлов. Он что-то объяснял, махал рукой в сторону дома, по-видимому, вспоминал свои военные подвиги. Димка тогда ещё удивился его простецкому виду – он представлял себе героя войны каким-то особенным, здоровенным Ильёй Муромцем, в маршальском парадном кителе, с густыми усами вразлёт, как у Будённого, или с бородой, как у Фиделя Кастро. А тут обычный, ничем не примечательный с виду человек. Но суета вокруг героя, а особенно восхищённые глаза отца, и то восторженное выражение лица, с которым тот смотрел на легендарного снайпера, передались мальчику. Он несколько оживился. Вспомнились ему кадры из документального фильма о защитниках Сталинграда и то, как метко укладывал фашистов снайпер Павлов: вот на мгновение появляется в проёме фриц в длинной шинели с котелком в руке, звучит выстрел, немец падает, чтобы уже никогда не встать. Димке фашиста не жалко, потому что любой мальчишка в советской стране знает, что это враг, который пришёл убивать и хотел сделать нас рабами, и поэтому он должен умереть. Мальчику захотелось научиться стрелять так же метко, как бил врага снайпер Павлов.
Возвращались тем же путём, но уже на автобусе. К вечеру не стало прохладнее, от раскалённого за день асфальта и городских камней было ещё жарче. На плотине Димку начало клонить в сон. Всё также выпрыгивали осетры, с высоты кажущиеся чёренькими червячками, и поверхность реки превращалась в волнистый серебристый ковыль, в высоких степных травах ползли серые фрицы, за ними шагала огромная Родина-мать и, широко размахиваясь своим каменным мечом, рубила фашистам их поганые головы. За ней шёл сержант Павлов в светло-сером костюме и собирал, словно капустные кочаны, головы немцев в обычный мешок из-под картошки. Посмотрит в мёртвые очи ворога – и в мешок, посмотрит – и в мешок…
Командировка
Следующая встреча с замечательной русской рекой произошла у Филумова, когда он служил на флоте. Этой встречи могло и не состояться, если бы не случай. В аварийно-спасательной службе Черноморского флота набирали команду. Нужно было перегнать в Севастополь новый морской водолазный бот, построенный на корабельном заводе в Гороховце, что на Клязьме. Вот для этого и был набран экипаж из военных моряков, которые служили на подобных кораблях в бригаде АСС Черноморского флота, стоящей в Стрелецкой бухте. Филумов как раз проходил службу на боте ВМ-413 радиотелеграфистом и таким образом попал в экипаж.
Получение нового корабля не такая уж простая задача, как может показаться человеку гражданскому и сухопутному. Чего проще – приезжай, забирайся на борт и кати себе куда надо. Но в военно-морском флоте так не делается. Прежде чем принимать корабль непосредственно на заводе, необходим долгий организационный период. Тем более что кораблик этот был непростой. Строили его для дружественной нам Ливии, так сказать, в экспортном исполнении. Пока бот достраивали в Гороховце, экипаж проходил подготовку в городе Горьком, в одной из воинских частей в районе Сормово. Учили инструкции, матчасть, требования техники безопасности, обеспечения живучести корабля и прочее. Волги они тогда так и не увидели. Подобная муристика продолжалась около месяца. Только после этого команду посадили в автобус и повезли в Гороховец.
Жизнь в общежитии Гороховецкого судостроительного завода – это тема для отдельного рассказа. Но без Гороховца и Клязьмы не случилась бы у Филумова и встречи с Волгой.
Хоть и невеликая речка Клязьма, но достаточно широкая и глубокая, чтобы строить на ней небольшие морские суда, которые по Оке, а потом по Волге можно перегонять на север через Беломорканал в Белое и Балтийское моря, на юг – в Каспий, а по Волго-Донскому каналу – в Азовское и Чёрное моря, из Чёрного – в Средиземное и так далее.
Гороховец на Клязьме – старинный городок во Владимирской земле с древними церквушками и невеликим населением. Развлечений здесь мало – и каждый приезд подобной морской команды вызывал оживление и энтузиазм местных жителей, особенно их женской половины. Для морячков же это было раздолье. После нескольких лет жизни на кораблях, за заборами своих частей, под неусыпным контролем отцов-командиров, оказаться на воле, без КПП и комендатуры – это вы сами можете представить, что такое! Кругом море – не в смысле водной стихии – а молодых девушек и женщин, которые сами ищут общения с матросами и старшинами, но больше с мичманами и офицерами, тянутся душой и телом ко всему военному и морскому.
Была и у Филумова некая замужняя женщина, жена армейского офицера. Познакомились они на вечере, устроенном по традиции в общежитии в честь приезда экипажа. Муж её уехал в летний лагерь на учения. Позвала в гости. Частный домик. Подруги её в комнате. Одна плачет, на кого-то жалуется. Хозяйка увела Филумова в спальню. На ней цветной домашний халатик и смешные вязаные тапочки на ногах. Под халатом голое тело. Произошло как-то всё обыденно и неинтересно: её рассеянные движения (она явно думала о чём-то другом, а с ним была как-то по инерции, между прочим) и то, как они обнялись, как она легла на спину и раздвинула ноги, и этот нелепый коврик на стене у кровати – вызывало в нём чувство… да никакого чувства…
От встречи с ней и торопливой близости у Филумова возникло ощущение, что им, словно щель тряпкой, заткнули душевную пустоту, провинциальную скуку и отъезд мужа. После таких встреч у Филумова появлялись мысли о том, что слишком много в его жизни необязательного и лишнего, того, без чего он мог бы прекрасно обойтись: без службы на флоте, без этой командировки и этой чужой случайной женщины. Всё это было лишним, а главными оказывались совсем незначительные, на первый взгляд, вещи, слова, запахи, события.
Он мучительно переживал своё подневольное положение. Ему так хотелось любви, но всё, что было связано с этим чувством, напоминало о Натэлле. Она была единственной женщиной, которую он по-настоящему знал и чувствовал – остальные были не в счёт.
Впрочем, он легко преодолел неприятное послевкусие свидания с «офицерской вдовой» (так он её про себя назвал).
На улице лето. Филумов молод и здоров. У него лёгкое головокружение и удивление от того, что можно вот так просто спуститься с третьего этажа общаги, выйти на улицу и идти куда угодно, в любую сторону городка, одному, без приказа. Больше года у него не было такой возможности. Солнце с небес щедро одаривало население светом и теплом, играло изумрудной зеленью, цветастыми косынками на плечах гороховецких барышень – и жизнь рисовалось Филумову красочно и художественно: без отцов-командиров, строевых смотров и нарядов вне очереди.
Но не всё радовало. От Натэллы он уже несколько месяцев не получал писем. Они приходили сначала часто: раз, а то и два в неделю – потом всё реже, их слабый ручеёк стал затихать, а за последнее время, капнув пару раз, он иссяк вовсе. На сердце Филумова легла тяжесть молчания и неизвестности. Он чувствовал, что с Натэллой там что-то происходит, страдал от невозможности поехать к ней и узнать, в чём дело. Весточки от неё он ждал, как спасения: это единственное, что поддерживало его в первый, самый тяжёлый год службы. Тревога подавляла любое радостное ощущение и не давала покоя.
Экипаж разместился в одной половине третьего этажа общежития. Комнаты по правую руку коридора отвели командиру, мичманам и офицерам, а по левую – матросам и старшинам. У входа в половину команды поставили тумбочку, у которой должен был стоять вахтенный. Пост носил чисто символический и условный характер. Вахтенный (обычно из молодых матросов) никого не останавливал, не вёл журнала и отчётности, а просто стоял для порядка, как символ чего-то военно-морского. Отсутствию воинской дисциплины он не мешал и на ней никак не отражался. К ночи личный состав разбредался: кто по общежитию, кто отправлялся в город на танцы или ещё куда-нибудь с девчатами. Офицерский и мичманский состав тоже не терялся: оторвавшись от бригадного командования, а также от жён и детей, оттягивался по полной, увлекался вином и женщинами. Так что дневальный охранял пустые комнаты (по-флотски «кубрики») матросов и старшин и интимный покой офицерских «кают», откуда всю ночь слышались эротические женские стоны и мелодичный скрип кроватей. Под утро, когда сексуальная активность черноморцев спадала и командиры, усталые, но довольные, блаженно засыпали на остывающих грудях своих ветреных и временных подруг, – вахтенный также благополучно растворялся в предрассветном тумане.
Как-то днём соседка по этажу, одинокая женщина лет тридцати пяти, увидев Филумова, поманила его рукой и отвела в сторону.
– Тут, – говорит, – одна девушка хочет с тобой познакомиться.
– Что за девушка? – в свою очередь поинтересовался Филумов.
– Девушка хорошая, порядочная, не какая-то шлёндра. Так что без глупостей.
Филумов, подумав, согласился:
– Хорошо, можно и познакомиться, отчего ж не познакомиться.
– Ну, тогда, как она придёт – я тебя кликну.
– Зер гут!
– Чего? – не поняла соседка.
– Ладушки, говорю.
– Значит, договорились.
Чего Филумов ожидал от этой встречи, трудно сказать. Он плыл по течению и чудес не ждал. Вечером соседка позвала Филумова, провела к себе в комнату. У окна стояла светловолосая девушка лет шестнадцати-семнадцати. Она явно стеснялась. Познакомились. Соседка тихо и тактично удалилась.
«Наверное, только что школу окончила. Не глупая, нет, но очень наивная, – сразу определил Филумов и ему стало её жалко. – Зачем морочить девчонке голову? Ей замуж надо, детей рожать, а в мои планы это явно не входит. О чём мы будем с ней говорить? О школе, о танцах, о её родственниках и друзьях? Смешно. Меня эти темы не интересуют. Через неделю волком завою».
Ничего этого он девушке, конечно, не сказал. Посидели, поболтали. Она попросила проводить до дому. Отчего же не проводить. На улице солнце и день погожий, нежный. Она жила на другом берегу Клязьмы. Прошлись по городку. Над Гороховцом, на Николиной горе, которую ещё называли Пужаловой, или Пужальной, парил Свято-Троицкий Никольский монастырь. Пужаловой гору назвали ещё в древности.
Тогда подходили к городу татаре. Они уже подбирались к вершине горы, к стенам, за которыми белел, словно агнец, детинец. Басурманы уже потирали свои волосатые ручки и ухмылялись в усы. Вдруг некое густое облако опустилось с небесной тверди на детинец. Из облака появился богатырь в сияющих доспехах и огненным мечом в могучей деснице.
– Ага-а-а-а-а-а, попались! – громовым гласом пророкотал витязь, и грозовая волна понеслась над Святой Богородицы градом Гороховцем, мигом перемахнула через Клязьму, ударилась о поросшие лесом заречные холмы и горячим эхом вернулась в тыл нападавшим татарам. – Ужо я в-а-а-а-а-с!
Татаре испужались и от страху обгадились. Так, с говённым гузном, и побёгли. Долго потом боялись приходить. С той поры гору и стали величать Пужаловой.
По мосту Филумов с девицей перешли на левый пологий берег. Она жила за Знаменским монастырём. Его шатровая кружевная колокольня белела издали. Филумову на миг показалось, что вот сейчас, вдруг, из леска за монастырской стеной, под гитарный звон покажется разноцветный цыганский табор с пляшущими медведями, держащими балалайки в мохнатых лапах.
– А что, медведи у вас водятся? – спросил он девушку.
Вопрос прозвучал неожиданно. Она удивлённо посмотрела на Филумова ясными глазами.
– Нет. Давно не видели.
– А цыгане?
Девица удивилась ещё больше.
– Встречаются, но не часто.
– Красиво тут!
– Да, очень! Только скучно. Клуб, танцы… кино ещё и всё.
Он проводил её до калитки. И девушка была хорошая, наивная, не испорченная, и деревянный домик с резными кокошниками мило улыбался из-за берёз, но в сердце его была лишь одна Натэлла, и, как бы ни боролся с собой, забыть он её не мог – за четыре года встреч слишком прикипел к ней душой и телом.
Пока он был несвободен, и впереди ещё более полутора лет службы. Местных пацанов он не боялся. В городке моряков уважали и не задирались. Был тут сложившийся годами негласный закон: моряков не трогать. Филумов знал, что, проводив девушку, он сюда уже никогда не вернётся, а скоро они с командой и вовсе покинут этот уютный городок, спокойную, тихую речку, и от этого на душе было легко.
Несмотря на вольницу, Филумов умудрился заработать два внеочередных наряда. Подвели неумеренные возлияния Бахусу. За год с небольшим он от алкоголя отвык. А тут по дороге на танцы увлёкся, прикладываясь к бутылке то у одной компании сослуживцев, то у другой, и пока поднялся к танцплощадке на Пужалову гору, опьянел вдрызг. Так что ни о каких танцах и речи быть не могло. Отключился напрочь. Последнее, что помнил, – это как под аккомпанемент какой-то задорной музычки нетвёрдыми шагами уходил от танцплощадки между стволами сосен в перелесок.
Очнулся ночью. Кругом было тихо и совершенно темно. Увидел мерцающие россыпи звёзд между темнеющими шапками сосен. Рядом никого не было. Провёл рукой по голове – бескозырки нет. Пошарил вокруг по траве, но не нашёл. Не мог понять, где он и как здесь оказался. Постепенно начал вспоминать. «Хоть бы фонарь какой!» Пошёл наугад, во тьме спотыкаясь на лесных ямках и бугорках. Было ощущение, что он спускается куда-то вниз. Вдруг стал натыкаться на какие-то заборчики и оградки. Только через некоторое время понял, что идёт по кладбищу. Во мраке смутно чернели советские звёзды и православные кресты надгробий. Цепляясь за металлические прутья, петляя в проходах между могилами, Филумов кое-как пересёк кладбище и увидел внизу свет далёкого фонаря. Наконец, он спустился с холма на пустынную улицу. Куда идти дальше, не знал и даже не был уверен, в Гороховце ли он находится. Издали увидел идущего навстречу прохожего. Когда мужчина приблизился, Филумов обратился к нему:
– Скажите, а это Гороховец?
Мужчина дико посмотрел на заблудившегося матроса и подтвердил, что да, и объяснил, как пройти к общежитию судостроителей.
Филумов добрался до общаги, когда уже светало. Свалился на койку и проспал часа три. После подъёма ему объявили, что он наказан и должен заступить «на тумбочку». Стоять у тумбочки двое суток было глупо и более противно, чем валяться пьяным в лесу или ползти ночью через кладбище.
Дебаркадер. Шторм. Сон
Но вот вольные деньки в Гороховце подошли к концу. Экипаж несколько раз был на верфи. Матросы помогали судостроителям заканчивать корабельные работы. Впереди их ждала Ока, за ней Волга.
Чкаловск на берегу Горьковского водохранилища, досдаточная база судостроительного завода. Здесь их водолазный бот, перед тем как двинуться вниз по Волге, должен был пройти ходовые испытания.
Никто не помнил, как деревня Василёва слобода стала посёлком Василёво. Произошло это как-то незаметно к середине XIX века. Зато известно, что в 1937 году лётчик Валерий Чкалов перелетел через Северный полюс в Америку – и Василёво, где он родился, срочно переименовали в Чкаловск. Трудно представить, что чувствует человек, когда он ещё жив, а посёлок уже назван в его честь? Наверное, наступившее бессмертие или приближение смерти? Неприятное чувство. «Не хотел бы я быть на его месте», – подумал Филумов.
Чкаловская база – это дебаркадер, проще говоря, дом на воде. Несуразная вещь. Символ безволия, ненадёжности и временности человеческого жилья. Судно, которое никуда не может уплыть: без двигателя, штурвала и руля. Зато его можно в любой момент переправить по воде на буксире и поставить в другом месте.
Рядом к причалу был пришвартован и их корабль. Жизнь команды ещё сохраняла элементы свободы и демократии. День проводили на корабле: каждая боевая часть осматривала своё новое хозяйство. Механики, водолазы, радиотелеграфисты, сигнальщики, боцманская команда включали и проверяли своё оборудование, комплектность запасных частей, вместе с заводскими маляршами красили каюты. Пока заканчивали покрасочные работы, жили в кубриках на дебаркадере. Тут уже никакого поста и тумбочки не было. Спали где придётся. К вечеру по коридорам и кубрикам гулял дух разведённого спирта, все малярши были разобраны по кроватям вне зависимости от возраста и внешних данных. Женщины к подобным нравам были привычные, и ехали из Гороховца в командировку уже морально готовые, зная, что к чему.
По пьяному делу случались эксцессы. Филумов и здесь сумел отличиться: подрался с мичманом-водолазом. Так как-то, слово за слово, то да сё – мичману что-то не понравилось, стукнул Филумова в личность, ну и тот не стерпел, приложился пару раз с оттягом. Шум, гам, гранд шкандаль! На утреннем разводе оба сияли подглазными фонарями. Мичману командир ничего не сказал, а у Филумова спросил про синяк под глазом: мол, откуда. На что матрос прямо и честно ответил, что споткнулся, когда спускался по трапу, и нечаянно ударился о переборку. Командир недоверчиво и строго поглядел на матроса и сказал, что если матрос Филумов ещё раз так неудачно ударится, то дисбат ему обеспечен. В наказание командир приказал на всё время перехода до Севастополя перевести Филумова из радиотелеграфистов в боцкоманду. К чему тот отнёсся чисто философски и подумал: «Ну и хрен с тобой, побуду на свежем воздухе, всё лучше, чем в душной радиорубке». Тем более что боцманскую науку он прошёл ещё в начале службы на корабле и знал, как держать кранцы во время швартовки, драить шваброй палубу, наматывать швартовы на лебёдку, отдавать и поднимать якоря.
С мичманом они, кстати, помирились, тем более что, как позже оказалось, делили одну маляршу на двоих. Выяснилось это, уже когда корабль уходил из Чкаловска: наступил волнительный час расставания, и любвеобильная малярша обнималась и целовалась сначала с мичманом, а потом тут же и так же весело прощалась с Филумовым.
Высоконравственный читатель может воскликнуть:
– О темпера, о морес! – и будет, несомненно, прав.
На что участники этой драмы, в свою очередь, могут ответить:
– Се ля ви, месье.
Ходовые испытания закончены.
Ну что же, пора в путь, «пора, мой друг, пора!..» Прощай, Чкаловск, прощай, «Василёва слобода», вотчина князя Василия, сына Юрия Долгорукого, бурлацкая волжская столица. Прощай и ты, безымянный многострадальный дебаркадер. Ты многое повидал на своём веку и, наверное, многое ещё увидишь, только уже без этого экипажа…
Поскольку бот был экспортным, ему запрещено было идти своим ходом – мало ли что может случиться. К тому же, чтобы двигаться по реке, нужен опытный лоцман. Поэтому бот решили пришвартовать к сухогрузу река-море. Сухогруз должен тащить его до Волго-Донского канала и потом по Дону до Жданова. Бот подошёл своим правым бортом к левому борту сухогруза, который ждал его на рейде Рыбинского водохранилища, с носа и кормы плотно пристегнулся стальными чалками, и так, в обнимку, как два добрых товарища, они двинулись вниз по матушке по Волге.