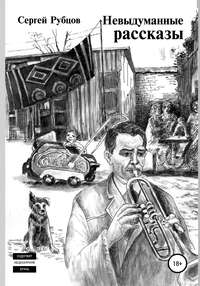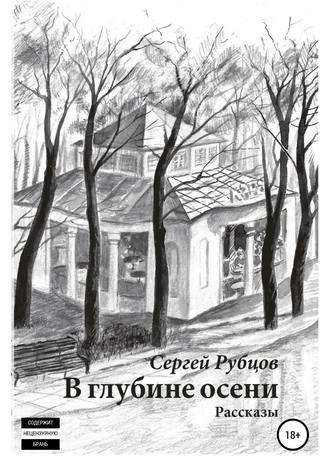 полная версия
полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
Миновали Горьковскую ГЭС, прошмыгнули Заволжье и Городец. После водохранилища полукилометровая Волга показалась неширокой. Теперь до Волгограда остановок не будет. Встречные пароходы приветствуют друг друга резкими мощными гудками. Тянутся баржи с песком и щебнем. Берега – правый высокий и левый пологий луговой – привычно глядят на неспешное движение могучей реки. Филумову казалось, ничто не может отменить этого издавна заведённого порядка, и он был не прав…
Волга не замедлила выказать свой норов.
Часа через три показался Горький со своими набережными, портом, причалами, древностями и новостями. Бот под бочком у сухогруза гордо проследовал мимо засыпающего города.
Ночь. Горят огни в ходовой рубке и на верхней палубе сухогруза, огни плывут навстречу, обгоняют, покачиваются и моргают красными глазами бакенов, вспыхивают по ночным сонным берегам. По громкой связи передают музыку, из динамиков звучат песни советских композиторов. Командир с большей частью экипажа ушёл на пароходик-кинотеатр, который без остановки, на ходу пришвартовался к сухогрузу, смотреть фильм. На борту осталось человек пять-шесть. Филумов удивлялся – чего только нет на Волге, даже плавучее кино! Он на эту ночь был назначен вахтенным, сидел на баке своего бота, разглядывал звёзды. Ветер усиливался, становилось прохладно, и он кутался в бушлат. От нечего делать про себя читал стихи, которые мог вспомнить, и мурлыкал под нос песни. Яростные порывы южного ветра поднимали волну, бьющую в нос бота. Волга преобразилась: из медленной и спокойной реки превратилась в бурлящее море, удары волн становились всё резче.
– Славное море, священный Байкал!.. – орал Филумов.
С каждым новым ударом волны нос корабля всё сильнее отрывало от борта сухогруза, и после особенного мощного рывка стальные носовые швартовы не выдержали и лопнули. Бот отвалил от борта сухогруза, и его стало разворачивать по течению. Кормовые тросы срезало, словно гнилые нитки. Корабль оторвало полностью и понесло во тьму бушующей реки, к берегу, на мели и камни. Филумов кинулся вниз, в каюты, где находились оставшиеся члены экипажа.
– Мужики! Нас, кажись, оторвало! – крикнул он.
– Оторвало или кажись?
– Точно оторвало!
Все кинулись на верхнюю палубу. Кругом бурлили волны, неслись навстречу огни бакенов и проходящих судов, неминуемо приближался берег. На их счастье, на борту остался один из механиков. Несколько человек бросились в ходовую рубку, завели дизель, и корабль стал управляем. Отвернули от берега ближе к середине реки. Филумов по рации связался с сухогрузом. Там киносеанс уже закончился. Командир с экипажем вышли из кинотеатра на борт сухогруза, но с удивлением обнаружили пропажу своего бота. Командир по рации дал команду: «На боте! Отдать якорь, стоять и ждать! Мы подойдём на киношном пароходе».
С грохотом отдали оба носовых якоря. Болтались на середине Волги в ожидании командира и экипажа. Они вскоре показались на горящем огнями весёлом пароходике, выстроившись вдоль борта, приготовившись к абордажу, подобно пиратам Карибского моря. Они весело кричали, приветствуя героев, спасших корабль. Филумов почему-то не радовался. Он держал кранец (плетёный из капроновой верёвки мешок, наполненный пробковой крошкой), чтобы при столкновении двух посудин не помялся привальный брус и бок экспортного бота. Киношник не стал швартоваться, подошёл вплотную к боту, едва не касаясь борта. Команда разом перепрыгнула с борта на борт, а плавучий кинотеатр, отскочив, словно ошпаренный, стал быстро удаляться в штормовую тьму. Филумов тоскливо глядел ему вслед: он с удовольствием уплыл бы сейчас вместе с ним, подальше от этой ненавистной службы и круглой рожи командира, куда глаза глядят – так ему всё обрыдло.
Суета постепенно улеглась, и командир вызвал моряков-спасителей в ходовую рубку. Благодарил за бдительность и хладнокровие, умелые действия в сложной нештатной ситуации. Награда – по стакану разведённого спирта на брата. Филумов залпом осушил стакан. Спирт обжог пищевод и упал на дно желудка, но не принёс ни радости, ни покоя – напротив, стало ещё гаже. Он спустился в каюту и упал на свою койку.
Ближе к Казани было ему сонное видение: среди бурных волжских вод поднялся (или поднялась?) из глубины Рыба-кит, блестя чёрной крутой спиной, – подобие каравая, каким встречают именитых гостей, – на вершине которого матово светились солонки, перечницы и горчичницы кремля, звонкие колокольни и пряничные маковки теремов, огороженные белокаменной стеной. Вокруг лепились в абстрактном беспорядке торговые ряды посада, лабазы, крестьянские бревенчатые избы. Темень. Разгул. Гул. Пляски с местными матрёшками под водку с икрой, трень-брень балалаек, грай сопелей и сладкие переливы гуслей. Два дрессированных медведя пилили бревно двуручной пилой, называемой в народе «Дружба-2», и никак не могли распилить.
Дерьмо полное!
«А у каждого молодца капает с конца! Трень-ди-брень… нас на бабу променял». Кого-то тащили на дыбу, сажали на кол, рубили руки-ноги, головы. Головы, руки и ноги, веселясь сами по себе, плясали «Барыню». Медведи закончили пилить бревно и принялись за плотника. Царевна Лебедь сладострастно извивалась в волнах. На краю Чуды-юды стояли, выстроившись в ряд, хмельные бородатые стрельцы, глядели на царевну, пускали слюни, онанировали и кончали в набежавшую волну.
– Натэлла!
Рука Филумова, ощутив знакомое родное тепло, скользнула вдоль плавной линии спины к упругим округлостям попки, впадинам и изгибам бёдер, к мелким пупырышкам на внешней стороне и шёлковой нежности внутри, к густым зарослям, внутрь горячего лона, в желанную бездну. Всё его тело превратилось в желание. Вторая рука двигалась вверх, через волнистые предгорья, поднималась по склонам небольших упругих холмов, искала их острые вожделенные вершины. Он почувствовал на своих губах родной вкус её нежных губ, язык коснулся её языка, шевелящегося в тёплой влажной глубине её рта. Полёт, невесомость, истома… конвульсии истомившейся плоти… резкие толчки внизу живота и разливающееся липкое тепло…
Филумов очнулся. В каюте полумрак, в углу под подволоком (или, как говорят на суше, под потолком) слабо светит ночной фонарик. В паху сыро – теперь придётся обмываться, стирать и менять исподнее. «Чёрт бы побрал эту службу! Издеваются они, что ли? В девятнадцать лет запирать парней в консервную банку, за заборы, за колючку. Вместо того чтобы кувыркаться сейчас с Натэллой, наслаждаться жизнью, рожать детей, писать картины – валяйся в этой вонючей каюте, кончай в штаны. Суки!»
Он перевернулся с живота на бок, опустил ноги, нащупал ступнями свои вьетнамки и поплёлся в гальюн (или туалет).
Картошка
На одной из пристаней командиры подсуетились и отоварились у местных крестьян картофелем. Набрали мешков двадцать. Матросня было обрадовалась, раскатала губу: «Щас волжской картошечки поштефкаем».
Ага, угадали!
Оказалось, это они для себя прикупили, а вам, матросики, вон сульфированная, порошковая из жестянок. Она по вкусу и на картошку-то не похожа: замазка какая-то безвкусная, не поймёшь, чего жуёшь.
Ну да срочной службе не привыкать – едят, что дают. Без обиды!
Только перед Камышином подзывает старпом молодняк и приказывает тащить мешки картофельные на бак – перебирать. Салаги – народ подневольный: взялись за мешки, потащили. Только Филумов упёрся и ни в какую. В отказ: «Если бы корабельную, я бы молча и с милой душой, а их домашнюю, пусть сами дома перебирают. Нашли дармовую рабсилу! Не пойду».
Старпом промолчал, недовольно почмокал губами и потянулся докладывать кэпу (командиру корабля).
Если рассудить, с одной стороны, налицо неподчинение приказу, с другой – картошка личная, к службе отношение не имеет. Филумов прикинул, что через неделю они уже будут в Севастополе, он вернётся на свой корабль, и там этот кэп ему уже не командир. Неделю как-нибудь можно продержаться. Карцера на боте нет, так что посадить его некуда.
Кэп тоже всё это сечёт, да и зачем ему лишние разборки, ему бот надо гнать дальше, в Ливию, к чему рисковать девятью месяцами, а может, и годом загранки – там боны капают, тут оклад жалованья, само собой, идёт. Но проучить оборзевшего салагу (Филумов тогда прослужил чуть больше года: по флотским меркам – «молодой») всё же необходимо, а то другие от рук отобьются.
Филумова вызвали в каюту командира. «Бог не выдаст…» – подумал Филумов, поднялся по трапу и постучал в дверь командирской каюты.
Кэп – капитан-лейтенант Кашкин, мужчина лет сорока, с круглым полным лицом, лысеющим черепом и светло-рыжими волосиками, коренастый (по слухам, занимался боксом), в белой майке и тёмно-синих трениках. Он открыл дверь и молча кивнул: мол, заходи. Филумов протиснулся в небольшую каюту, огляделся – тесно, отойти в сторону, если что, не получится. Кэп закрыл дверь и стоял напротив, он был на полголовы ниже Филумова, но это сейчас не имело значения. Филумов был готов к неожиданностям, но полностью увернуться от удара справа не успел, лишь несколько отклонился и немного его смягчил, и тут же получил удар слева по корпусу. Кашкин осторожничал, бил вполсилы – явно боялся оставить синяки. Но Филумов знал, что отвечать нельзя, даже одним ударом, иначе трибунал и дисбат, а такая перспектива ему не улыбалась – ему домой надо! Обидно, конечно, но не больно, можно терпеть – зубы целые.
На этом экзекуция закончилась, и Филумов спустился в свою каюту. О том, что произошло в каюте командира, он никому не сказал. На расспросы друзей-матросов отвечал коротко: «Так, поговорили».
Размышляя над случившимся, Филумов пришёл к выводу, что Кашкин просто дурак и трус. Экзекуция только тогда имеет смысл, когда производится публично, чтобы другие молодые матросы видели власть командира, боялись командирского кулака и знали, что с ними будет в случае неповиновения. Для этого командиру, хоть это звучит странно, необходима сила и смелость.
Экзекуция в каюте командира с глазу на глаз – глупость. Без свидетелей она безопасна для Кашкина, но по этой же причине бесполезна, потому что не могла никого устрашить или привести в чувство. Надо принять во внимание, что команда по приёмке бота была сборной, временной, с разных кораблей. За два месяца вольницы дисциплина команды разболталась, но Кашкин за всё это время ни разу не проявил себя как жёсткий, волевой офицер, никого не наказал, не распёк, сам потихоньку расслаблялся, что его авторитету явно вредило. В поведении командира не было последовательности: надо было либо всё это время держать команду в ежовых рукавицах, либо тихо-спокойно довести корабль до Севастополя. А тут, понимаешь, он решил втихую употребить силу, да ещё по такому мелкому поводу, как картошка.
«Ну, вывел бы, если такой смелый, непослушного матроса перед строем и стукнул бы пару раз для острастки. Так ведь нет, боится. Трус!»
К тому же Филумов считал, что Кашкин по-человечески обязан ему, Филумову, ведь именно он спас легкомысленного капитан-лейтенанта от наказания, когда бот оторвало от сухогруза. Если бы матрос Филумов прозевал, заснул или хоть на время ушёл со своего поста на баке, если бы не кинулся в нижние каюты, не поднял бы товарищей, то через полчаса, а то и раньше, кораблик сидел бы на мели, и не факт, что волжское дно в этом месте оказалось бы песчаным, а вдруг камешки? А это значит – помятое днище, а ещё, не дай бог, пробоина, и, возможно, не одна, течь и так далее… Но и без камней и пробоин шуму было бы выше крыши – пришлось бы вызывать буксир, снимать бот с мели, стало бы известно в Севастополе (а кораблик продают в братскую Ливию, между прочим, за валюту). Возникли бы вопросы: «А где в это время обретался ты, дорогой товарищ Кашкин? И что ты изволил делать? А, так ты об это время кинишку смотрел? На другом пароходе? Почти со всей командой? Хорош, нечего сказать…»
«И не видать бы тебе, капитан-лейтенант Кашкин, козёл ты вонючий, никакой Ливии, ни валютных бонов, ни импортной аппаратуры, ни золотых побрякушек для супруги, ни заграничных джинсов для сынишки, как своих поросячьих ушей. А вместо «спасибо» получи, матрос Филумов, по морде. Да ещё под дых, на тебе! За то, что картошечку нашу домашнюю не захотел обиходить. Вот тебе, паря, благодарность за службу от лица командования. Ну и хрен вам в обе руки, дорогие товарищи командиры!» – матерился про себя Филумов, ворочаясь на своей коечке в полутёмной каюте.
Ничего этого Филумов Кашкину не сказал. Бесполезно!
Однако перебирать картошку его больше не заставляли.
Волго-Дон
Тем временем сухогруз, а вместе с ним и водолазный бот Филумова, подходил к Волгограду. Впереди Волго-Донской канал и тринадцать шлюзов. В Сарептском затоне бот отшвартовался от сухогруза – иначе не пройдёшь, ширина шлюзов не позволяет.
Здесь Волга, по существу, заканчивается. За вторым шлюзом вода в канале уже донская. А Волга течёт себе дальше, к Астрахани, и как известно, впадает в Каспий.
Но Филумову с командой нужно дойти до Севастополя, и значит, пройти шлюзы Волго-Дона и дальше от Калача по Дону, в Азовское море, через Керченский пролив – в Чёрное, а там вдоль крымского бережка ещё маленько, а тут уже недалеко и до родной Стрелецкой бухты.
Вот и памятник Ильичу на берегу у входа в первый шлюз. До ХХ-го съезда на этом месте стоял совсем другой монумент – отцу всех народов и лучшему другу физкультурников, родному и любимому товарищу Сталину. Внешне памятник почти не изменился. Складывалось впечатление, что к фигуре Сталина просто приладили голову Владимира Ильича, одели в пальто и отобрали знаменитую трубку.
Одному богу известно, сколько безымянных тел лежит в земле по берегам канала: советских заключённых и пленных немцев, и всех тех, кто воевал на стороне фашисткой Германии (первых участвовало в строительстве более ста тысяч, вторых – около ста тысяч, из почти миллиона строителей канала). Да, был рабский труд уголовников и политзаключённых, невинные жертвы. Однако, за хорошую работу можно было сократить срок заключения: на трудных участках один день засчитывался за два, а на особенно сложных – за три. У многих срок заканчивался, но они не покидали стройки. Три тысячи досрочно освобождённых получили различные правительственные награды, пятнадцать награждены – орденами Трудового Красного Знамени.
Не всё так однозначно в этой истории. Были и ударный труд, и энтузиазм, и ехали со всей страны вольнонаёмные строители, комсомольцы и выпускники училищ, фронтовики и просто демобилизованные.
Все знали: стране нужен этот канал, а значит, нужен и им, советским людям. Об этом мечтал ещё Пётр I и предпринял попытку соединения двух великих рек, но подобный прожект был не под силу даже такому гиганту, как наш император.
Не смогли этого сделать и все последующие русские цари. Три десятка проектов, созданных царскими инженерами, закончились ничем. Главным препятствием к их осуществлению стали интересы помещиков и владельцев железных дорог, которые просто не давали разрешения на проведение строительных работ на принадлежащей им земле. У Петра были и воля, и власть, и человеческие ресурсы, но не было научных кадров, требуемых строительных материалов (цемента, например) и мощной техники. Такое строительство стало возможным только в ХХ веке, в социалистической стране.
Необходимо помнить и осуждать культ личности Сталина, тоталитаризм и репрессии, но невозможно отрицать героизм и стойкость нашего народа при создании сети железных дорог, электростанций, заводов тяжёлой промышленности и машиностроения, военной техники, разработок новых рудников и шахт – и всё это за двадцать лет после окончания гражданской войны и перед началом Великой Отечественной.
Но тем, кто умирал от непосильного труда, болезней и голода от этого было не легче. Да и что значила единичная человеческая жизнь, когда на кону была судьба страны, выживание государства! Самое мерзкое в преступлениях Сталина – ничем неоправданное, бессмысленное истребление собственного народа. Тысячи людей умерли в зимних промёрзших вагонах от холода, без пищи и воды (они не доехали до мест заключения), десятки тысяч заморили на лесоповалах и в рудниках. Тут и члены семей репрессированных, и взятые по «закону о колосках», за неосторожно брошенную фразу, за анекдот. Нельзя забыть тех, кто умирал на строительстве железной дороги в магаданской тайге, которая никуда не вела. Да мало ли погибших от пыток, расстрелянных, замученных в лагерях – им несть числа!
Люди погибали на строительстве каналов, БАМа, Кузнецкстроя, Комсомольска-на-Амуре, но эти жертвы, как бы это ни звучало кощунственно, всё же можно как-то оправдать: они умерли не зря. Мы, их потомки, должны склонить головы перед их памятью, попросить у них прощения и сделать всё, чтобы подобное не повторилось.
Ни о чём об этом Филумов не думал. Глядя на приближающуюся триумфальную арку первого шлюза, на открывающиеся многотонные ворота, он ещё не знал о том, что его бабушка Вера, живущая в Волжском, мимо которого он прошёл только что, отсидела десять лет с 1940-го по 1950-й год как член семьи репрессированного, и его мама воспитывалась с восьми лет в детском доме. Повидать бабку в этот раз ему не пришлось, они не останавливались в Волгограде. Не знал он и о том, что его дед Иван Филиппович был осуждён осенью 1941-го года по «закону о колосках», получил срок три года, умер весной 1942-го и похоронен неизвестно где. Об этом он узнает только тогда, когда вернётся домой после службы – и мама расскажет ему трагическую историю их семьи. На вопрос Филумова, почему она раньше молчала, она ответит, что, зная его вспыльчивый характер, они с отцом боялись, как бы он не наломал дров.
Бот вошёл в шлюз, ворота закрылись, боцманская команда, в которую был переведён Филумов, выстроилась вдоль бортов, держа в руках концы кранцев. Вода в шлюзе забурлила, и судно стало бросать от одной стенки шлюза к другой. Кранцы скрипели и кряхтели, зажатые между привальным брусом и стеной шлюза. Бот медленно поднимался. Девять шлюзов – вверх на высоту 88 метров, четыре – на 44 метра вниз.
Впереди ещё двенадцать шлюзов и почти сотня километров водного пути – часов десять ходу до Калача, потом – Цимлянское водохранилище и стоянка в Ростове-на-Дону.
При входе в каждый следующий шлюз звучала команда «Баковым – на бак, ютовым – на ют!», звучал звонок аврала, заменяющий дудку боцмана, звучащий как повторяющаяся буква «А» в азбуке Морзе: ти-та-а-а-а, ти-та-а-а-а, ти-та-а-а-а… И каждый раз, матерясь и чертыхаясь, ребятки из боцкоманды, а вместе с ними и Филумов, выбегали на верхнюю палубу, чтобы держать кранцы.
Промежутки между авралами сначала были частыми: расстояния между первыми девятью шлюзами небольшие, 700—800 метров. Оставшиеся четыре шлюза прошли спокойнее, к ночи миновали последний.
Вот и Дон, Цимлянское водохранилище! Далеко во тьме мигают огоньки, вытянувшиеся вдоль противоположного невидимого берега созвездия разноцветных светлячков – Калач-на-Дону.
Корабль снова пришвартовали к сухогрузу и пошли вниз по Дону к Ростову. Матросики, измотанные Волго-Доном, наспех поужинали, тут же свалились на свои коечки и мгновенно заснули.
Утром уже стояли на рейде в Ростове. Человек пять под чутким руководством старпома уволились на берег: у них были родственники в городе. Филумова здесь никто не ждал. Он остался на корабле, невидящими глазами смотрел на дома, стоящие по берегам Дона, на проезжающие по набережным автомобили. Всё это было для него чужим, случайным и ненужным.
Весь путь до Жданова Филумов пролежал в каюте и лишь изредка выходил на верхнюю палубу покурить, подышать и посмотреть на реку. Сухогруз набрал обороты, шёл ходко, и казалось, что вода за бортом двигалась не вперёд и вниз по течению, а назад и вверх, если бы не исчезающие за кормой донские леса и холмы.
От Жданова до Севастополя
В Жданове стояли недолго: заправились водой, пополнили запас продовольствия и подождали буксир – он должен тянуть бот дальше, через Азовское море, в Севастополь.
Пристегнулись носовым тросом к пожилому прокопчённому буксиру. Он взревел дизелями, выдохнул кормой чёрный клуб дыма и, крикнув резким коротким гудком, потащил бот в открытое море.
К вечеру ветер усилился. Серые тяжёлые тучи слились с серо-зелёной водой. Волнение усиливалось, и вскоре кораблик замотала бортовая и килевая качка. Невысокие поначалу волны на глазах превращались в бурлящие валы. Из ходовой рубки поступила команда «Задраить все двери и люки, и никому не выходить на верхнюю палубу!». Бот то глубоко зарывался носом в провалы между волнами, падал вниз, то взлетал вверх, на вершину многометровой белой от пены волны. Метрах в пятидесяти впереди нырял и упирался, преодолевая высокую волну, работяга-буксир.
Часа через три-четыре стало ясно, что нечего и мечтать о том, что шторм быстро закончится. К вечеру почти у всех появились признаки «морской болезни». Все ребятки, кто был свободен от вахты, лежали вповалку. Кого-то сильно мутило, кто-то блевал, сидя на корточках и держа ведро между коленями, кто-то стонал, лёжа на коечке. По кораблю, покачиваясь и с трудом передвигаясь, бродили призраки матросов с бледно-голубыми лицами. Сколько может выдержать человек, если его поместить в железную бочку, которая болтается несколько суток вверх-вниз и с бока на бок?
Филумова тоже мутило, и он ходил бледный, как мертвец, но держался, и до рвоты дело не дошло. На следующий день он уже оклемался и чувствовал себя вполне сносно.
Рулевых было двое, они менялись каждые два часа и совсем выбились из сил. Командир Кашкин по внутренней связи попросил всех, кто может, постоять у штурвала. Филумову надоело валяться на коечке, и он решил, что постоять на месте рулевого будет интересно – когда ещё представится такая возможность.
Штурвал современного корабля совершенно не похож на старинное деревянное колесо с ручками. Это небольшой металлический руль, который можно легко поворачивать одной рукой. Филумов стоял у штурвала и держал курс на корму идущего впереди буксира. Волны били в нос бота, переваливались через ходовую рубку, и Филумову приходилось всё время выравнивать курс. Корабль зарывался в волну, полностью уходил под воду, выныривал и снова исчезал. Тело бота трясло мелкой дрожью, и казалось, что оно вот-вот развалится на части. Но страха или паники никто не испытывал. Судно было герметично задраено, конструкция крепко сварена и рассчитана на шторм более жестокий, нежели нынешний. Филумов смотрел в большие квадратные иллюминаторы ходовой рубки. Внизу, в тумане, он видел мокрую палубу бака с якорной лебёдкой и нос корабля, летящий то вниз – и тогда море било всей своей мощью в стекло иллюминаторов, то вверх, взлетая на гребень серо-зелёного вала; он испытывал некое подобие вдохновения, кураж и восторг героя, противостоящего неумолимой враждебной силе.
Несмотря на то что он два раза тонул, Филумов не боялся воды. Это была его стихия. Он сначала научился нырять и только потом плавать. Чуть не утонул, когда в семь лет в первый раз поехал в пионерский лагерь. Он занырнул слишком глубоко, и когда попытался встать на дно, то оказалось, что ему там «с головкой». Сначала он очень удивился, потом испугался и начал истерично бить руками и ногами по воде. На его счастье, рядом плавал пацан из старшего отряда, он и подтолкнул малыша ближе к берегу. Но этот случай не отвадил легкомысленного ныряльщика от реки, и он вскоре быстро научился держаться на воде.
Во второй раз Филумов едва не утоп в Балтийском море, когда отдыхал летом на Куршской косе в посёлке Пярвалка. Было ему тогда пятнадцать лет, он активно занимался спортом и плавал уже прилично. Его самоуверенность чуть не стала причиной гибели.
В тот день штормило. Над пляжем трепыхался чёрный флаг, а это значило, что купаться сегодня запрещено. Волны с грохотом и шумом падали на берег, поднимая со дна песок и мелкие камни. Отец Филумова ушёл играть в карты со знакомой компанией отдыхающих. У берега барахтались немногочисленные купальщики, прыгали в налетающий кипящий прибой – он закручивал их беспомощные тела, срывал плавки и лифчики, переворачивал, тащил по дну и безжалостно выбрасывал на прибрежный песок.
Филумов с приятелем из Калининграда – они познакомились на пляже – решили сплавать на отмель – это метров двести от берега. Дно от берега сначала полого опускалось в глубину, а затем резко поднималось, образуя песчаную мель. Там в спокойную погоду можно было постоять и отдохнуть. Плавали оба хорошо, приятель вообще вырос на море. С берега казалось, что отмель недалеко, рукой подать. Недолго думая, поплыли.
До мели добрались довольно быстро. Однако путь по волнам показался в два раза длиннее обычного, и сил, чтобы доплыть туда, понадобилось больше. Но это было не страшно. Трудности начались, когда парни добрались до отмели, и казалось, что она тут, под ними, но едва они вставали на неё, чтобы отдохнуть, как мощный вал смывал их в сторону берега, в яму. Каждый раз они упрямо пытались вернуться и устоять на проклятой отмели, но раз за разом картина повторялась. Через полчаса бесполезной борьбы приятели совершенно выбились из сил, и Филумов каким-то звериным чутьём почувствовал, что ещё десять минут – и сил не останется совсем, придётся идти ко дну. Он с тоской посмотрел на залитый солнцем пляж. Теперь ему показалось, что берег так далеко, что они не смогут вернуться. Увидел, как бегает по берегу отец. В эти минуты он понял, что такое, как говорят лётчики, «точка невозврата»: у них просто не хватит сил, чтобы дотянуть до берега, и надо сию минуту решать – оставаться здесь навсегда или всё же попытаться вернуться назад. Сил уже почти не осталось. Калининградский друг барахтался рядом, и Филумов видел его широко раскрытые от страха глаза, успел ещё подумать: у него самого, наверное, такие же.