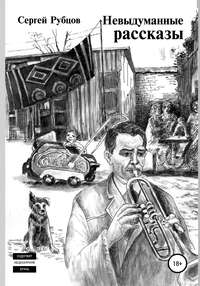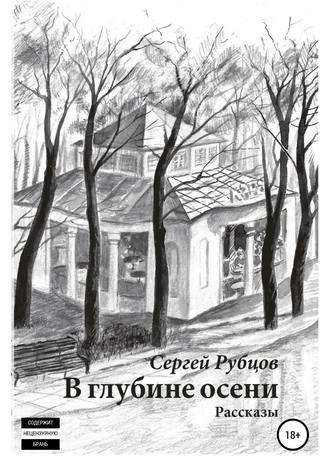 полная версия
полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
3. Рассказы по-флотски
До присяги
День Победы
9 мая в 9.00 Филумов был в военкомате Ленинского района. В самом большом помещении рядами были расставлены стулья, на которых сидели призывники. Их по очереди вызывали к столу, и неизвестный подполковник забирал паспорта и выдавал военные билеты. Призывников набралось около ста. Часа через полтора процедура подошла к концу. Во двор военкомата въехали автобусы. Погрузились. Ещё раз проверили по спискам – все ли на месте. Автобусы выехали из двора военкомата и повернули по улице Горького направо и двинулись друг за другом к площади Гедиминаса.
Город готовился к ежегодному военному параду и демонстрации. Из динамиков громыхали победные марши и песни: «День Победы, как он был от нас далёк…»
Филумов почувствовал в тексте затаённую иронию, как он и парни, трясущиеся вместе с ним в автобусе, удаляются в пространстве и времени от праздника, от этого весеннего дня, пронизанного солнцем и прохладой, от обычной гражданской жизни.
Он не знал, сколько их будет – военных дней. Впереди армия или флот – неизвестно. Раскрыв новенький краснокожий военный билет, он вздрогнул: в учётно-послужной карточке в графе «предназначен к службе» на машинке было напечатано «подводные лодки». У Филумова неприятно засосало под ложечкой. Не то чтобы он боялся службы в подлодке, скорее был психологически не готов. Незадолго до призыва его приглашали в военкомат на собеседование, предлагали на выбор десант, морскую пехоту или морфлот. Поразмыслив, он выбрал морскую пехоту – два года, всё-таки, не три. А тут откуда ни возьмись «подводные лодки». Но это была не последняя неожиданность.
Ехали недолго: областной военкомат недалеко, от площади чуть налево. Вот и улица Тоторю. Ворота раскрылись, внутреннее пространство каменного мешка проглотило автобусы. Ворота закрылись. Все вышли и оказались окружёнными со всех сторон высокими стенами зданий. Потом их вели по коридорам и лестницам наверх. Третий этаж. Казарма с рядами двухэтажных голых деревянных нар, крашенных тоскливой тёмно-синей краской. Здесь им предстояло дожидаться отправки по воинским частям. Когда и куда – никто не знал.
В ожидании прошёл день. Потом ещё один. Утром третьего за ними приехали. Филумову сразу стало ясно, что их забирают на флот. «Купцы» были в морской форме: офицер и с ним двое старшин в чёрных клешах, в синих голландках с голубыми воротниками и в бескозырках с лентами. Впереди замаячило море и три года службы!
Собрали военные билеты. Команда, в которую попал Филумов, была небольшой – человек двадцать, не больше. Их опять посадили в автобус и повезли. Хорошо зная город, Филумов понял, что везут их не на железнодорожный вокзал, а в аэропорт. Значит, они полетят самолётом, и место службы не близко.
Филумов не смог бы сказать, что он чувствует. Им овладело странное состояние тревожной апатии, беспокойной прострации. Он чувствовал, что теперь он не принадлежит самому себе, ничего не может решить и сделать самостоятельно, что с этого момента над ним властвует чужая, непонятная, но всемогущая воля и что теперь он мелкая ничтожная часть чудовищно-огромного механизма – вооружённых сил Советского Союза. Всё это было у него только в ощущениях. Он ничего ещё не знал и не смог бы дать точных определений.
Ждали рейса невдалеке от здания аэропорта. От сопровождающего офицера узнали, что летят в Симферополь, а оттуда в Севастополь. Черноморский флот, ЧФ. Написано на погонах и на лентах бескозырок моряков, стоящих рядом с офицером.
Скоро их посадят в самолёт, и короткая, привычная жизнь Филумова, его любовь, его родной город – исчезнут, останутся где-то там, внизу, под облаками.
Обычный рейс
Филумов за свои восемнадцать лет никогда не бывал на Чёрном море. Зачем, если Балтика рядом! Куршская коса, город Неринга1. Город-призрак. В голове Филумова возникла раскалённая, асфальтированная узкая дорога, пересекающая косу поперёк – от рыбачьего посёлка Пярвалка, расположенного на берегу Куршского залива, ведущая к морю. Слева – сосновый лес. Справа – заросли низкорослой крымской ели. Её высаживали специально, чтобы закрепить почву, остановить движущиеся с моря пески…
«Крымской ели… Крым!» – прошептал Филумов. Взлетали и шли на посадку белые стройные лайнеры. Скоро их рейс.
…а он всё брёл вдоль залива, мимо маяка к песчаным горам Агилос. На берегу лежала большая рыбина с белым сверкающим на солнце брюхом. От неё шёл нестерпимый запах гниения. По всей поверхности спокойной воды до горизонта натыканы палочки сетей. Рыбацкий баркас бесшумно передвигался от одних палочек к другим. Рыбаки поднимали сеть, вытряхивали пойманную рыбу в кормовой отсек.
Здесь находит покой и отдых красавец-богатырь Неман. С вершин гигантских дюн одновременно видны море и залив.
Бродил в одиночестве среди пустынных песков. Здесь так близко небо, и так легко думается о вечности, о смерти, о любви. Видел, как из прибрежного леса к заливу вышла на водопой лосиха с двумя лосятами, попить пресной водицы. Разве тогда он думал о Чёрном море, о Крыме, о флоте?
Когда ему было лет одиннадцать, его мама сказала, что он будет служить десантником или моряком. Почему, неизвестно?.. Кажется, её пророчество начинало сбываться.
Филумов слабо представлял себе службу на флоте. Вернее, никак не представлял. Странно, но романтических ожиданий, свойственных юношам, у него не было. Одно дело – плыть по собственной воле, скажем на папирусной лодке, через тихие или атлантические океаны, и совсем другое, когда тянут к морю насильно, не спрашивая, хочешь ты того или нет. Какая уж тут романтика!
Самолёт «Вильнюс – Симферополь». Обычный рейс. Призывники, одетые более или менее прилично, мало чем отличались от обычных гражданских пассажиров. Посадка в Запорожье. Дозаправка. Снова взлёт и посадка. Симферополь. Из аэропорта на железнодорожный вокзал ехали городским автобусом. Потом сели в электричку. Несколько часов – и они в Севастополе.
Севастополь
Города не увидели. С вокзала их отвезли в береговую бригаду. Накормили и уложили спать в огромной казарме. Спали на двухэтажных металлических коечках. На одних матрасах без белья. Перевалочная база – здесь постель не положена. Утром повели на комиссию, которая должна была определить военную специальность, срок службы и учебный отряд. Пока стояли в очереди, «купцы» из других частей искали художников и музыкантов. Филумов несколько раз откликался на «художника». Офицер подходил к нему, спрашивал фамилию и номер команды, говорил, что сейчас сходит и заберёт его документы, но скоро возвращался и с сожалением в голосе сообщал, что никого из его команды не отдают, говорят – целевое назначение. Так повторилось несколько раз. Загадочная команда не отпускала. Филумов не знал, что это означало, но было ясно, что возможность служить два года, разрисовывая плакаты, уплывает безвозвратно, теряясь в жарком севастопольском небе.
Очередь продвигалась довольно шустро, и Фулумов скоро оказался у стола, за которым сидел плотный мужчина средних лет в кремовой летней рубашке с погонами капитана третьего ранга. Капитан предложил ему присесть, задал несколько обычных вопросов, затем простучал по столу нехитрую мелодию и попросил Филумова её повторить, что тот без особого труда исполнил. Офицер заполнил какие-то бумаги, отпустил его.
«В барабанщики, что ли, готовят?» – в недоумении подумал Филумов, в то же время краем глаза увидел на одной из бумаг синий чернильный штамп «3 года». Штампик загорелся в его мозгу, словно тавро: всё, служить три года!
После комиссии повели на склад, где выдали матросскую форму. «Быстро! – старшина нахлобучил на голову Филумова бескозырку на два размера больше, она закрывала глаза и лезла на уши. – Времени на примерку нет! Бери, что дают! Потом поменяетесь с кем-нибудь, перешьёте». Не считая зимней шинели и бушлата, полный вещевой мешок одежды: летняя, зимняя, рабочая, выходная, парадная. Что-то выдаётся на год, а что-то на два и на три года. Шинель и зимняя шапка, например. Нарядили в рабочее платье – это балахон, называемый голландкой, и широкие штаны из грубой толстой парусины, ремень, тельняшка, кирзовые тяжеленные ботинки на шнуровке, гюйс2 и тёмно-синий берет3.
Грубая материя рабочего платья вмиг натёрла шею и руки. Больно! Теперь уже не оставалось сомнений, приходилось верить, что он в Севастополе, он матрос Черноморского флота – и это надолго.
Утром снова по автобусам и в путь. Впереди город Николаев, школа связи, учебный отряд, или, проще говоря, учебка.
Дороги из Севастополя Филумов не запомнил. Виды из окна автобуса воспринимались, попадая через хрусталик на сетчатку, отражались и улетали обратно, не задерживаясь и не оставляя воспоминаний. Томила неизвестность: что и как будет в этой учебке? Да тревожили мысли об оставленной Натэлле, друзьях, городе.
«Учебка!» Он ничего не знал о ней. Слышал накануне, что «строгая, образцово-показательная, всё там по уставу». Легко сказать, по уставу, когда в глаза его не видел. На гражданке он как-то ни к чему. Правда, где она теперь, эта гражданка и вольная жизнь!
Автобус мотал километры. Двигались на север, от самой южной точки Крыма к узкому горлышку Перекопа. Вырвались в степи Херсонщины. Ещё несколько долгих часов по южной Украине… Наконец, въехали в город. Покружили по залитым солнцем и зеленью улицам. Подъехали. Ворота с красными звёздами раскрылись. Всё! Приехали. «Здравствуйте, товарищи курсанты!»
Николаев. Школа связи
Николаевская школа связи готовила специалистов для Черноморского военного флота: сигнальщиков, радиотелеграфистов, шифровальщиков. С виду обычная воинская часть, занимающая 2,5—3 гектара городской земли, обнесённая по периметру высоким кирпичным забором. Это небольшой городок, где есть практически всё, что нужно для проживания и обучения двух тысяч курсантов: жилые казармы, учебные здания, почта, магазин, продовольственные и оружейные склады, гараж для стоянки и ремонта автомашин, летний кинотеатр, стадион. Сразу за воротами КПП большая одноэтажная столовая.
Третья учебная рота, в которую попал Филумов, находилась в дальнем от КПП конце городка, в двухэтажном здании казармы. Лестница на второй этаж. Справа – каптёрка. Слева – умывальник и туалет. Прямо – дверь в большую на сто человек казарму. Центральный проход, называемый на флотский манер средней палубой, делит помещение на две равные части. Остальное пространство заставлено двухъярусными железными кроватями, между ними две тумбочки – по одной на двух курсантов, где хранится небогатый скарб: туалетные принадлежности, бритвенные приборы, иголки с нитками, конверты и бумага для писем, сигареты. Между коечками – пятачок в один квадратный метр.
Вновь прибывших салажат сразу взяли в жёсткий оборот. День с шести часов утра забит плотно, так что между подъёмом и отбоем в 22.00 не отдохнёшь и не расслабишься. Подъём, зарядка, умывание. Затем строем на завтрак. Передвижение по территории училища только строем или, если передвигаешься один, бегом. Одиноко идущего курсанта обязательно остановят и накажут. Один-два наряда вне очереди, а это для курсанта означает лишение сна на сутки или двое. Днём спать не дадут. Это не важно, что ты всю ночь стоял дневальным у тумбочки.
Рота делилась на два взвода. Во взводе два отделения по двадцать пять человек. Командиры отделений – старшины кто 2-й, кто 1-й статьи – такие же срочники, как Филумов и его товарищи, только прослужили на год-два больше. Старшина и днём, и ночью с отделением. Никто и ничто не пройдёт мимо его недреманного ока. Так он и проживёт на суше за высоким забором, хоть и в морской форме, все три года, не увидев ни моря, ни корабля. Но сейчас он царь и бог для зелёненьких курсантов.
Они для всех ещё даже не салаги – икра, тюлька, зелень подкильная!
Тяжко пришлось поначалу. Одна «строевая» замучает до смерти. А тут ещё жара – днём под сорок. Асфальт на плацу становится пластилиновым, плавится, мнётся под ногой. Новое полотно рабочего платья стоит колом, словно деревянное, дерёт воротом шею, стирает до крови кожу на сгибах коленей и локтей. Шагая по раскалённой разметке плаца, Филумов чувствовал, как по спине, бокам и ниже по ногам текут солёные ручейки пота. Тут он познал «суконную прелесть устава» и с какой ноги «начинается движение направо», что такое «кругом», «левое плечо вперёд» и прочую строевую тарабарщину. Строевые занятия как будто нарочно проводились днём, в самое пекло. Зато какое блаженство, когда старшина командовал «перекур!». Можно было минут десять покурить в тени, отдохнуть от невыносимой жары.
Доставали и так называемые взлёт-посадки! Это тренировки подъёма и одевания. Нужно было раздеться, лечь в коечку и после команды старшины «подъём!» успеть одеться и выстроиться на «средней палубе» за 45 секунд. Тренировки проводились после обеда, когда вроде бы должен быть отдых. Получалось не у всех, и дрессура продолжалась до тех пор, пока в норму не укладывалось всё отделение.
К этому добавлялись: разборка, чистка и сборка автоматов, изучение уставов, стирка обмундирования, дневальная служба, прохождение строем с песней и так далее – всего не перечислить.
Жизнь училища была регламентирована до мельчайших деталей, методика отработана не на одном десятке выпусков. За первые недели и месяцы из пареньков надо было выбить всю гражданскую «муть и слякоть», подчинить строгой начальственной воле и воинской дисциплине.
К столовой подходили строем. Чётко чеканили шаг – подъём ноги не ниже полста сантиметров. Останавливались. Потом по команде по одному забегали в столовую, на ходу сдёргивая береты, становились у длинных столов в ожидании, когда забежит вся рота.
Филумов как-то зазевался и забыл снять свой берет. Его остановил старшина первой статьи из другой роты, сорвал с него берет и хлопнул им по его стриженой голове. Было не столько больно, сколько обидно.
Затем следовала команда «сесть, приступить к приёму пищи!». Ближний к бачкам с едой курсант насыпал или наливал черпаком кашу или суп в алюминиевые миски, передавал соседу, тот дальше на другой край стола. На всё про всё – 15—20 минут. Закончив есть, так же по команде вставали, выбегали и строились. Рассусоливать некогда – за ними должны поесть другие роты. Ели в три смены. Курсантов больше полутора тысяч ртов. В казарму возвращались опять строем.
И опять взлёт-посадки и строевая муштра. Казалось, что этому не будет конца. Филумову постоянно хотелось спать. К тому же он растёр ногу жёстким высоким задником грубых ботинок. Рана загноилась и превратилась в большую гнойную шишку, а тут зарядка, строевая, постоянная беготня… От резкой перемены климата любая ссадина или царапина гноилась и не заживала.
Ближе к отбою на Филумова накатывала жестокая тоска. Он стоял на вечерней поверке на ненавистной «средней палубе», и от одной мысли, что впереди долгих три года и тысяча с лишком таких же беспросветных дней, невольные слёзы застилали глаза… но плакать нельзя. Нельзя показывать слабость. Ничего нельзя!
Отбой! Курсанты быстро разделись и легли в коечки. Филумов вскочил на второй ярус и затих. Кто-то ворочался. Металлические сетки кроватей издавали противный скрежет. Старшина мерно шагал в проходах между койками и время от времени грозным голосом повторял: «Скрип!» – это означало, что надо перестать ворочаться. Рота быстро затихала. Курсанты, вымотанные за день, резко проваливались в сон. Филумову снилась его Натэлла. Последние полгода они жили как муж и жена. За служебной суетой и беготнёй не было времени вспоминать её, но ночью, когда он засыпал, настойчиво звучал голос плоти, рождая желание, и яркие картины, и ощущения совокупления. Видения были настолько реальными, что он физически ощущал близость её тела. Он доходил во сне до высшей точки удовлетворения, и в казарме слышались его стоны, койка отчаянно скрипела, подпрыгивая в такт его конвульсивных толчков.
Как-то утром после подъёма старшина грозно глянул на него, отозвал в сторону и, несколько смущаясь, повелительным тоном выговорил:
«Ты бы, Филумов, прекратил эти свои безобразия!»
Филумов не сразу понял, о чём это он, и недоумённо спросил:
– Какие безобразия, товарищ старшина?
– Стонешь тут. Нехорошо. Смотри у меня. Дрочи, только тихо!»
Филумов покраснел, но объяснять ничего не стал. Старшина всё равно бы не поверил, что всё это происходит во сне и Филумов не может себя контролировать.
Днём было не до сексуальных воспоминаний. Готовились к присяге. Учили текст. Гладили парадную форму, драили пряжки медных ремней, доводили до блеска ботинки, тщательно чистили автоматы. Отрабатывали торжественное похождение строем с песней. Пели на мотив «Прощания славянки»: «Наша третья учебная рота, наша дружная флотская семья». Насчёт «дружной семьи» верилось с трудом – слишком не похожи были отношения в учебке на семейные.
Через восемь с половиной месяцев учёба закончится. Их снова ждёт Севастополь, корабли и базы Черноморского флота – служба, одним словом.
Военно-юридическое отступление
Требования уставов слабо напоминают человеческие отношения. Военнослужащий обязан выполнить любой приказ командира, каким бы нелепым или глупым он ни был. Возражения и обсуждения не допускаются – сначала необходимо выполнить, а потом уж… что обсуждать! Отказ от выполнения приказа – воинское преступление. До присяги ты ещё можешь отказаться выполнить приказ – по закону ты ещё не военнослужащий, но тогда к тебе можно применить статью УК, как к военнообязанному гражданину, уклоняющемуся от воинской службы. Неизвестно, что хуже!
Мелкие нарушения дисциплины наказываются замечаниями, предупреждениями, объявлением дополнительных нарядов вне очереди, к ним относятся: нарушения формы одежды и внешнего вида, опоздания в строй и на занятия, нарушения поведения в строю и распорядка дня и так далее. Более серьёзные нарушения (употребление алкоголя, драки, самовольное оставление воинской части, мелкие хищения, систематическое грубое нарушение воинской дисциплины) наказываются арестом с содержанием на гауптвахте. Количество нарядов вне очереди и суток ареста определяются в зависимости от звания и должности начальника, объявляющего взыскание. Тяжкие преступления (убийства, изнасилования, побои и тяжкие телесные повреждения, отказ от выполнения приказа в ходе проведения военных или учебных действий, хищения в крупных и особо крупных размерах и т. д.) расследуются органами военной прокуратуры и рассматриваются военным судом с последующим вынесением приговора.
Присяга
В этот день на торжественное принятие присяги родственников пускали в часть. Курсантов отпускали в увольнение на три часа. К Филумову должны были приехать родители. Они отдыхали неподалёку от Одессы, подгадав свой отпуск так, чтобы к этому времени приехать в Николаев. За неделю до присяги Филумов получил письмо от Натэллы – она тоже захотела в этот день прилететь к нему. Получалась полная ерунда: родители с Натэллой приедут одновременно, а у него всего три часа на всё про всё, и значит, побыть ему наедине с любимой не придётся. Не скажешь ведь отцу с матерью: «Вы тут подождите, а мы пойдём займёмся любовью». До обидного глупо получалось, а ему так нужны были её нежность и тепло. Теперь когда ещё придётся встретиться!
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь: быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников, – стоя навытяжку с «калашом» в руках, Филумов перед строем читал текст присяги, а сам краем глаза выискивал Натэллу в толпе приехавших родственников. —Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся», – он развернулся, встал на колено и поцеловал край алого знамени.
Волга
«Соломон рече: трие ми суть невозможни уразумети,
и четвертаго не вем: следа орла, паряща по воздуху,
и пути змия, ползуща по камени, и стези корабля,
пловуща по морю, и путий мужа в юности его».
Ветхий завет. Притчи Соломоновы. Глава 30, 18—19
Если начинать, то с начала. Только знать бы, где оно. У каждого человека была когда-то первая встреча со словами и понятиями. Во всяком случае, слово «Волга» Димка Филумов услышал ещё в раннем детстве, ничего не зная о нём, но уже смутно представляя нечто широкое, долгое, огромное.
Мавзолей
Он впервые увидел Волгу ещё мальчиком. Они с отцом поехали в гости к бабушке Вере в город Волжский. Долго добирались. На поезде. Сначала из Вильнюса в Москву. В столицу приехали утром – до вечера можно побродить по городу. Куда ещё направиться проезжим провинциалам в Москве? Конечно, на Красную площадь! Десятилетнему парнишке всё интересно: Белорусский вокзал, метро, широкие проспекты, высоченные домины. Димка по-птичьи задирал голову, чтобы рассмотреть крыши и башни, глядел широко раскрытыми глазами в глубокое московское небо. Всё в этой поразительной Москве после маленького уютного Вильнюса казалось куда как значительнее. Что и говорить! Одно мороженное чего стоит – такого вкусного Димка нигде не едал. Он уже съел их штук шесть или семь, когда они с отцом подходили к музею революции, больше похожему на резной ларец, чем на здание. Красная площадь со всех сторон была оцеплена рядами металлических ограждений и милиционерами, стоящими друг от друга метров в двадцати. Длинная людская гусеница за музеем ползла в мавзолей вождя. Отец с тоской посмотрел на её хвост, теряющийся за поворотом в Александровском саду. Было около часу дня, и Алексей Иванович (так звали Димкиного папу) понимал, что никакой возможности попасть в мавзолей сегодня у них нет. Очередь надо было занимать с раннего утра.
Они подошли к ограждению. Молоденький милиционер стоял на своём посту и явно скучал.
– Эх, и в этот раз не судьба Ленина посмотреть! – вслух сокрушённо протянул отец, обращаясь то ли к Димке, то ли к милиционеру.
– А что, не видели? – спросил сержант.
– Нет, всё как-то не удавалось. В Москве всё больше проездом. Я-то сегодня не успею, скоро на вокзал – в Волгоград к тёще едем – хотел пацану показать, – и он кивнул на сына.
Димка внимательно слушал разговор взрослых.
– Слушай, сержант, никак нельзя мальцу проскочить? – со слабой надеждой в голосе ласково попытал отец.
– Не положено… строго у нас с этим, – неуверенно проговорил страж порядка и стал оглядываться в разные стороны. Затем, решившись, вполголоса скомандовал Димке: – Ты, вот что, парень, пролезай через ограду и беги к очереди. Там к кому-нибудь пристроишься. Только мигом!
Мальчик немедленно юркнул между железными прутьями и стремглав понесся через всю площадь к кубикам мавзолея. Бежал он быстро и вскоре достиг людской шеренги, прижался к какому-то одинокому мужчине и взял его за руку. Тот спокойно посмотрел на незнакомого пацана:
– А ты откуда такой шустрый? Наверное, не в первый раз?
Димка промямлил что-то неопределённое, не желая выдавать доброго дядю-милиционера.
Очередь продвигалась нешибко, и через полчаса он уже стоял перед чёрным квадратом входа в полированную гранитную пирамиду, шевелил губами, читал пять магических букв и разглядывал двух застывших оловянных караульных – солдаты, не мигая, вглядывались друг в друга. Мавзолей медленно заглатывал людей. Никто не улыбался, и Димка тоже присмирел, ожидая увидеть нечто поразительное. Сделав поворот, они стали спускаться по ступеням под землю. Слышалась негромкая траурная музыка. Наконец показался небольшой, неярко освещённый зал и слева обложенный венками из живых цветов и бронзовыми недвижными знамёнами Он – всемирный дедушка и вождь рабочих людей всего земного шара, имя которого Димка слышал почти каждый день в школе, а особенно по праздникам. Он ожидал, что увидит могучего богатыря с огромной головой и большущими руками, иначе было не понятно, как бы мог этот маленький человек управлять, будучи уже мёртвым, всеми живыми людьми и странами. Но на деле оказалось – вождь вовсе не похож на богатыря, а такой же, как все, только очень бледный. Огибая гроб, Димка заметил, что тело со всех сторон закрыто прозрачными стеклянными стенками, назначение которых мальчику было неизвестно.
«Наверное, ему туда качают какой-то особенно чистый и холодный воздух, чтобы тело не пропало и мухи на него не садились. Живому-то муха нипочём, а покойник от них может сильно пострадать».
Рассуждая таким образом, Димка пристально вглядывался в мёртвое лицо гения революции, вернее в две носовые дырочки, некогда прокачивавшие сквозь себя прогорклый, дымный кремлёвский воздух. Да ещё рассматривал белые восковые кисти рук: левая ладонь, раскрытая, лежит вдоль тела, а правая – почему-то сжата в кулак.