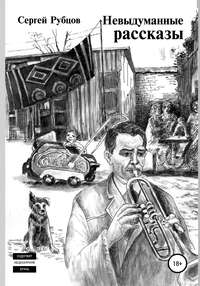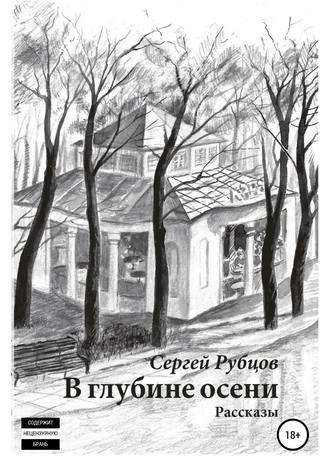 полная версия
полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
Откормочный комплекс кооператива «Заря» – двенадцать длинных большущих ферм. Теперь стояли пустыми. А было время, которое нынче почему-то зовётся «застоем», когда все эти корпуса были под завязку забиты быками и коровами. Выкармливали и сдавали на мясокомбинат до десяти тысяч голов в год. Теперь же, в годы рассвета демократии и реформ, осталось двести голов коровьего стада, которое занимает, дай бог, половину одного корпуса, да малая ферма молодняка до ста телят. Вот и вспоминали крестьяне застойное брежневское время, как самое что ни на есть райское. Не верили, что бы им ни пели «говорящие головы» из телевизора.
Скотники народ тяжёлый. На всякого пришлого смотрят зло, с недоверием и норовят проверить «на слабо́». Тяжин для них чужак. И бесполезно было доказывать, что Серёгины дед с бабкой ещё задолго до войны жили здесь, на Центральной, только на другом конце улицы, который местные называют Криушами, и что на районом кладбище бабкина могила. Особенно почему-то взъелся на него скотник Клоков, тоже Сергей. Трезвым его уже забыли, когда и видели. Постоянно придирался, подначивал и нарывался на конфликт. Тяжин терпел и на придирки Клокова не отвечал. А тут как-то слово за слово – и схлестнулись. Клоков решил перед другими показать, кто тут хозяин. Тяжин трусом не был и от драки никогда не бегал. Схватились тут же, у входа на ферму.
Поначалу, правда, Клоков на него плотно насел, повалил и, сидя на Серёгином животе, хотел его придушить. Зрители, скотники, собравшиеся вокруг, уже праздновали победу Клокова. Махали руками: мол, тут всё ясно. Только радовались они рано. Откуда они могли знать, что Тяжин в своё время в спортивном обществе «Динамо» занимался самбо, и тренер Кудрявцев не раз хвалил его и ставил другим в пример за упорную борьбу в партере. Тяжин и не думал сдаваться. Он, лёжа на спине, перехватил обе руки Клокова, ослабил захват на шее, тут же резко вскинул вверх обе ноги, мгновенно обхватил шею противника и мощным рывком прижал Клокова к земле, и теперь уже сам оказался сверху. Этого никто не ожидал. А Тяжин, не давая сопернику опомниться, стал молотить его по голове кулаками. Вскоре Клоков запросил о пощаде – и бой закончился.
Ещё не известно, чем бы всё это повернулось – друзья Клокова могли наброситься на Тяжина в любой момент. Но за дракой наблюдал Иван Стегачёв – забойщик скота, или, как проще говорили, боец. Он сидел на своей телеге, запряжённой гнедым жеребцом – собирался ехать домой – и внимательно следил за ходом борьбы.
Ивана Стегачёва уважали и побаивались. Страшной силы был мужик. С одного удара обоюдоострого клинка валил восьмисоткилограммового быка. Связываться с ним – себе дороже. Наоборот, искали его дружбы. Мясо-то в его руках. Начальство далеко, в конторе, а кто скотину режет? Иван. Он по дружбе и хороший кусок свежатинки подбросит, может, и печёнки, но́ги, там, или голову отдаст. Не только что скотники, но и специалисты среднего звена шли к нему с поклоном.
Стегачёв почувствовал, что ситуация серьёзная, и слез с телеги в тот момент, когда приятели Клокова уже заходили к Тяжину со спины. Он крутым боком встал и заслонил Тяжина от подступающих скотников. Обхватил Серёгу могучей рукой за плечи. С прищуром глянул на жаждущих крови дружков.
– Ну, будя, робяты! Идём, малый, – и он подтолкнул Тяжина в сторону.
Скотники нехотя расступились. Стегачёв с Сергеем быстро вскочили на телегу. Боец тряхнул поводьями, и гнедой, взяв с места, рысью полетел со скотного двора.
Отъехали с километр. Огляделись. Стегачёв съехал на обочину и свернул в посадки, чтобы их не было видно с дороги. Притормозил.
– Тпру-у-у, стои́. А ловко ты его подмял! – улыбаясь желтоватыми ровными зубами, проговорил Иван. – Только смотри, малый, сторожись.
– А что? – Тяжин уже отдышался и пришёл в себя.
– Так, ничего. Клоков-то, может, и отстанет. Только у него ещё два брата имеются, и это такая мразь, я тебе доложу. Могут отомстить.
– Ну и хер с ними!
– Ты, я вижу, смелый. Ладно, – Стегачёв обернулся, порылся в лежащем на телеге ватнике. Достал полиэтиленовую бутылку, наполненную прозрачной жидкостью, и пакет. Вынул и разложил на пакете нарезанное толстыми кусками сало, луковицу, хлеб, вялое сморщенное яблоко и зелёный пластиковый стакан. Налил до краёв и протянул Тяжину. – На-ка вот, хлебни.
Сергей принял стакан и почувствовал ядрёный запах самогона.
– Будем! – приподнял он стакан и разом опрокинул в себя обжигающую жидкость.
– Давай закусывай, – наливая себе, предложил Иван. Выпил, не морщась. – Ты чей же будешь?
Тяжин рассказал ему невеликую историю своих предков. Стегачёв слушал молча, внимательно, чему-то про себя ухмыляясь. Наконец, спросил:
– А как, ты говоришь, деда твоего звали?
– Иван Филиппович.
– Сапожник, говоришь?
– Да. Жили тут с бабкой Хаврошей на Криушах. Перед войной в район переехали. Я деда никогда не видел. Его в сорок первом загребли по закону о колосках. Только по рассказам отца и знаю.
– А не рассказывал тебе отец про дедова дружка тутошнего? – Стегачёв хитро прищурился. – Наливай давай.
Тяжин наполнил стакан.
– Помнится, отец говорил как-то, что дед забиякой был: как напьётся – в драку лез. И будто был у него дружок, тоже вот, как ты, забойщик. Здоровенный, как бык. Так он деда всегда из беды выручал. Только я имени его уже не помню.
Стегачёв засмеялся и по-лошадиному замотал седой головой.
– Ты чего? – удивлённо спросил Тяжин.
– Зато я знаю, как его звали, – продолжая улыбаться, таинственно проговорил Стегачёв.
– Откуда?
– От верблюда. Это мой отец! Степаном его звали.
– Да ну, вот так дела!
– Я деда твоего не застал. Я ведь в сорок пятом только родился. Но отец мне много чего сказывал про деда твово. Знатный был сапожник! И про то, как выручал он его, про драки и про всё. Да, вишь, судьба-то какая кучерявая. Теперь, стало быть, я тебя выручил.
И они хлопнули ещё по одному стаканчику. Стегачёв немного захмелел. На его крупном пористом носу заблестели мелкие бусинки пота.
– Слышь, Степаныч, а твой-то отец жив?
– Двадцать лет уж как помер.
– А что, батя твой, правда, такой сильный был?
– Не то слово! Я напротив него сморчок. Ты не боись, малый. Я тебя в обиду не дам. А с Клоковыми сам разберусь. Поговорю с кем надо. Щас тебя до дома доставлю. Мало ли что!
Они закурили, выпили стремянную и выехали на дорогу.
– Жалко! – проговорил Тяжин, лежа на телеге и подложив себе под голову ватник Стегачёва.
– Чего жалко? – не понял Иван.
– Деда жалко, Ивана Филипыча. Ни за что, за сноп колосков, пропал, и даже могилки не осталось.
– Да, время было суровое! Тут бы и мой батя его не спас.
До самого дома, покачиваясь в телеге на рытвинах и ухабах, Тяжин задумчиво поглядывал то на широкую мощную спину бойца, то в бездонную голубизну неба. Он всё удивлялся превратностям судьбы, необъяснимости людской дури, загадочности и сказочности русской природы. В жуткой небесной глубине он всё пытался что-то разглядеть, а что, и сам не знал.
– Перестроились, мать их, – Тяжин нервно вышагивал по избе, рубил рукой воздух. Клавдия недоумённо глядела на мужа своими большими выпуклыми глазами.
– Ты чего?
– Скоро по улице нельзя будет пройти. Того и гляди, прибьют среди бела дня.
– Что случилось-то?
– «Что случилось», – передразнил жену Сергей. – Сидишь тут, ничего не знаешь.
– Да ты толком говори, не собачься.
– Так я и говорю, мужика вчера у клуба убили.
– Кто? Какого мужика?
– Пацаны наши деревенские. А что за мужик, не знаю. В гости приехал, пошёл на танцы в клуб. Там эти сопляки. Всего-то по четырнадцать-пятнадцать лет. Не понравился он им. Может, сказал чего. А они пьяные в дупель, обкуренные. Пошли, мол, выйдем. Он и пошёл сдуру. Так они вчетвером его кто чем: кто ногами, кто арматурой, кто трубой – забили насмерть. Озверели совсем!
– И что теперь?
– Теперь тюрьма! В районной кутузке сидят. Судить будут.
– Страсти-то какие!
– Откуда эта жестокость? Не пойму! В семидесятые годы на весь район три мента всего было. Справлялись. Убийство редкостью было. Если одно за пять лет, и то шум на весь район. Сразу из области начальство мчалось. Что, кто, как? А сейчас что? Два двухэтажных здания, все кабинеты забиты – полна жопа огурцов. Милиция муниципальная, районная. А убийства чуть не каждый месяц. То порезали, то задушили, то забили. Я уж не говорю про мелочи. «Обо́стрили и углу́били»! Демократы сраные. Где Анька?
– На улице с подружками.
– То-то что на улице. Пусть дома сидит, во дворе своём.
– Удержишь её, как же! На цепь прикажешь посадить?
– Надо будет и посажу! – Тяжин не мог успокоиться. – Совсем народ оскотинился. У бабки Хавроши на кладбище дюралевый крест с корнем вырвали. Хорошо ещё, сам памятник не утащили. Он из нержавейки. Опять же, на пропой в цветмет сдали. Ничего святого не осталось!
Разговор этот произошёл в мае, а недели через три прошёл слух о преступлении, ещё более страшном. Двое братьев-подростков в районе вечером постучались к бабке-соседке. Что-то попросили, она им дверь открыла, впустила в дом. Знали они, что она одна живёт. Они подпитые были или обкурились. Выпить, спрашивают, есть? Старушка, говорит, самогон не гоню, и сама не пью. Стали они у неё деньги требовать. Давай, мол, у тебя деньги есть, ты пенсию получаешь. Бабушка упёрлась и не даёт. Нету, говорит, сынки. Тогда «сынки» начали её, бедную, пытать. Что уж они с ней вытворяли, одному богу известно. И цигарками жгли, и ножом кололи. Говорят, палку в задницу ей совали, порвали ей там всё. Вызнали, где она деньги хранит. Накупили самогона и пили тут же всю ночь до утра. На рассвете только ушли. Куда, не известно. Утром соседка смотрит: что-то не видать бабульки. Тихо у неё – и дверь нараспашку. Смекнула: мало ли, горе какое! Пошла посмотреть. Зашла в дом, а она уж холодная на полу лежит.
На Тяжина этот случай подействовал как-то особенно угнетающе. Что-то в нём как будто надломилось, и он запил. Пил несколько дней. Крепко пил. Вечером третьего дня возвращался домой еле живой. Темно уж было на улице Центральной и на душе у Серёги не светлее. Шёл почти на ощупь, по заборчикам. И всё ему мерещилась по сторонам всякая жуть. Улица пустынная, в домах света нет. Спят уже все. Только видит он: в темноте на дороге как будто мешок какой-то лежит. Присмотрелся, а мешок-то шевелится и вроде как к нему приближается. Подошёл: хоть и страх его берёт, а ноги сами идут. Смотрит: ползёт кто-то. Слышит: голос хриплый старушечий, стонет:
– Вну-у-у-чек, Серё-ё-ё-ё-нька, сынаня, подмогни-и-и-и… Ох, и тя-я-я-я-жк-о-о-о мне-е-е-е-е…
Видит, это бабка его, Хавроша, ползёт, извивается по земле, беззубый рот открывает, чёрными губами шевелит и рукой узловатой, морщинистой к себе манит, сама в рваную рогожу обряжена, а за ней по дороге что-то тянется, тонкое, длинное – глянул, а это червь огромный жирный.
Познакомился я с Тяжиным, когда ездил из Москвы на Тамбовщину этюды писать. Больно красиво здесь. Как-то по-особенному. Родня у меня кой-какая осталась в районе. Пристроился я на бережке у пруда, что около «дома престарелых» – так местные называют интернат. Там и старики одинокие и дети больные, от которых родители отказались. Богадельня, одним словом. Этюдник раскрыл, сижу пописываю. Слышу, сзади топот конский и собачий лай. Ко мне подбежал огромный бело-рыжий пёс, похожий на сенбернара. Он обнюхал меня и этюдник, ткнулся чёрным блестящим носом в тюбики с краской, мотнул большой головой и чихнул.
Из-за пригорка выскочил всадник на вороном жеребце. Он твёрдо и прямо держался в седле, и мне показалось, что сшибить его с коня было бы очень сложно. Увидев меня, наездник натянул поводья и закружился на месте. Его чёрные густые волосы и борода развевались на ветру, клетчатая рубашка расстёгнута, и видна была часть мокрой волосатой груди. Что-то восточное сквозило в его чуть раскосых, голубых, почти детских глазах.
Незнакомец скомандовал:
– Филька, фу!
Кобель тут же бросил меня и подбежал к хозяину. Всадник перебросил ногу через седло и легко соскользнул на землю, бросил повод и подошёл ко мне.
– Здравствуйте, – говорит, – красиво у вас получается.
– Здоро́во, – отвечаю.
Слово за слово – познакомились, разговорились. Он вкратце рассказал о себе. Показался он мне человеком интересным, необычным и для крестьянина очень непростым. Пригласил он меня в гости. Я, хоть и невеликий охотник до гостей и застолий, всё же решил принять приглашение. Сложился я быстро, и мы пошли. Пёс бежал чуть впереди, а конь послушно следовал за хозяином.
– Как собака, – иронично заметил я и показал рукой на коня.
– Орлик? Даже хуже, – в свою очередь пошутил Тяжин и, подумав, добавил: – Только ещё умнее и преданнее. – Видно было, что тема ему близкая, и он продолжил: – Я ведь человек городской, собаку с собой привёз, а коня только тут, в деревне, увидел. Чёрт его знает, ни разу в седле не сидел, а тут в первый раз вскочил и поскакал. Честное слово, не хвастаю! – Я его успокоил: мол, верю. Да я и правда ему сразу поверил. Говорил он убедительно: – И не шагом, а сразу рысью и галопом. Сам не знаю, откуда во мне это. Предки – деды и прадеды – лошадники были. Материн отец Василий извозом в Тамбове до войны промышлял, и его отец, прадед мой Фрол, тоже. Потом раскулачили их. Реквизировали лошадок и дом один отобрали, второй, однако, оставили.
Тем временем мы вышли на Центральную улицу и вскоре подошли к его дому. Тяжин отвёл коня во двор, быстро расседлал, привязал к коновязи, напоил и насыпал в ясли овса. Ласково потрепал жеребца по холке.
– Орлик, хороший конь, умный.
Орлик благодарно потряс длинной чёрной гривой и улыбнулся, показывая крупные белые зубы.
– Ну вот, теперь пожалуйте в дом.
Мы взошли на крыльцо и через веранду прошли в избу.
– Клавдия, принимай московского гостя! – весело крикнул Тяжин, открывая дверь.
Жена Тяжина, глазастая, худенькая, невысокого роста женщина, приняла меня радушно. Бросилась накрывать стол. Делала она всё как-то легко, как будто это не доставляло ей никакого труда.
Боже, и что же то был за стол! Такой еды я не едал и в столичных ресторанах. Тут был выпеченный самой Клавдией воздушный пшеничный хлеб, говяжий прозрачный студень без единой жиринки, домашний сыр и отварной бычий язык, такой большой и тяжёлый, что им можно было убить человека! Салат из помидоров с репчатым лучком, с деревенским подсолнечным маслом и чёрным перчиком, свекольный салат с чесночком, квашеная капустка, всевозможные соленья и маринады, солёные скользкие грибочки, огненные мясные жирные щи, на второе – рагу из кролика, зажаренная на бутылке в духовке домашняя курочка, с румяной жареной картошечкой. Из напитков ледяная, чистая, как слеза младенца, самогонка двойной перегонки – тяжинского производства, «смородишный» морс и, что меня окончательно восхитило, на десерт сливочное мороженое с тёртым шоколадом или ягодным вареньем, на выбор. И всё это натуральное, выращенное и приготовленное руками самих хозяев. Я до сих пор вспоминаю этот стол с благоговением!
После щей Тяжин возобновил лошадиную тему.
– Конь, он ведь не животное, он человек. Ей-богу! У каждого свой неповторимый характер, и нет двух одинаковых коней. Вот, скажем, Орлик: он и верхами, и за сохой идёт, и в телегу его запряги – и можешь хоть до Тамбова и обратно доехать без роздыху. Универсальный конь! А может попасться такая скотина, что хоть что ты с ним делай – он работать не будет. Помнишь, Клава, у Якута был жеребец? – обратился Тяжин к супруге.
– Не-а, – белоснежно улыбаясь, ответила супруга.
– Ну да, откуда ж тебе знать, – с сарказмом подтвердил Сергей.
– У вас тут и якуты живут?
– Какие якуты? – не понял Тяжин.
– Ну, ты сказал у Якута, – уточнил я.
– А! Он такой же якут, как я китайский император. Тутошний он, здесь родился и всю жизнь прожил безвыездно. Ругается он так: «Якут твою мать». А ругается он часто, вот и приклеилось прозвище. Но я не про это. Купил он коня. С виду классный жеребец, хоть на выставку: и стать, и рост, и зубы. Запряг его Якут в соху. Тот метров пять прошёл и хана: лёг на бок и не идёт. Якут его поднимать – тот ни в какую. Лежит. Якут и так, и сяк, и лаской, и кнутом – бесполезно! Пока из сохи не выпряг, жеребец не поднялся. Якут его в телегу – та же картина. Пробовал в седло – конь то на дыбы, то на спину падает, то коленки ему грызёт. Как ни бился – ни черта не выходит. В хлеву пару раз задними ногами лягался, чуть хозяина не покалечил. Помучался Якут, видит, не будет с такого коня толку – и сдал его в кооператив на колбасу.
– Не жалко?
– Такого-то коня? А чего его жалеть? Только зря корм переводить.
Помолчали. Тяжин продолжил:
– Тут не так давно случай со мной был. Я и Клавдии не стал говорить, чтоб не пугать. – Клавдия, смотрю, насторожилась. – Шёл я домой из района через пустырь, там в прежние советские времена аэродром был. Кукурузники раз в день летали из Тамбова и обратно. Полёты в расцвет перестройки закрыли. Теперь пустырь. Иду, стало быть, неспехо́м, покуриваю. Смотрю, на другом конце пустыря кобыла с жеребёнком пасутся. Ну, пасутся – и хрен с ними. Иду. Только, глядь, кобыла с места сорвалась и побежала в мою сторону. Думаю: значит, надо ей, раз побежала. Продолжаю идти. А кобыла всё бежит ко мне и так, по дуговой траектории, приближается. Не успел я врубиться, как она уж в плотную ко мне подбежала, развернулась, подпрыгнула и двумя задними копытами как даст!.. Даже сам не знаю, как среагировал – отпрянул. Только по куртке на уровне груди копытами чиркнула. Хорошо, что я в этот момент тормознул. Иначе, считай, рёбра бы она мне в лёгкие, а может, и в сердце вбила.
У Клавдии, вижу, глаза округлились и лицо побледнело.
– Вот так вот узнаю о нём случаем, мимоходом, – обратилась она ко мне. – Ведь ничего не расскажет никогда.
– А чего рассказывать, когда обошлось. Дело прошлое.
Тяжин грустно улыбнулся и махнул рукой.
– А чего она напала-то, не пойму, – простодушно спросил я.
– Так она жеребёнка защищала. Они ж, бабы, агрессивными становятся, когда ребятёнку что угрожает, – Сергей хитро посмотрел на жену. Клавдия улыбнулась, обнажив ряд белых ровных зубов, и погрозила мужу кулаком. – Видно, думала, что я к ним иду, к жеребёнку её, а я ни сном ни духом и не собирался. Да разве кобыле объяснишь!.. – Он помолчал и добавил: – Бабы, правда, сейчас тоже разные пошли. Иные по пьяни нарожают и сразу забывают, что у них дети есть. Тут у нас в деревне полно таких.
Мы выпили ещё по одной, и я поинтересовался у Тяжина:
– И как же ты сельскую науку одолел? Тяжело, наверное, было?
– Никакой особой науки тут нет. Где книжку почитаешь, где опытных людей послушаешь, где свою голову включишь, а главное – упорство и выдержка, – Тяжин чуть подумал и хвастливо заключил: – Я ведь что сорняк-репейник: куда ни брось – всюду прорасту!
– Книг, вижу много у вас.
– Есть немного: Клава любить почитать, и я не прочь, – Тяжин встал, полез в буфет и вытащил общую тетрадь в чёрной дерматиновой обложке. – На вот, будет время, прочти. Тут я о себе и так, всякие общие мысли про жизнь, накарябал.
– Да ты, никак, ещё и писатель!
Тяжин удивлял меня всё больше. Я взял у него тетрадь, раскрыл и начал читать:
«…Нет, друзья мои, не променяю я и одного вольного деревенского дня на всю вашу столичную жизнь, зачумлённую газами, сутолокой, мелкими страстями и дешёвеньким, болезненным тщеславием. То ли дело, вставши поутру с первыми лучами солнышка, умывшись студёной водицей из колодца, запрячь молодого, налитого силой жеребца. Ногу в стремя – и айда в поле! Нет большей радости, когда чуешь под собой могучее лошадиное тело, играющую мышцами спину, когда чуть тронешь бок коня легкой плетью, пустишь его в галоп. Бешено полетит под тобой земля, и ты сольешься с животным в единое тело кентавра. Ветер загуляет по всему твоему телу, полный солнца, дурмана разнотравья, пьянящего запаха родной земли. Тогда всё мелкое и наносное отлетает прочь! Ты уже не ты. И видятся сквозь стелющиеся в лощинах туманы другие кони, другие всадники в сверкающих на утреннем солнце кольчугах, латах и шеломах с пиками и мечами в умелых, твердых руках. И сам ты как будто ощущаешь на своих плечах невидимые доспехи и тяжесть боевого меча в деснице, ни с чем несравнимый восторг и ярость конной атаки! Заговорит в тебе кровь предков. Вот где воля! Вот свобода!..» – но Тяжин внезапно захлопнул тетрадь прямо перед моим носом.
Он смущённо попросил:
– После, потом, а то мне как-то неловко, будто я перед тобой голый посередь избы стою.
Я спрятал тетрадь за пазуху. Поблагодарил хозяев за щедрое угощение и засобирался домой.
Тяжин с женой вышли на крыльцо провожать:
– Ты заходи, только писанину мою не забудь вернуть, а то у меня копий нет.
К моему стыду, я закрутился и не вернул Тяжину тетрадь. Вспомнил о ней только в Москве, и то не сразу. Раскрыл так, от нечего делать, и незаметно увлёкся. Передо мной проходила жизнь этого странного человека. Возникало много вопросов: «Зачем ему, судя по запискам, неглупому и талантливому, понадобилось переезжать из города в эту глухомань? Зов крови? Могилы предков? Желание проверить себя на прочность? Доказать себе и другим, что и здесь он выживет и не пропадёт? Нашёл ли он то, что искал? И что будет с ним дальше?»
Вопросов было больше, чем ответов…
Пока поёт соловей
Соловей возвращался каждый год в начале мая. Резанов не знал – прилетит ли нынче?
Он опасался: а вдруг что-нибудь случится, изменится – и он не долетит или пролетит мимо?
Соловушка в этом году появился немного раньше обычного – в двадцатых числах апреля (значит, лето наступит рано, и май будет жарким). Он всегда устраивался в одном и том же месте – в ивняке, за огородом, где ручей.
Напротив резановского огорода темнеют заросли. А когда-то это был колхозный яблоневый сад. Яблони без ухода одичали. Сад давно забросили, он зарос колючим кустарником, мелкими деревцами дикой вишни, ольхи, клёна, осины. Всё это сплелось, перепуталось и с годами превратилось в густую, едва проходимую чащу. Там растут кусты ежевики, и Резановы ходили её собирать, продираясь сквозь колючую сеть кустарника.
Соловей начинал петь, когда солнце, устав за день, скрывалось за верхушками сада. Наступали сумерки, но всё было видно. Становилось чуть прохладней, и все дневные птахи засыпали. Резанов выходил поливать огород. И вот тогда соловушка начинал свой сольный концерт. Сначала он как бы настраивался и пробовал голос. Несколько раз дёргал коротко: тёх-тёх, тёх-тёх! Потом трель становилась всё смелее и продолжительней, щелчки громче и резче. Краткие звуки вдруг переходили в долгие рулады, оканчиваясь коротко, как удар хлыста. И почувствовав всю силу своего голоса, он забывался в экстазе любовной песни, уже ничего не слышал и не боялся. Тогда к нему можно было тихо подойти почти вплотную, сесть рядом и слушать, слушать, слушать…
А соловейка тем временем так разошёлся, что уже и не мог остановиться. Как только ему воздуха хватает? И тыр-р-р-та-та-тёх-тёх-тёх-тах-тах… Ах ты, господи, боже ты мой, что выделывает! Пичужка невзрачная, махонькая, а что вытворяет!
Резанову во всё это время, что он прожил в деревне, не давала покоя мысль – вернее это была уже не столько мысль, сколько что-то более глубокое, восполненное до ощущения, которое он чувствовал физически, – он думал: «Отчего на этой прекрасной земле, – а то, что она прекрасна, в этом у него не было никаких сомнений, – среди всей этой красоты среднерусской природы, пусть не броской и скромной, но такой милой и близкой, так уродливо устроил свою жизнь человек? Почему народ живёт в нищете и бесправии, сильный безжалостно давит слабого, и вместо любви и милосердия поселились в людских сердцах ненависть и зависть? Ведь всё здесь есть для счастливой жизни: земля, плодородней которой нет на свете, реки, пруды, простор и воля – а жизни счастливой и справедливой нет как нет. Отчего?»
Резанов спрашивал себя – и не находил ответа.
Совсем стемнело. Всё огромное бездонное небо густо усеяли ближние и дальние созвездия. Резанов прилёг на тёплую ещё землю, лёжа на спине, слушал соловьиный концерт и разглядывал звёзды. Ой-ой-ой, сколько! Когда лежишь вот так: на тёплой, ещё не остывшей от дневного зноя траве, слышно, как кузнечики звонко вовсю молотят своими коленками, от ручья доносится лягушачий хор, корова Милка гулко вздыхает в хлеву, встаёт, стуча копытами, и ложится на другой бок. По дворам перебрёхиваются соседские кобели. Звёзды почти касаются лица. Вот они, рядом, только руку протяни! Так сладко, томительно на сердце. Вдохнуть всей грудью, почувствовать всю широту и необъятность России, всё-всё запомнить!.. Покуда ещё жива земля, болит сердце и страдает душа, пока в ночи поёт соловей.