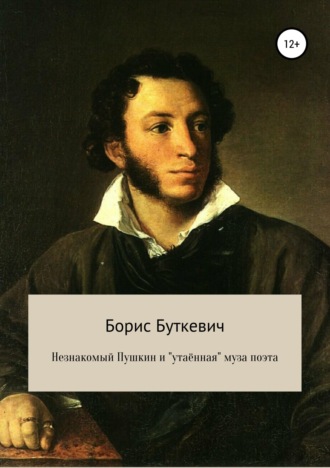 полная версия
полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта
Он писал, что Лернер допустил «неосторожный» перенос торгового ассортимента посудных лавок конца XIX века в дворянскую культуру первой четверти XIX века без поправки на весьма вероятную эволюцию понятия и предмета… – и далее, что – стекло является по своей физической природе веществом аморфным, а не кристаллическим, и даже по своей внешней форме стеклянный шар не имитирует природный кристалл, который, как известно, имеет только плоские грани. Именно это дает право предполагать, что первоначальный облик магического кристалла не имел никакого отношения к сфере…
На эту мысль Мурьянова последовало возражение Ю.М. Лотмана: «Вода, как известно, имеет аморфную структуру. Это не помешало Пушкину написать: «…отразилась в кристалле зыбких вод», то есть в стекле, в зеркале вод… Гадание на кристаллах действительно имело место, но в обиходе гадалок «магическим кристаллом» именовалась именно сфера».
Последний по времени комментатор пушкинского романа А.Е. Тархов, обобщив мнения своих предшественников, в заключение пишет: «Какой же вывод должны мы сделать относительно пушкинского «магического кристалла»?
Независимо от того, обращался ли поэт к опытам с реальным кристаллом для гадания или нет, но метафора такого гадания была для него, очевидно, самой адекватной формой изображения замысла «Евгения Онегина». Материальный инструмент для гадания – магический кристалл – Пушкин делает художественным символом своего «свободного романа», романа, «вопрошающего о будущем», исследующего движение истории и судьбы поколений».
Теперь, прежде чем продолжить разговор о «пушкинском кристалле», о его возможной реальности и значении в творчестве поэта, проведем небольшой исторический экскурс в область истории гадания, а точнее, стремления человека максимально понять скрытые возможности своего мозга, заглянуть за грань обыденного. Из многочисленных способов гадания остановимся на истории только одного, возможно самого древнего, направленного на искусственный вызов галлюцинаций посредством пристального созерцания блестящей, отражающей или прозрачной поверхности того или иного предмета.
Первые упоминания об этом способе имеются как в Библии, так и в древнеегипетских папирусах четырех тысячелетней давности. Это, прежде всего гидромантика (по-гречески – «мантика» – искусство гадания), то есть когда смотрели на отражающую водную поверхность и ждали появления каких-либо образов, видении. Здесь же леканомантика, когда с той же целью направляли взгляд в наполненные маслом вазы и чаши. Затем катопрамантика – прорицание в зеркальных отражениях, оникомаптика, когда смазывали ноготь руки маслом и фиксировали на нем свой взгляд.
Но на первом месте в этом, далеко не полном перечне всяких мантик, была наиболее широко распространенная за счет простоты обращения кристалломантика – гадание на полированных камнях и стеклах. Именно она и будет предметом нашего дальнейшего внимания.
В упомянутой статье М.Ф.Мурьянова было совершенно правильно отмечено, что «настоящие» кристаллы для прорицания изготавливались, «как правило, из горного хрусталя, то есть кристаллического кварца, реже из берилла, а в единичных случаях из яшмы. Сферическая или полусферическая формы были отнюдь не обязательны – кристаллы делались также цилиндрическими, призматическими, либо в виде гемм или камней, вправляющихся в перстни». Интересны и литературные примеры, приведенные автором статьи, как, например, слова нюренбергского мейстерзингера Ганса Сакса: «В кристалле и берилле9 я могу увидеть многое такое, что происходит за несколько миль отсюда». Или, когда в «Фаусте» Гете девушки во время гулянья говорят, что колдунья показала им женихов, одной в новолунье, другой – в хрустальном шаре (перевод Б. Пастернака).
Здесь уместно вспомнить и известный рассказ Герберта Уэллса на аналогичную тему, который так и называется «Хрустальное яйцо». Далее Мурьянов указывает на широкую известность кристалломанта, английского математика Джона Ди (1527 -1608гг.), «инструмент которого представлял собой тщательно отполированный кусок шотландского антрацита». Правда, эта информация несколько расходится с другими источниками. Так, в статье из английского журнала 1852 года говорится, что «кристаллы-прорицатели» не составляли исключительно принадлежность Востока. Известный доктор Ди был, можно сказать, первый волшебник, который мог похвастаться приобретением такого неоцененного сокровища… или так называемого берилла доктора Ди…»
В книге же французского врача-психиатра Пьера Жане читаем: «Один англичанин, по имени Джон Ди, объехал всю Европу, проделывая чудеса с помощью кусочка хрусталя. Этот магический камень был вделан в кольцо, и желавшие могли видеть в камне все, что они желали звать».
Конечно, теперь уже нет возможности установить точно, какой камень-кристалл был в кольце доктора Ди: антрацит, хрусталь или берилл, тем более что в минералогии «название берилл прилагается ко всем разновидностям этого материала, название изумруд – к зеленой разности, а аквамарин – к разновидности цвета морской волны».
Интересно, что из сказанного выше можно сделать любопытное наблюдение. Ни в одном из приведенных, а также просмотренных нами литературных источников, изданных до середины 1840-х годов, нет термина, словосочетания «магический кристалл» (за исключением переводной английской статьи в «пушкинском» журнале «Современник» за 1852 год, но и там разбирается и критикуется «Альманах Задкиля на 1751 год», в обширных цитатах из которого часто повторяются термины: кристаллы, кристаллы-прорицатели, прорицатели стекла, хрустальные и магические шары и так далее, но ни разу не фигурирует словосочетание «магический кристалл»).
Это дает основание предполагать, что сам этот термин-образ «магический кристалл» ранее не существовал и был впервые создан и применен Пушкиным.10 А если так, то почему следует считать, что этот созданный им образ подразумевал именно хрустальный или стеклянный шар? Только потому, что сферическая форма этого атрибута гадания была в его время наиболее распространенной, хотя и далеко не единственной? С тем же успехом он мог сказать так о другом предмете, например, просто куске граненого хрусталя или полированном драгоценном камне, украшавшем его трость, перстне, наконец, о своей чернильнице – «заветный кристалл хранит огонь небесный». Все это тем более вероятно, что для того, чтобы увидеть какие-либо образы, картины и тому подобное в хрустальном шаре, требовалась хоть и не сложная, но обязательная практическая подготовка: темный фон, строго определенное освещение, тишина, сосредоточенность.
Теперь о появлении самих этих образов и видений. Вот что пишет по этому поводу известный современный психиатр, член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Л.Л. Васильев в одной из своих популярных работ, где касается темы внушенных иллюзий и галлюцинаций: «По своему происхождению галлюцинации близки к сновидениям. Это своего рода сновидения наяву.
Сумеречное состояние сознания, в котором мы пребываем перед засыпанием или тотчас после пробуждения, особенно способствует появлению гипногагических галлюцинаций… (они – Б.Б.) не более таинственны, чем сновидения, и, также как сновидения, могут быть вызваны различными искусственными приемами. На этих приемах, известных еще древним народам, основаны многие виды гадания. Так, зрительные галлюцинации вызывались, когда гадающий упорно смотрел в кристалл (кристалломантика) или в «магическую жидкость» – воду (гидромантика), которая впоследствии была заменена зеркалом… Французский психиатр Симон выделяет категорию «физиологических галлюцинаций», проявляющихся у здоровых, даже выдающихся людей. Бальзак, описывая Аустерлицкую битву, слышал крики раненых, пушечные выстрелы, ружейные залпы; Флобер, когда писал сцену отравления госпожи Бовари, ощущал во рту вкус мышьяка, вызывавший у него рвоту… Гете мог по желанию вызывать у себя тот или другой зрительный галлюцинаторный образ, который затем видоизменялся у него непроизвольно».
Адекватные наблюдения и выводы находим у французского исследователя Лемана в его книге «История суеверий и волшебства». Еще на рубеже века он писал о видениях, возникающих у кристалломантов: «Таким образом, мы имеем случай восстановления совершенно забытых подсознательных представлений… Впечатления, промелькнувшие в поле сознания и, по-видимому, не оставившие никакого следа, на самом деле не пропадают безвозвратно, а воспроизводятся в видениях.
Псевдогаллюцинации часто возникали в минуты внезапной «рассеянности», когда я не вполне сознавал, что вокруг меня делалось. Поэтому можно думать, что необходимым условием для вторжения бессознательных представлений в сознательную область должно быть некоторое внезапно наступающее сонливое состояние, в более легких формах сходное с простой рассеянностью… иногда оно наступает само собой, и тогда получаются самопроизвольные галлюцинации, но иногда оно может быть вызвано искусственно такими гипнотизирующими приемами, как смотрение на блестящие поверхности… оно наиболее сходно с состоянием полусна, когда человек еще грезит, но уже многое сознает и из окружающей действительности… когда, вследствие ослабления произвольного внимания, бессознательные представления получают возможность проскользнуть в сознание».
Когда-то Сенека сказал: «Не было еще гения без некоторой доли безумия». Этой божественной долей был, безусловно наделен и гений Пушкина. Его «Онегинская» строфа, где в единый смысловой и поэтический образ сплетены «смутные сны» и виденье «сквозь магический кристалл», в контексте с приведенными выше историческими и научными фактами и наблюдениями дает, прежде всего, основание считать, что Пушкин знал о существовании состояния дивинации, искусственно вызываемой при помощи кристалломантики. Не было ли это состояние свойственно ему самому? Здесь мы невольно вторгаемся в святая святых, в таинственный мир психологии гения и, конечно, не можем получить однозначного ответа на поставленный вопрос. Но все же?
На протяжении всей творческой жизни Пушкина не только в его поэзии, но и в прозе периодически появляется тематический повтор, характеризующий определенное состояние поэта. Вот несколько наиболее ярких примеров:11
1820г. «Тогда, рассеянный, унылый,
Перед собою, как во сне
Я вижу образ…»
1821г. «И музу призывал
На пир воображенья.
Прозрачный легкий дым
Носился над тобою.
В нем быстрой чередою…»
1824 г. «Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?»
1824 г. «Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья…»
1830 г. «И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон…»
1830 г. «…в смутном сне
Явилися впервые мне…»
1830 г. «Люблю летать, заснувши наяву» …
1832г. «Он у чугунного камина
(Лениво наяву дремал).
Видений сонных перед ним
Менялись тусклые картины»
1833г. «Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне…
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне
Излиться наконец свободным проявленьем…»
1835 г. «Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших… погружен был душою в сладостное забвение…»
Здесь трудно сохранить ортодоксальное восприятие и не увидеть в этих, как всегда прекрасных, пушкинских строках, написанных с никогда не изменявшей ему точностью слов и эпитетов, одной общей темы, раскрывающей механизм появления перед взором поэта видений, рожденных воображением, находящимся в состоянии полусна-полуяви, то есть, говоря языком сегодняшней науки, галлюцинаторных образов.
А если допустить, что подобные моменты имели место в процессе его творчества, то возникает закономерный вопрос: были ли они непроизвольного характера или же Пушкин, подобно Гете, обладал способностью вызывать их искусственно, силой самовнушения?
Второе предположение не исключает и возможности концентрации при этом зрительного внимания на каком-то предмете, тайна которого была лишь раз доверена нам в неповторимо красивом поэтическом образе – «магический кристалл».
Если допустить конкретную реальность этого образа, то есть, что и здесь Пушкин точен и что опоэтизированный им предмет действительно был у него, то, конечно же, это не хрустальный или стеклянный шар. Более чем абсурдно представить ситуацию, что Пушкин в поисках нужного слова, образа, плана произведения доставал из стола или кармана подобный шар, затемнял его ширмами и затем высматривал в нем что-то, облегчающее ему «муки творчества». Даже мысль об этом близка к кощунству. Но что же тогда он имел в виду? И заметьте, «даль свободного романа» он видел не в кристалле, а «сквозь» него – опять же удивительная, подчеркнутая точность смысла.
В своем поэтическом хозяйстве поэт семь раз обращается к слову «кристалл», причем всегда использует его как красивую метафору. В хронологической последовательности это выглядит так. В еще лицейском «Воспоминании о Царском Селе» – «И отразилась в кристалле зыбких вод», то есть в зеркале, стекле. В «Руслане и Людмиле» – «прибор из яркого кристалла», волшебная посуда из драгоценного цветного стекла или хрусталя.
Затем, уже в Кишиневе, он пишет: «Заветный твой кристалл…» – чернильница, опять же из стекла, хрусталя, камня? (Исследователи справедливо видят здесь ассоциацию с «магическим кристаллом»). Там же на юге – «кристаллом покрывал недвижные струи», то есть льдом (греческое «кристаллос» – лед). В Михайловском – «кристалл, поэтом обновленный», – скорее всего кубок, бокал (только из чего?), подаренный Пушкину Языковым. Там же, в «Онегине» – «Зизи, кристалл души моей…» – звезда, богиня красоты, огонь. (Можно сравнить с вероятно известным Пушкину поэтическим образом французского писателя Делиля в его поэме «Сады»:
«Богиня эта… (богиня красоты – Б.Б.)
Сверкающий кристалл подняв над головой,
В свеченьи радужном меняет облик свой».
И, наконец, «магический кристалл» в «Онегине» – как считается, стекло, хрусталь или камень. Однако следует отметить, что слово «хрусталь» никогда не служит у Пушкина метафорой, а почти всегда конкретно: «В дверях сеней твоих хрустальных…; Выстроил хрустальный дом…; Гроб качается хрустальный…; Духи в граненом хрустале». Чем же дополняют этот небольшой анализ лексики поэта наши предположения? Думается, что они еще раз подтверждают мысль о том, что, будь у Пушкина реальный хрустальный шар (говорить о стеклянном шаре столь же бессмысленно, как допустить, что Наталья Николаевна носила поддельные брильянты или позолоченные кольца), то и в «Евгении Онегине» мы читали бы: «Сквозь магический хрусталь». Стеклянные же шары, будучи всего лишь ширпотребом, вполне закономерно нашли в итоге себе место в посудных лавках Петербурга.
Теперь, прежде чем предложить нашу гипотезу, остановимся еще на двух моментах, непосредственно ей предшествующих. В статье М.Ф. Мурьянова в качестве литературного примера, подтверждающего его доводы, приведен отрывок из сказки Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок»:
«…Быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал:
–Смотрите сюда, дорогой Анселем, то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие.
Студент Анселем посмотрел, и – о чудо! – из драгоценного камня, как из пылающего фокуса, брызнули во все стороны лучи и сплелись, образовав светлое, блестящее хрустальное зеркало, а в нем танцевали, подпрыгивали и затейливо крутились, то разбегаясь, то свиваясь, три зелено-золотистые змейки… средняя змейка вытягивала … свою головку к зеркалу, и ее синие глаза говорили: – Знаешь ли ты, веришь ли ты в меня, Анселем?…
–О Серпентина, Серпентина! – воскликнул в безумном восхищении студент Анселем, но архивариус Линдхорст быстро дунул на зеркало, и лучи с электрическим треском скрылись в фокус, а на руке снова блестел лишь маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку».
Конечно, это только сказка замечательного немецкого романтика, увидевшая свет в 1814 году. Нам не известно, читал ли ее Пушкин в годы, предшествующие его ссылке, но, однако, нельзя здесь не вспомнить о его перстне-талисмане, массивном золотом кольце с крупным изумрудом (то есть бериллом) квадратной формы со слегка закругленными углами и чуть выпуклой, гладкой лицевой поверхностью.
Пушкин носил его на большом пальце правой руки, как мы и видим: на портрете поэта работы Тропинина. История этого перстня подробно освещена в очень интересной статье доктора минералогических наук Л. Звягинцева в еженедельнике «Лит.Россия» N 28 за 1985 год. Вкратце эта история такова. В.И. Даль, присутствовавший при кончине Пушкина, в своих воспоминаниях пишет: «Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл – не знаю почему – «талисманом» … « В его же письме к В.Ф. Одоевскому от 5 апреля 1837 года читаем: «…Перстень Пушкина, который звал он – не знаю почему – талисманом, для меня теперь настоящий талисман. Вам я это могу сказать. Вы меня поймете. Как гляну на него, так и пробежит по мне искорка с ног до головы, и хочется приняться, за что ни будь порядочное».
Здесь можно добавить, что историк М.И. Пыляев передавал слова Даля несколько иначе: «Пушкин, перед смертью, отдал ему свой изумрудный перстень, которым при жизни очень дорожил и называл своим талисманом, находя в нем какое-то соотношение к своему таланту» (курсив наш – Б.Б.). В этой же книге («Драгоценные камни») Пыляев пишет: «В старину слепо верили, что изумруд имеет силу предвидения…» Л. Звягинцев в своей статье продолжает по этому поводу: «Согласно лапидариям – книгам, содержащим описание драгоценных камней, по древнему поверью, указывалось, что изумруд служит талисманом людей, посвятивших себя искусству… во все века был призван вдохновлять поэтов, художников, музыкантов… Трудно найти другой цветной камень, который бы так высоко ценился в древности, как изумруд, часто называемый камнем свечения.
По календарю «счастливых камней» изумруд приписывается людям, родившимся в мае месяце. Как известно, Пушкин родился 26 мая по старому стилю. Римлянин Плиний Старший писал: «И, наконец, из всех драгоценных камней только изумруд питает взор без пресыщения. Даже когда глаза утомлены пристальным рассмотрением других предметов, они отдыхают, будучи обращены на этот камень».
Высказывая предположение, что перстень с изумрудом был кем-то подарен Пушкину накануне его отъезда на юг, в печальный день 6 мая 1820 года, и относя стихотворение «Храни меня, мой талисман» именно к этому перстню («Ты в день печали был мне дан…»), а не, как считалось ранее, к перстню, подаренному поэту Е.К.Воронцовой перед его отъездом из Одессы в Михайловское, то есть тоже в печальный день, Л. Звягинцев аргументирует эту мысль тем, что, приехав в деревню, Пушкин настойчиво и неоднократно просит брата Льва прислать ему из Петербурга его кольцо-перстень: «Мне скучно без него», – добавляет он в одном из писем. «О каком кольце-перстне здесь идет речь – не указано. Известно, что этим кольцом поэт так же дорожил, как и перстнем с сердоликом. Но кольцо (с сердоликом – Б.Б.), подаренное Воронцовой, в это время находилось у него. Естественно предположить, что … (имелся в виду – Б.Б.) перстень с изумрудом…», по каким-то причинам, возможно из-за его ценности, оставшийся в Петербурге.
Письма поэта к брату были написаны в конце 1824 года (ноябрь, декабрь), стихотворение же «Храни меня, мой талисман» условно датируется первой половиной 1825 года, то есть было написано после получения из Петербурга заветного кольца талисмана. В его беловом тексте, как и в черновых вариантах, снова проскальзывает повторение уже отмеченной нами темы:
«Священный сладостный обман,
Души волшебное светило…»
(беловой текст)
«Как сон, как утренний туман,
Любви сокрылось сновиденье…»
(черновик)
Вся статья Звягинцева смотрится вполне обоснованной, и трудно не согласиться с основными ее мыслями. Нам же остается только констатировать, что с ней родилась тайна нераскрытого имени того или той, кто подарил Пушкину изумрудный перстень, ставший для него магическим кристаллом. В раскрытии этого имени, как уже знает читатель, – суть нашей гипотезы.
… Возьмите ручку или карандаш и представьте, что на большом пальце вашей руки надето кольцо с крупным, мерцающим зеленым светом, камнем-кристаллом. Попробуйте сочинить, написать что-нибудь, пусть даже простое письмо. Задумайтесь на мгновение, и ваш взгляд неминуемо остановится на этом кристалле. Другое дело, что вы вряд ли увидите в нем то, что видел Пушкин.
Ожерелье Марии Антуанетты
Несколько лет назад вышла в свет новая книга известного современного писателя Романа Белоусова «Рассказы старых переплетов». В одной из ее глав, под интригующим названием «Дело исчезнувшей графини», автор возвращается к давно известной истории одного из самых скандальных и сенсационных судебных процессов XVIII столетия – делу о краже бриллиантового ожерелья Марии Антуанетты. Об этом «процессе века» существует целая литература, как исследовательская, так и художественная, включая роман Александра Дюма «Ожерелье королевы».
Несколько глав посвятил этой истории и Стефан Цвейг в своей монографии об Антуанетте. Зачем же понадобилось Белоусову возвращаться к этой теме, пересказывать, хотя и кратко, давно известные факты? Дело в том, что, изучив и сопоставив ряд мало знакомых широкому читателю исследований и мемуаров современников, опубликованных за последние сто лет, он приходит к вполне аргументированному выводу: главная «героиня» столь шумного процесса, талантливая авантюристка, похитившая королевские бриллианты, Жанна Валуа де Ламотт не покончила жизнь самоубийством, как считалось ранее, в Лондоне, в 1791 году, где находилась после бегства из французской тюрьмы, а лишь симулировала его, организовав собственные похороны. Затем, присвоив имя графини де Гаше, она эмигрировала в Россию, возможно, захватив с собой все или часть похищенных бриллиантов. В России она прожила более двадцати лет. В 1812 году приняла русское подданство, в 1822 году переехала из Петербурга в Крым, где и умерла четыре года спустя.
Интересующихся всей этой увлекательной историей мы отсылаем к названной книге, остановившись лишь на следующем. Обращаясь к рассказу незаслуженно забытого ныне историка и бытописателя М.И. Пыляева, Белоусов уверен, что Пыляев неспроста утверждал, будто «старые петербургские ювелиры знали, что знаменитое алмазное ожерелье Марии Антуанетты… было продано в Петербурге графу В-кому одним таинственным незнакомцем…» Эту цитату Белоусов никак не комментирует, и поэтому, естественно, возникает вопрос: кто такой этот граф В-кий, рискнувший и имевший возможность купить краденые алмазы казненной королевы, об истории которых знала и еще недавно судачила вся Европа?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, обратимся, прежде всего, к первоисточнику, то есть к рассказу о графе В-ком в книге Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы», изданной в 1898 году. Вот что он пишет, характеризуя этого графа: «В первой четверти текущего столетия в Петербурге жило немало загадочных иностранцев; в ряду таких был известен миллионер граф В-кий, происхождением поляк; он находился в самых приятельских отношениях с выдающимися людьми всей Европы; его хорошо принимали при многих дворах. Обхождение, манеры, образ жизни, все обнаруживало в нем человека, привыкшего к высшему обществу… Обеды его считались самыми гастрономическими, вина тончайшие, щедрость его была изумительная, вкус во всем изящный, речь увлекательная и характер самый веселый и уживчивый. В доме его играли в карты, и он сам играл превосходно во все игры, выигрывал большие суммы, но и проигрывал иногда приятно…
Многие предполагали, что В-кий составил себе состояние игрою, но где и как – никто не знал. Граф В-кий жил в Петербурге, в доме графини Браницкой (теперь дом князя Юсупова, на Мойке), затем купил собственный дом на Большой Морской, на углу Почтамтского переулка. Комнаты В-кого были меблированы с большим великолепием. Он имел богатое собрание картин лучших мастеров. Но что составляло истинное богатство этого миллионера – это коллекция драгоценных камней и разных ювелирных изделий, которые находились в витринах за стеклами в его кабинете… Граф отличался широкою благотворительностью: он сыпал деньги на все благотворительные учреждения. Виленскому университету он подарил свою редкую коллекцию минералов, которая теперь хранится в Киевском университете.

