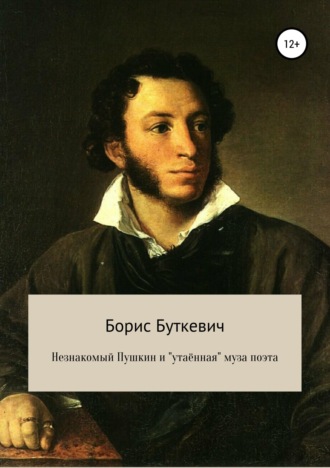 полная версия
полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта
Храни меня, мой талисман…»
Звягинцев пишет, что «изумруд для Пушкина являлся не только счастливым камнем по рождению в мае месяце, но и жизненному призванию, (в силу) тех исторических предначертаний, которые приписывались изумруду по символике камней».
Однако правомерен вопрос. Если эта символика отводила изумруду свойство лишь способствовать вдохновению, творчеству служителей искусства, то почему тогда Пушкин обращается к нему с призывом о помощи в роковые, тяжкие минуты жизни? Позволю себе предложить такой ответ. Нет сомнения, что самым главным, самым святым и сокровенным, «предопределяющим весь смысл жизни, был для Пушкина его творческий дар, его гений, воспринимаемый им как «божественный глагол», открытый его вещему слуху. Именно в нем поэт искал и находил защиту и поддержку, находил силы в беспрестанной борьбе с трагичностью жизни и судьбы.
Тогда, поскольку перстень с изумрудом в какой-то мере ассоциировался для Пушкина с этим его божественным даром, охраняющим от жизненных невзгод, становится понятен и подтекст звучащего как заклинание рефрена: «храни меня, мой талисман».
Написанное 6 ноября 1827 года, стихотворение «Талисман» увидело свет через три месяца. Оно появилось на страницах «Альбома северных муз» в конце января 1828 года. «Храни меня, мой талисман» было опубликовано лишь через девяносто лет после создания. Снова по каким-то, оставшимся тайными, причинам Пушкин решил не печатать это безупречное по форме и прекрасное по смыслу стихотворение. После его смерти оно затерялось и ждало своего часа до 1916 года.
Это решение поэта было как бы продолжением всей той таинственности, что окружала историю изумрудного перстня. Выше уже говорилось, что доподлинно мы ничего не знаем о его происхождении, времени появления у Пушкина. Догадка Звягинцева о том, что Пушкин в письмах к брату из Михайловского в 1824 году просил прислать ему именно этот перстень, остается только догадкой. Возможно, он не расставался с ним с той минуты, когда получил на прощанье в «день печали». И опять же остается только гадать о том, кто мог сделать ему столь дорогой подарок. Ведь изумруды «чистой воды», причем столь крупные, как этот, весом около 15-ти каратов, ценились в то время значительно дороже столь же крупных бриллиантов. Если действительно тот «день печали» был 6 мая 1820 года, то кто из тогдашних близких знакомых юного опального поэта мог быть столь щедрым?
С пристрастием перебирая многочисленных известных нам друзей, родственников, знакомых Пушкина тех лет его петербургской жизни, трудно с решающей долей вероятности предположить здесь кого-либо конкретно. И не только потому, что подарок был столь дорог, но, главное, потому что отношение поэта к большинству из них нашло затем свое освещение в творчестве поэта, а те или иные подробности этого отношения – в многочисленных, дошедших до нас свидетельствах и воспоминаниях, подвергшихся потом самому тщательному исследованию со стороны пушкинистов.
И трудно допустить, что появление у Пушкина столь многозначащего для него перстня осталось бы неизвестным, не было бы упомянуто хотя бы словом, догадкой, завуалированным намеком. Но случилось именно так. Тайна магического изумруда осталась неразгаданной. Думаю, что это могло произойти только в случае, если интересующая нас личность была совершенно не связана с литературным и светским окружением Пушкина, не появлялась в нем, не была этому окружению известна в связи с именем поэта. То есть, если ее отношения с ним находились как бы вне всего окружающего – только она и Пушкин.
Как уже говорилось, похожая ситуация могла существовать между ним и графиней Стройновской. Стройновская тайно подарила ему перстень, он хранил эту тайну до конца жизни.
Ну, а как же афера с покупкой королевских алмазов, вызвавшая гнев императора, позорную отставку престарелого авантюриста? Знал ли Пушкин обо всей этой истории? Скорее всего, знал, но из-за участия в графине тоже ни разу о ней не обмолвился. Только мельком он упомянул однажды Марию Антуанетту в послании к князю Юсупову:
«… Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена…»
И все-таки не верится. Неужели никогда, ни разу после той пресловутой свадьбы в Старой Коломне, после столь злой насмешки над жалким и смешным в его старческом бессилии Черномором, он не вспоминал этого похитителя своей влюбленности? Нет, никогда.
Хотя постойте! Осенью 1835-го Пушкин в очередной раз едет в Михайловское. В то время недавно овдовевшая Екатерина Александровна, как обычно, проводила лето в своем Старорусском имении близ села Налючи, что стоит на впадении речки Ларинки (и опять, как Мавр-Мавруша – Ларинка-Ларины: случайные слова?) в полноводную Полу. Это был единственный год после замужества, когда она была свободна от ревнивых брачных уз, могла принимать, кого хотела и когда хотела. Чтобы по пути в Михайловское хоть на несколько часов заехать в ее имение, нужен был один, от силы полтора дня. Кстати, в тех местах и сегодня (автор сам был тому свидетелем) устойчиво бытует предание, что Пушкин приезжал в Налючи.
Было так или нет, мы достоверно не знаем. Но среди стихотворений, написанных им в ту Михайловскую осень, есть одно – этакая, непонятно чем вызванная, нескромная шутка. В ней можно увидеть и бедного поэта, и беспомощного, скучающего без дел богатого мужа, и алмазы, и изумруды. В рукописи она датирована 10-11 сентября, то есть днями, когда Пушкин находился в дороге по пути в Михайловское. Вот эта шутка-эпиграмма:
«К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, – сказал певец безмудый, -
Мои алмазы, изумруды -
Я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, – он продолжал,
– Когда тебе бывает скучно,
Ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно: – Я? я муде себе чешу».
А, может быть, подъезжая к Налючам, он просто вспомнил и записал этот экспромт, сочиненный им еще в том далеком 1819 году и несколько своеобразно запечатлевший случайный «светский разговор» ясновельможного старца-жениха с влюбленным, бедным юношей – поэтом
Последние годы
«Нет, – отвечала она.
– Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского».
Поставив точку в предыдущей главе, мы могли бы кончить и наш рассказ. На первый взгляд, в дальнейшем творчестве Пушкина нет ничего, что напоминало бы о Стройновской. Но это не так. Можно с уверенностью сказать, что и в последние годы жизни он не раз мысленно обращался к ней, к ее судьбе. В 1832-33 годах создается «Дубровский», где имеют место и «настоящий русский барин», и тривиальная ситуация «неравного брака».
И если прообразом Кириллы Петровича Троекурова был, как известно, самодур и крепостник генерал Измайлов, то англоман, богач и ценитель искусств князь Верейский весьма походит на графа Стройновского. Более того, похоже, что описывая знакомство тетки с будущим мужем, Маевский держал перед глазами роман Пушкина. Он пишет: «Граф, смолоду красавец, имел громадный успех у женщин. Красота Екатерины Александровны… поразила его – он тут же решил добиваться руки ее. Согласие родителей было заранее обеспечено…»
В «Дубровском» читаем:
«В зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой». Верейский незамедлительно решил добиваться ее руки, согласие же Кириллы Петровича было обеспечено. А разве слова Марьи Кирилловны, поставленные эпиграфом к этой главе, не перекликаются со столь известными словами Татьяны: «Но я другому отдана; я буду век ему верна»?
Параллельно с «Дубровским» Пушкин начинает писать «Капитанскую дочку», приступает к сбору материалов для «Истории Пугачевского бунта». Он работает в архивах, едет в Казанскую и Оренбургскую губернии. И что же? Среди нескольких тысяч архивных документов он находит бумаги, касающиеся целого ряда казанских Буткевичей – близких родственников Екатерины Александровны, сражавшихся как за, так и против Пугачева. Он находит материалы о подпрапорщике Богдане Буткевиче15, перешедшем на сторону Пугачева и сдавшем ему свой город Заинск, встречает эту фамилию в донесениях о сражении под Казанью, о взятии Саратова. В приложениях к «Истории Пугачева» он, среди длинного перечня других имен, называет воеводского товарища секунд-майора Буткевича, казненного Пугачевым в городе Петровске, и прапорщика Буткевича, повешенного в Царицыне. Наконец, он находит и подробно конспектирует реестр надворного советника Ивана Буткевича, представленный в январе 1774 года генералу Бибикову с просьбой о компенсации, согласно реестру, «украденного злодеями добра» в его имениях в Заинском уезде. Яркая социальная значимость этого документа и его обладателя, безусловно оцененная в свое время Пушкиным, не раз отмечались на страницах пушкиноведения. Однако нам реестр интересен в другом плане.
Трудно с уверенностью сказать, где и как намеревался Пушкин его использовать, когда переписывал для своих «архивных тетрадей». Но причиной первого, эмоционального внимания поэта-историка именно к этому реестру, а не к какому-либо другому из тех, что подавались разгромленными помещиками во все инстанции, вплоть до императрицы, было скорее всего, то, что составителем его оказался именно Буткевич.
У нас нет сомнения в повышенном интересе Пушкина к этой фамилии, особенно после уточнения ее родственных связей с его петербургскими соседями. Нет сомнения, что в те часы перед его глазами вновь возникала Коломна, трехэтажный генеральский дом на углу, встречи в гостиной Ивеличей… Пушкин не счел нужным упомянуть об этом документе в «Истории Пугачева». Но два года спустя он частично использовал именно его на страницах «Капитанской дочки»… Помните? «Это что еще! – вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами… – Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты…». Именно так реагировал Пугачев на поданный ему добрейшим Савеличем реестр пропавшего добра своего барина Петра Андреевича Гринева. Этот перечень еще со школьной скамьи знаком каждому из нас, и нет нужды повторять его. Обратим внимание на другое. В тексте «Капитанской дочки» реестр Буткевича переделан Пушкиным до неузнаваемости; из его 37 наименований оставлены только четыре, но и они так или иначе изменены:
В реестре Буткевича:
1. Два халата, один хивинский, Два халата, миткалевый другой полосатый на 20 руб .
2. Двенадцать рубах мужских Двенадцать рубах полотнянных с манжетами на 60 руб
3. Одеяло ситцевое, другое хлопчатой бумаге 19 руб.
4. Два тулупа, один мерлушатый, второй из беличьего меху 60 руб.
В реестре Савелича:
1. Два халата, миткалевый другой полосатый на 6 руб .
2. Двенадцать рубах полотнянных, голландских с манжетами на 10 руб.
3. Одеяло ситцевое, другое тафтяно на хлопчатой бумаге – четыре руб.
4. …Заячий тулупчик…пятнадцать рублей.
Кроме того, в реестр Савелича добавлены еще четыре пункта (которых нет в подлиннике), содержащие предметы обмундирования и быта офицера того времени. И можно полагать, что если б не пушкинский конспект, хранившийся в его личном архиве, не уничтоженный им, но обнаруженный только после смерти поэта, то существование среди сотен пугачевских дел подлинника этого документа вряд ли связало бы его с «реестром Савелича», как это и было до 1936 года, когда Ю. Оксман, нашедший конспект в частном собрании, впервые отметил и обнародовал эту связь. А, следовательно, фамилия Буткевичей никогда не фигурировала бы на страницах пушкиноведения, посвященных последним годам творчества поэта, и мы, в свою очередь, не имели бы оснований обратить внимание читателей еще на несколько любопытных, с нашей точки зрения, мест в тексте «Капитанской дочки».
Так, в первой главе романа отец Петруши Гринева, листая Придворный календарь, удивляется карьере своих бывших подчиненных и, пожимая плечами, говорит: «Генерал-поручик! Он у меня в роте был сержантом!… Обоих российских орденов кавалер! Л давно ли мы…» Здесь же в первый раз упоминается некто князь Б. – влиятельный петербургский родственник Гриневых. Напомним, что отец Александра Дмитриевича, Дмитрий Михайлович Буткевич, накануне восстания Пугачева был в чине генерал-поручика, служил в гвардии и имел ордена. И хотя князем он не был, но чин и богатство ставили его на самый верх иерархической лестницы, предоставляя связи в свете. Далее, во второй главе Петруша Гринев переводится в *** полк, «в глухую крепость на границу Киргизкайсацких степей». В черновиках Пушкина было: «в Шемшинский драгунский полк». В те времена в этом полку служили офицерами несколько казанских Буткевичей.
Роман заканчивается, как помните, припиской «Издателя», где, в частности, говорится: «В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова».
Невозможно сказать, какое село имел в виду Пушкин и какой город зашифрован тремя звездочками. Зато нам доподлинно известно, что в 1773 году селом Порутчиковым, что за рекой Сарапалою в Казанском уезде, владели десять помещиков, девять из которых носили фамилию Буткевичей. Сколько хозяев было в этом селе спустя шестьдесят лет, мы не знаем, так же как не знаем причины, побудившей подпрапорщика Богдана Буткевича пойти за Пугачевым, открыв его отрядам ворота Заинска.
В начале 1836 года Екатерина Александровна начала новую супружескую жизнь. В обществе и на этот раз не обошлось без злословия. Сестра Пушкина Ольга Сергеевна писала мужу: «… Кстати, графиня Стройновская вновь вышла замуж за Зурова Ельпидифора Антиоховича. Побьюсь об заклад, что ее соблазнило имя, иначе как объяснить ее брак? Женщина сорока лет, богатая, независимая, имеющая двенадцатилетнюю дочь? – право, это смешно. Говорят, она все еще очень хороша, ее муж тоже богат…»
А что же Пушкин? До рокового января оставалось меньше года…
«Загадка Маевского» продолжение
«Более или менее я влюблялся во всех хорошеньких женщин, мне знакомых, и все изрядно надо мной насмеялись; все, за исключением одной, кокетничали со мной». Пушкин (Из записной книжки 1822-23 годов) ПСС, т. XII, с. 304, с.486.
Вернемся к загадкам Н.С. Маевского. Первая – напомним – заключается в однозначном утверждении мемуариста, что Пушкин не был знаком с его теткой, графиней Е.А. Стройновской (графиней в «Домике в Коломне»). Вторая – в том, что всем, даже прислуге в имении Налючи Старорусского уезда Новгородской губернии, было известно, что с портрета Е.А. Стройновской, висящего в гостиной, была написана Онегинская Татьяна, но мемуарист об этом умолчал. Почему? Здесь и кроется третья загадка Маевского. Как ни парадоксально, но ответом на две первые его загадки является … эта третья. Причем сама по себе она все еще остается до конца неразгаданной. Суть ее в следующем. В своей семейной хронике Николай Сергеевич более или менее подробно знакомит читателей с многочисленным рядом лиц из родственного и прочего окружения семьи своих родителей и их предков за период, без малого, в полтора столетия. Главным образом, это относится к его родственным связям по материнской линии, т.е. по линии А.Д. Буткевича.
Начиная с Петровских времен, повествует он о судьбах, служебной карьере своего прапрадеда и прадеда, об их женах и детях, называя имена и фамилии, годы жизни. Рассказывает о тех или иных наиболее значительных жизненных ситуациях в их семьях.
Очень подробно останавливается на истории жизни своего деда Александра Дмитриевича, его нраве, характере, службе, живописует все перипетии его трех браков, перечисляет всех его детей, рассказывает о дальнейшей судьбе каждого. Маевский поименно упоминает разных знакомых деда, отца, матери, родственников графа В.В. Стройновского, даже многих их крепостных слуг и приказчиков. Описывает жизнь самого Стройновского, историю его женитьбы на своей тетке, грустную судьбу их дочери Ольги Валериановны (своей двоюродной сестры), в замужестве княгини Багратион -Имеретинской. И при всем этом…
Но сначала напомним, что от третьего брака с Марией Семеновной Бинкевич, у Александра Дмитриевича в 1810-х годах было четверо детей. Сын Николай, самый младший, и три дочери: старшая Екатерина, в замужестве Стройновская, затем Любовь Маевская, мать мемуариста, и третья…
Так вот, с ней-то и происходит у автора воспоминаний нечто крайне непонятное. На всем протяжении своих записок on шесть раз говорит о ней, своей родной тетке, но ни разу не называет ее имени. Она безымянно появляется на страницах хроники, когда автор в раннем детстве вместе с сестрой Любой и братом Николаем катает в санках старшую сестру, и последний раз упоминается примерно под 1823-24 годом, когда Маевский пишет об увольнении Стройновского от службы, его денежных затруднениях и отъезде с семьей в деревню: «… Длинна и тяжела показалась эта зима моей бедной тетке (Стройновской – Б. Б.), в первый раз разлученной со своей семьей… На лето дед с бабушкой и дочерьми приехал в деревню к графу, и общая семейная жизнь потекла прежней колеей…»
Повторяем, что это было летом 1824 года. Больше Маевский ни разу, ни словом не вспоминает о своей второй тетке, а, говоря про смерть деда в 1832 году, пишет, что: «… Осиротелая бабушка пригласила к себе (т.е. в город – Б.Б.) жить зятя и дочь (Маевских – Б.Б.), но этим семейное счастье не было возвращено… – И далее, когда в декабре 1834 года умер граф Стройновский, – По окончании траурного года тетушка моя по любви вышла замуж за генерала Зурова, тогдашнего Тульского губернатора… мы остались втроем, мать и бабушка принялись за мое воспитание сообща…». Маевский говорит «втроем», так как с конца 1832 года его отец находился постоянно в Молдавии, командуя дивизией в оккупационном корпусе графа Киселева.
Из приведенных цитат можно сделать вывод, что «таинственная» тетушка исчезает из семьи А.Д. Буткевича в промежутке между 1824 и 1832 годами. Сам же факт замалчивания Маевским всего, что касается ее жизни и дальнейшей судьбы, хотя и не сразу бросается в глаза, но, тем не менее, явно диссонирует со всеми теми семейными подробностями его воспоминаний, о которых говорилось выше. Полным молчанием он обходит ее юность, характер, взаимоотношения с родными, ее друзей, поклонников, замужество и так далее, вплоть до возможной преждевременной смерти.
При внимательном осмысливании всего этого рождается впечатление, что здесь не случайность, а совершенно намеренное утаивание, продиктованное нежеланием назвать именно ее имя, и, как следствие, вынужденное упоминание о ней только вскользь, так как крайне странным выглядел бы рассказ о родной тетке, которую неизвестно как звали. Что же могло побудить Маевского, писавшего свою хронику где-то в конце 1870-х годов, то есть спустя пол века после описываемых им событий, создать эту таинственную завесу, эту третью свою загадку? На наш взгляд, ответов может быть два.
Первый – это то, что он действительно ничего не знал о ней, допустим, умершей за несколько лет до его, в 1833 году, рождения. Не знал даже имени. Но всякий, взявший на себя труд прочесть его воспоминания, скажет вслед за нами, что это предположение более чем абсурдно. А если так, то вторым – и, вероятно, единственным, – хотя и косвенным ответом на эту третью загадку может быть только следующее: для всего семейного клана Стройновских-Зуровых, Буткевичей и Маевских существовали какие-то очень серьезные причины, в силу которых добровольный мемуарист не мог – даже в 1881 году! – обнародовать именно имя этой своей тетушки, к тому времени, наверное, уже давно умершей.
Следовательно, первой нашей задачей было узнать, как звали третью, младшую дочь Александра Дмитриевича Буткевича от его третьего брака, которой в 1810-х годах было около 16 лет, – неизвестно, когда и где родившуюся, бывшую ли замужем и когда, где и как умершую. Сейчас ситуация сложилась так, что все загадки и умолчания Н.С. Маевского, словно преломленные лучи в фокусе, сошлись как раз на имени младшей сестры Екатерины Александровны Буткевич.
Задача, вполне подтверждающая французскую поговорку, что у истоков всякой тайны –«ищите женщину». Чтобы современному широкому читателю стало вполне ясно, в чем заключается трудность такого поиска, нужно сказать, что, если жизнь и деятельность мужчин того времени (имеется в виду дворянское сословие), кроме церковных метрических записей о рождении, женитьбе и смерти, фиксировалась затем в их учебных аттестатах, послужных списках и формулярах, сохранившихся в разных архивах до наших дней, то в отношении женщин все было гораздо примитивнее.
Они записывались в те же метрические книги при рождении, затем при выходе замуж, если это происходило, и когда умирали (дата и причина смерти). Кроме того, жены, как и дети, заносились в послужные списки мужей по имени и отчеству, но, как правило, без указаний их девичьей фамилии. Исключение составляли только дочери титулованных особ, когда, например, писалось: «женат на Марии, дочери князя или графа Ивана такого-то». Вот и все, если не считать архивных списков воспитанниц двух привилегированных Петербургских институтов для благородных девиц – Смольного и Екатерининского, да разных юридических актов, отражавших земельные, купчие, бракоразводные и другие тяжбы того времени. Ну, а в нашем случае? Известно лишь то, что в 1810-1824 годах интересующая нас особа, по отчеству Александровна и по фамилии Буткевич, жила в доме родителей, в старой петербургской Коломне, в приходе церкви Покрова Богородицы. Судя по воспоминаниям Маевского, она, как и ее сестры, в институте не училась.
Однако этот поиск мы все-таки начали. Просмотр в Ленинградском историческом архиве метрических книг Коломенской церкви за 1817-1833 годы не принес результатов. Среди многочисленных записей о крестинах, свадьбах и похоронах прихожан этой церкви в те годы есть сведения о венчании в 1819 году Екатерины Буткевич с графом Стройновским, о рождении в 1823 году их дочери Ольги, о венчании матери Маевского Любови с его отцом в 1827 году и рождении его самого в 1833-ем, но ни одного упоминания о третьей дочери Александра Дмитриевича там не было. Правда, все это отражало лишь зимний период, так как на лето вся семья уезжала в деревню, а метрические книги Преображенской церкви села Спасское Старо-Русского уезда Новгородской губернии не сохранились.
Оставалась последняя надежда – исповедальные ведомости. Согласно церковным правилам, все прихожане в определенные дни должны были бывать у исповеди и «святого причастия», что и регистрировалось опять же в специальных книгах. Особенно строго это соблюдалось в последнюю неделю Великого поста, перед праздником Пасхи. И снова пришлось перелистать груды толстенных фолиантов в корявых от времени, изъеденных мышами переплетах, где на порыжелых страницах зачастую выцветшей, трудно разборчивой скорописью указывалось, что тогда-то и тогда-то у исповеди были те-то и те-то. И так год за годом, начиная с 1810-го.
Но то ли семья генерала Буткевича не отличалась особым благочестием, то ли исповедывались они дома или в какой-либо другой церкви, но в первых просмотренных книгах этой фамилии не было. Разгадка появилась только в книге за 1815 год. Здесь, на обороте страницы 152 указывалось, что на страстной неделе в апреле месяце у исповеди и причастия были:
«Генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Буткевич 65 лет и дети его:
Екатерина 17 лет
Любовь 14 лет
Татьяна 10 лет (!)
Николай 13 лет
и воспитанница его Виктория Алексеевна 7 лет»
Таким образом, вслед за Пушкиным, мы теперь можем повторить: «Ее сестра звалась Татьяной…» – и добавить, что, следовательно, именно это имя так тщательно скрывал Маевский в своих воспоминаниях. Но почему? Однако прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, вернемся ненадолго к приведенной записи, так как указанный в ней возраст членов семьи
А.Д. Буткевича и его самого требует уточнений. Делавший эту запись священник или дьячок допустил несколько неточностей – случай, с точки зрения архивных работников не редкий, вполне возможный. Он мог бы и не заслуживать внимания, если б весь рассказ не был связан с именем Пушкина.
Так, из ряда источников, начиная с хроники Маевского и кончая Провинциальным некрополем вел. кн. Николая Михайловича, известно, что Александр Дмитриевич родился 21 января 1759 года. Следовательно, весной 1815 года ему было 56, а не 65 лет. Далее, если считать правильной указанную Маевским дату рождения Екатерины Александровны – 6 августа 1799 года, – то в день исповеди ей было неполных 16 лет, а не 17. По хронике, его мать Любовь Александровна родилась 15 февраля 1801 года. Стало быть, в апреле 1815-го ей уже исполнилось 14 лет. Здесь все совпадает. По косвенным указаниям Маевского, его дядя Николай Александрович родился в 1804 году. В С-Петербургском некрополе сказано, что генерал-майор Ник. Александр. Буткевич, похороненный на кладбище Новодевичьего монастыря, умер 20 февраля 1878 года, на 75-ом году жизни (т.е. 74-х с лишним лет), следовательно, он родился после февраля 1804 года, а, значит, в апреле 1815-го ему было не более 11 лет, а уж никак не 13.

