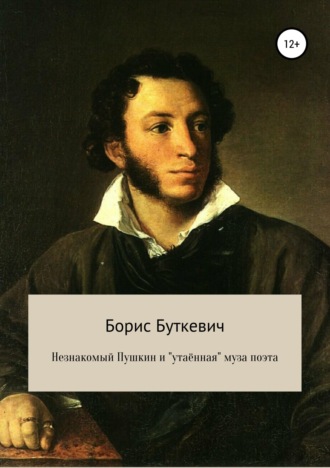 полная версия
полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта
Говоря об источниках его богатства, вше кажется, нельзя ошибиться, если сказать, что он приобрел его торговлей драгоценными камнями, картинами и табакерками. Все петербургские ювелиры собирались у него ежедневно, как на биржу, по утрам, и приносили вещи или брали их из его витрин, У него известный ювелир Я.Д. Дюваль вел даже переписку с Парижем, Лондоном и Амстердамом, и через тогдашнего банкира барона Раля им переводились за границу и получались оттуда огромные суммы денег. В делах В-кого все обнаруживало торговлю, но вел он ее секретно через других.
В то время в обществе охотнее принимали ловких шулеров и разных темных авантюристов, чем купцов. Граф В-кий имел внешность вельможи, он выезжал в парной польской или венгерской шорной закладке, в богатой собольей шубе, крытой зеленым бархатом, с звездой – Станислава на покрышке, и в таком виде никто не мог бы заподозрить в нем продавца алмазов.
Покупать бриллианты в те годы было очень выгодно, да и знатоков было очень немного. Старые петербургские ювелиры все знали, что знаменитое алмазное ожерелье Марии Антуанетта, наделавшей столько шума в Европе своим скандальным процессом, было продано в Петербурге графу В-кому одним таинственным незнакомцем, впоследствии довольно известным лицом в Москве».
Вот такую характеристику дает своему герою М.И. Пыляев.
Какие же выводы можно из нее сделать? Но прежде несколько слов о самом Пыляеве. Он родился в 1824 году. В молодости увлекался театром, искусством, минералогией. Все это нашло отражение в его многочисленных газетных публикациях в 1860 – 70-х годах. Первой книгой был сборник популярных рассказов о драгоценных камнях (1877 г.). С 1879 г. в газете «Новое время» публикует множество исторических зарисовок, очерков, анекдотов, мелких исследований, собранных затем в книгах «Старая Москва», «Старый Петербург», «Старое житье», «Замечательные чудаки и оригиналы». Все они написаны в увлекательно-популярном жанре и сегодня не потеряли еще своего информативного значения. Умер Пыляев в 1899 году. Из этой справки выделим важное для нас – увлечение минералогией и драгоценными камнями. Вероятно, оно и подтолкнуло М.И. к написанию очерка о таинственном графе В-ком, промышлявшем торговлей алмазами. Отсюда же и его неоднократные упоминания о старых ювелирах, вероятно, лично знакомых автору и рассказывавших ему о своей прошлой деятельности и скрытых аферах В-кого.
Возвращаясь к характеристике графа, обратим внимание на следующее. Не говоря уже о замысловатом (как увидим ниже) криптониме, скрывающем его истинную фамилию, Пыляев недвусмысленно избегает каких-либо конкретных указаний на служебную и общественную деятельность В-кого, его семейное положение, возраст, другие черты биографии. Не назван никто из его многочисленных светских знакомых. Короче говоря, сказано о нем, о его жизни вроде бы много, но нет ничего, позволяющего подразумевать реальную личность. Исключение только одно: купил дом на углу Большой Морской улицы и Почтамтского переулка. Но и здесь, на поверку, обнаруживается маленькая неточность, уводящая от истины.
Зачем же понадобилось Пыляеву столь тщательно маскировать своего графа? Ответ достаточно ясен. Обрисовав человека как очень богатого, широко известного в обществе, пользующегося вроде бы заслуженным уважением и популярностью в свете, он одновременно обвиняет его в спекуляции алмазами и покупке заведомо известных краденых драгоценностей огромной стоимости, причем косвенно компрометирующих французский и австрийский королевские дома. Публикация таких сведений, так сказать, открытым текстом, неминуемо должна была вызвать бурную протестующую реакцию со стороны наследников и родственников В-кого, к тому времени (1898 г.), вероятно, уже умершего, безусловно потребовавших бы более веских доказательств совершения нечистоплотной сделки. В тоже время Пыляев, как писатель и историк, не мог не понимать, что имеющаяся у него информация о дальнейшей судьбе ожерелья Марии Антуанетты представляет собой объективную историческую и научную ценность, а, следовательно, его долг – сделать ее общественным достоянием. В этом плане он выбрал, пожалуй, единственно правильный вариант. Но, как говорится, все тайное становится явным.
Свою попытку разгадать загадку, предложенную Пыляевым, и узнать, кого он скрыл под буквами В-кий, мы начали с поисков в справочной, научной и мемуарной литературе, отражавшей жизнь высшего света Петербурга первой четверти прошлого века. Однако никого, чья фамилия укладывалась в этот криптоним и кто был бы при этом графом, поляком, миллионером, ценителем и коллекционером картин и прочего, любителем карточной игры, гастрономом, благотворителем и кавалером ордена св.Станислава, найти не удалось.
Более того. По документам Ленинградского городского исторического архива, из восьми владельцев домов, стоящих по обоим углам Почтамтского переулка и Большой Морской улицы в период с 1800 по 1834 годы, не было никого, кто бы соответствовал описанию Пыляева. В конце концов, мы остановились на человеке, чей облик и жизненный образ отвечал указаниям историка, но фамилия вроде бы не подходила под криптоним В-кий. Речь идет о нашем «старом знакомом» – графе Валериане Венедиктовиче Стройновском.
Из тех же воспоминаний племянника его жены, Н.С.Маевского, явствует, что в молодости граф много путешествовал по Европе, пользовался доверием и милостью короля Станислава Августа, наградившего его орденами Белого Орла и св.Станислава; что происхождение его миллионного состояния так и осталось неясным. Еще в Польше, в 1795 году, Стройновский приобрел имение Горохов в Волынской губернии, ранее принадлежащее племяннику короля Станиславу Понятовскому. Как указывается в польской энциклопедии, Стройновский перестроил находящийся в имении дворец, великолепно его украсил, поместил в нем галерею картин, коллекцию древностей, привезенных из Помпеи, заложил английский парк, суконную фабрику. Картинную галерею и коллекцию он позже перевез в Петербург, в собственный дом на набережной Фонтанки, купленный им в 1819 или 1820 году. Этот дом он вскоре проиграл в карты титулярному советнику Смирнову12 (Сам факт подтверждается только устными воспоминаниями-преданиями петербургских старожилов). В начале 1820-х годов, по личному повелению Александра I, был без суда и следствия отставлен от службы. Затем долгое время жил в деревне13,
в 1832 году купил на имя жены дом в Петербурге на Большой Морской улице. Этот дом был радом с Почтамтским переулком, третий от угла. Умер Стройновский там же, в Петербурге, и похоронен в своем Волынском имении, в местечке Кульчино. Было ему 87 лет....
Мы позволили себе повторить основные вехи этой, уже известной читателю, биографии, чтобы было легко заметить, что ряд ее деталей полностью совпадает с нарисованным скрупулезным Пыляевым обликом В-кого. Причем наиболее интересной, в совокупности с остальными, является, конечно, покупка дома на Большой Морской улице. О приобретенном Стройновским и затем проигранном в карты доме на Фонтанке Пыляев мог просто не знать или же не решился упомянуть о нем, так как покупка эта была непосредственно связана с получившей широкую огласку историей последней женитьбы графа.
Дополнительным подтверждением тождества Стройновского с графом В-ким могут служить еще несколько моментов. Так, рассказывая о замужестве своей тетки, Маевский пишет, что Стройновский «был чрезвычайно умен и образован, и ум его был одинаково приятен как для гостиных, так и для тихой домашней жизни». Далее. Пыляев упоминает об изысканных обедах В-кого и его широкой благотворительности. Здесь в первом случае мы располагаем фразой из письма Л.И. Тургенева к П.А. Вяземскому (см. очерк «Прообраз Карлы Черномора»).
Во втором же – следует принять во внимание следующее. Пыляев пишет о пожертвовании графом В-ким Вилейскому университету коллекции редких минералов, которая находилась затем в Киевском университете. Отметим здесь, что и Стройновский, и его родной брат Иероним были одно время связаны с Виленским университетом. Иероним несколько лет был его ректором, а первая книга Стройновского вышла в Вильно в 1809 году. Но не это главное. Как известно, Киевский университет был открыт в 1834 году на основе Виленского учебного округа. Эта гимназия, в связи с отдаленностью от Вильно, стала фактически самостоятельным высшим учебным заведением. Основал ее в 1805 году известный деятель просвещения того времени, ученый-правовед, польский магнат Фадей Чацкий. В «Истории Киевского университета» читаем, что «Кременец явно соперничал с Вильною, и многие профессора были лучше виленских.
Суетность знати удовлетворялась, добровольные пожертвования умножались, собран был капитал в несколько сот тысяч, и распространялось убеждение, что честный человек обязан жертвовать своими собраниями на умножение собраний лицея… Кременец сделался любимым местопребыванием польского дворянства…» И далее – о коллекциях Киевского университета, что они «имеют основанием своим коллекции бывшего Волынского лицея, создателем которого был Ф. Чацкий. В основу их он положил собрание книг, медалей, минералов… приобретенное от наследников короля Станислава-Августа Понятовского…
Увеличенные различными пожертвованиями и приобретениями, эти коллекции вошли в полном составе своем в университет Св. Владимира в Киеве». Таким образом, Пыляев, написав, что коллекция В-кого поступила потом в Киев, подсказал тем самым, что ранее она находилась в Кременецком (Волынском) лицее, то есть на родине Стройновского, в уезде, где ему принадлежал целый ряд крупных имений. Кроме того, немаловажно и то, что родной племянник Фадея Чацкого граф Тарновский был женат на дочери Стройновского от первого брака. Совокупность всех этих сведений дает все основания считать возможным и закономерным факт пожертвования Стройновским своей коллекции Кременецкому лицею.
Теперь о самом псевдониме, за которым Пыляев скрыл подлинное имя своего графа. Прежде всего, следует отметить, что в девятнадцатом веке всякого рода шифровка имен и фамилий была весьма распространенной. Делалось это самыми разными способами. Одним из них и воспользовался Пыляев. Суть его в том, что в начале такого криптонима ставилась первая буква не фамилии, а имени или отчества, и затем, через дефис, один или два последних слога самой фамилии. В словаре Масанова можно найти множество подобных примеров. В нашем же случае В.В. Стройновский стал В-кий. Такой псевдоним, сохраняя определенную документальность, одновременно защищал Пыляева от возможных, как мы уже говорили, обвинений и неприятностей. Ведь если б он написал, допустим, В.С-кий, даже просто С-кий, все было бы намного прозрачнее и яснее. Например, совершенно понятно, что, рассказывая в этой же книге о шутливых чудачествах друга Пушкина П.В. Н-на, он подразумевал Павла Войновича Нащокина и скрыл его за столь понятным криптонимом лишь из уважения к жившей еще в то время жене Нащокина Вере Александровне.
Думаем, что предложенный выше анализ и сопоставление биографии Стройновского с обликом В-кого, очерченным М.И.Пыляевым, дают право не сомневаться в их тождественности и, следовательно, считать, что последним из известных нам на сегодня владельцев бриллиантов Марии Антуанетты был граф Валериан Стройновский. В дополнение к нашим размышлениям интересно отметить еще и то, что характеристики Стройновского, сделанные Пыляевым и Маевским, ни в чем не противоречат, а лишь дополняют друг друга. Так, Пыляев, безусловно знакомый с воспоминаниями Маевского, опубликованными в 1880 году, нигде не упоминает о том, что Стройновский был доктором права и медицины, сенатором, писателем и так далее, а Маевский, в свою очередь, естественно обходит молчанием торгово-спекулятивную деятельность своего двоюродного дядюшки, богатству которого он, в какой-то мере, был обязан своим благосостоянием. Да и не только он, но и все другие члены этой семьи, дети и внуки Стройновской (по второму браку Зуровой), занимавшие в конце прошлого века высокие ступени иерархической лестницы.
Другое интересное наблюдение, позволяющее предположить время покупки Стройновским бриллиантов у графини де Гаше, можно сделать из следующего. В воспоминаниях Маевского говорится, что Стройновский был «позорно без суда и следствия» отставлен императором Александром I от всех должностей в середине 1823 года, то есть сразу после рождения у Стройновского дочери Ольга, и что причиной было ведение им в сенате собственных тяжебных дел, в силу чего просители не могли рассчитывать на справедливость сенатского решения. Что после увольнения он проиграл крупный процесс и вынужден был уплатить миллион, для чего продал свой дом на Фонтанке, собрание картин, скульптуру и многое другое.
Однако в письме митрополита Евгения Болховитинова к В.Г. Анастасевичу (переводчику книг Стройновского с польского на русский язык) из Пскова в Петербург от 12 ноября 1820 года есть такие строки: «…не верю я, что Стройновского за гражданский процесс приговорили к исключению из всех должностей. Он все-таки останется сенатором, как и после поступка с Вами. Сколько в сенате подобных ему?»
Документальность этого письма опровергает воспоминания Маевского в отношении времени отставки и увольнения Стройновского. Конечно, мемуарист, писавший обо всем спустя шестьдесят лет после реальных событий, мог быть введен в заблуждение неточной информацией тех, кто рассказал ему о прошлом семьи (Маевский родился в 1833 году), но не исключено, что он сделал это умышленно, охраняя семейные тайны, в чем мы не раз убеждались, проверяя другие страницы его записок.
Может быть, относя время увольнения Стройновского от дел к 1823 году, с последующей продажей дома и уплатой миллионного долга за якобы проигранный процесс, Маевский прикрывал его крупный карточный проигрыш. Но возможно и другое. Вспомним, что графиня де Гаше (по свидетельству П.П. Вяземского, написанному в конце века) переехала в Крым в 1822 году. Если предположить, что покупка у нее Стройновским, через доверенного «таинственного незнакомца», краденых королевских алмазов состоялась вслед за ее решением покинуть Петербург, то это вполне могло произойти в том же 1820 году. Сама же сделка, ставшая каким– то образом известной Александру I, несомненно, должна была вызвать его гнев, и последующую «позорную» (эпитет Маевского) отставку Стройновского, и удаление его из Петербурга, где он стал вновь появляться лишь после смерти императора. Возможно, что и потеря миллиона тоже была связана с этой историей.
Читатель наших заметок вправе спросить: ну, а причем же здесь Пушкин? Какое отношение имеет к нему все рассказанное?
Не было бы никакого, если бы Стройновский не был мужем Екатерины Александровны Буткевич. Если бы не было «утаенной» любви Пушкина к ней. Если бы не было церкви Покрова, где Пушкин любовался своей графиней… В своих воспоминаниях Маевский пишет: «В первую зиму после свадьбы граф Стройновский попробовал вывозить свою жену. Не помню теперь, куда был ее первый выезд; помню только, что первый контрданс она протанцевала с государем Александром Павловичем, а затем весь вечер танцевала со страшнейшим из ловеласов того времени, графом Чернышевым.
Произведенный ею эффект доходил до фурора и испугал старого графа; первый выезд моей тетки был и последним. Она, впрочем, никогда и не возбуждала об этом вопроса, все более и более погружаясь в свой величавый индифферентизм». Этот рассказ о не знающей границ ревности Стройновского, не отпускавшего жену никуда и ни на шаг, подтверждается и другими свидетельствами. Можно предполагать, что единственным местом, где Пушкин встречал в ту зиму 1819 года плененную графиню, была та же церковь Покрова, «где ее можно было видеть каждый воскресный и праздничный день». Много позже он любил «летать, заснувши наяву» на эти встречи, вспоминал о них, создавая свой «Домик в Коломне». Наступила весна 1820 года. Тучи царского гнева нависли над его головой и 5 мая обрушились повелением оставить Петербург и отправиться в ссылку на юг. Отъезд был назначен на шестое число, но шестого Пушкин не уехал. Более того, вероятно, именно в этот день, ставший для него «днем печали», он снова был в церкви Покрова и виделся с графиней Стройновской.
Павел Васильевич Анненков в своих материалах для биографии Пушкина привел очень интересные слова поэта, предварив их маленьким вступлением. Он писал: «Пушкин был обвенчан с Н.Н. Гончаровой февраля 18 дня 1831 года, в Москве, в церкви Старого Вознесенья, в среду. День его рождения был тоже, как известно, в самый праздник Вознесенья Господня. Обстоятельство это он не приписывал одной случайности. Важнейшие события его жизни, по собственному его признанию, все связаны с днем Вознесенья. Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал об этом одному из своих друзей и передал ему твердое свое намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесенья Господня. Упоминая о таинственной связи всей своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая».
Пушкин не мог уехать из Петербурга 6 мая 1820 года лишь потому, что этот день был неприсутственный и почтовое ведомство не работало. Был праздник Вознесенья Господня. Спустя год, в своем кишиневском дневнике, Пушкин сам уточнил дату своего отъезда. 9 мая 1821 года он записал: «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург».
Можно с уверенностью предполагать, что Стройновская знала о всех злоключениях своего опального друга, знала о его предстоящем отъезде. И очень соблазнительно предположить, что, собираясь к обедне в церковь утром 6-го мая, – где бывала одна, без мужа, католика по вероисповеданию, – она с его разрешения или даже без спроса взяла из стеклянной витрины в его кабинете один из находящихся там драгоценных перстней – массивное золотое кольцо с вставленным в него крупным изумрудом. Прощаясь с Пушкиным в тот день Святого Вознесенья, она подарила ему этот перстень. По рассказам своего ученого мужа она могла знать, что изумруд еще с древних времен был призван вдохновлять людей, посвятивших себя искусству: поэтов, художников, музыкантов. Знал это и Пушкин, не чуждый, как известно, суеверия и прекрасно разбиравшийся в символике драгоценных камней; Знали они оба и то, что изумруд считается счастливым камнем для людей, родившихся в мае, то есть в том самом месяце, когда родился Пушкин.
Хочу сразу оговориться, что никакими документальными свидетельствами реальности приведенной сцены их прощания и того, что Стройновская подарила Пушкину перстень с изумрудом, я не располагаю. Все это лишь зыбкая догадка. Но она, думается, имеет право на существование.
Нам известны сегодня шесть колец, в разное время принадлежавших Пушкину. Почти все они имеют свою историю. Хронологически это выглядит так:
1. Перстень-печатка с изображением сосуда в форме античного светильника, с выступающей справа высокой ручкой, напоминающей птичью или змеиную голову на длинной шее. Такие перстни-печатки имели все члены литературного общества «Зеленая лампа», заимствовавшие эту традицию из масонской символики. Пушкин запечатывал таким перстнем письма своим друзьям по обществу в 1819 году. По свидетельству сына поэта А.А. Пушкина, этот перстень был потерян его отцом в Кишиневе.
2. Тонкое золотое кольцо со вставленным в него сердоликом. На камне вырезаны три амура, садящиеся в ладью. Этот перстень, принадлежавший Пушкину, был положен им в лотерею, проводившуюся в доме Раевских, и выигран М.Н. Раевской. Черёз много лет ее внук передал его в Пушкинский дом, где он теперь и находится.
3. Золотое витое кольцо-перстень с сердоликом, подаренное Пушкину Б.К. Воронцовой в Одессе в 1824 году, известное как талисман. После смерти Пушкина находилось у Жуковского, затем у Тургенева. Полина Виардо передала его в Пушкинский музей Александровского Лицея, откуда оно было украдено.
4. Кольцо, подаренное Пушкину на именины А.П. Керн в Петербурге в 1827 году. Дальнейшая судьба этого кольца неизвестна.
5. Кольцо с бирюзой, подаренное Пушкину П.В. Нащокиным. Уже на смертном одре Пушкин отдал его на память Константину Карловичу Данзасу – секунданту на его последней дуэли. Кольцо это, снимая перчатку, Данзас уронил в сугроб, и найти не смог.
6. Перстень с изумрудом, тоже называемый Пушкиным талисманом. О его происхождении и времени появления у Пушкина ничего не известно. Отдан Натальей Николаевной В. И. Далю после смерти мужа. Теперь находится в Пушкинском Доме.
Какие же выводы можно сделать, анализируя этот перечень? Прежде всего то, что история трех колец из этих шести известна нам от начала до конца, в том числе знаменитого «талисмана», подаренного поэту княгиней Воронцовой и воспетого им в одноименном стихотворении. Из других трех можно считать известной судьбу кольца с амурами. Пушкин легко расстался с ним, предоставив судьбе определить его дальнейшего владельца. Отрадно, что она не ошиблась в своем выборе. Несколько сложнее говорить об именинном подарке 1827 года. Упоминание об этом кольце есть только в записках А.П. Керн. Вероятно, это было изящное золотое колечко с небольшим драгоценным камнем, возможно бриллиантом, так как по ее словам «он (Пушкин) взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое… На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами…»
Как видим, поэт не остался в долгу и поспешил отблагодарить Анну Петровну со свойственным ему благородством и щедростью. Дальнейшая судьба этого кольца неизвестна, но в жизни Пушкина оно вряд ли играло какое-либо особое значение. Остается перстень с изумрудом, второе сохранившееся до наших дней кольцо Пушкина. Долгое время оно не привлекало внимания исследователей, и только недавно его значение стало темой работ Л.И. Звягинцева14 и нашего очерка «Магический кристалл». Ничего не известно о том, когда и при каких обстоятельствах появилось оно у Пушкина. Со слов В.И.Даля, получившего его от вдовы поэта, и из кратких упоминаний Тропинина и Анненкова мы знаем, что Пушкин дорожил им не менее чем перстнем Воронцовой, тоже постоянно носил на руке и также называл талисманом, причем связывал его магическую силу со своим дарованием, которое могло иссякнуть с утратой этого перстня. Такое убеждение Пушкина соответствовало, как указывалось выше, символике изумруда – камня, призванного вдохновлять людей, посвятивших себя служению музам.
По мнению Звягинцева, разделяемому нами, именно этот перстень, а не кольцо Воронцовой, имел в виду Пушкин в стихотворении «Храни меня, мой талисман», написанном вскоре по приезде в Михайловское после южной ссылки.
Думается, не лишне остановиться на этой гипотезе несколько подробнее. Суть ее в том, что сердолик (в кольце Воронцовой), согласно все той же символике, наряду со своими якобы лечебными свойствами, помогающими от слабости сердца, лечению ран, останавливанию кровотечений и так далее, имел и другое значение. «В средние века в Европе было убеждение: тем, кто обладает сердоликом, он придает храбрость и может вызывать любовь и симпатию… На Руси же этот красный камень считался талисманом любви и страсти… цветом напоминает огонь и кровь, изображает пламень веры… может содействовать любви».
Именно это свойство сердолика предельно ясно отражено в строках стихотворения «Талисман», написанного в ноябре 1827 года, в Петербурге, кода там проездом находилась Е.К. Воронцова. Вспоминая их крымские тайные встречи, Пушкин пишет:
«… Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман…
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя -
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман».
Здесь значение волшебного камня только как хранителя их любви совершенно однозначно. В словах, в образах нет подтекста, нет столь свойственного Пушкину напластования мысли. А потому появляется основание считать, что Т.Г. Цявловская, справедливо усматривая в «Талисмане» как бы антитезу стихотворению «Храни меня, мой талисман», написанному двумя годами ранее, допускает, тем не менее, ошибку, считая, что и в нем Пушкин обращается к перстню, подаренному Воронцовой, просит у него защиты от жизненных бурь и невзгод.
Гораздо правдоподобнее предположение, что поэт имеет в виду другой свой талисман – перстень с изумрудом:
«… Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя

