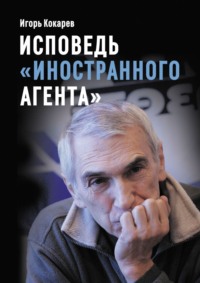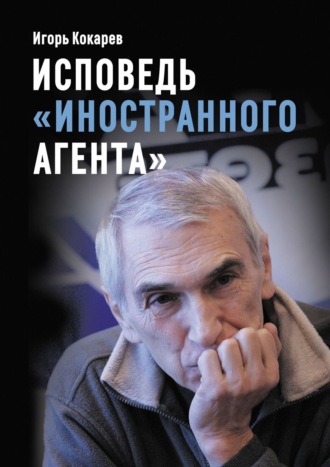
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
– Вот что ревность делает с человеком, – заканчивает Николай Александрович ровно в полночь.
К утру обычно смотрели иностранное кино. Называлось это чудо домашним кинотеатром. Кассета с фильмом с участием Симоны Синьоре и Ива Монтана – недавний личный подарок звездной пары.
Ближний круг ТНХ просто немыслим без этой талантливой и трогательно беспомощной семьи музыкантов. Но однажды внезапно и непредсказуемо придет та трагическая декабрьская ночь 1982 года. Под утро раздастся телефонный звонок, сдавленный голос Лизы звучит глухо:
– Тихон, Леня… только что звонили… Он где-то на станции… между Москвой и Клином… Инфаркт… Что делать?… кто?… как найти?…
Тихон Николаевич смотрит на меня. Я киваю головой и быстро одеваюсь. Несусь в темноте вдвоем с другом семьи вдоль путей электрички. На замызганной станции темно и пусто. Подслеповатая лампочка без плафона освещает маленькое смятое тело, вытащенное кем-то из вагона на каменную скамейку. Черные брюки расстегнуты, белая рубашка растерзана на груди, уже холодные руки с тонкими нервными пальцами свисают в одну сторону, как-то отдельно от тела. Никто. Труп на ночном полустанке. Ни души вокруг. Застывшее в муке лицо. Бомж? Нищий? Великий музыкант. Под лавкой – черный футляр. Гварнери….

В центре стоят Наташа Конюс, Леонид Коган, Андрюшка,
Тихон Хренников, сидят Клара в центре,
слева от нее Лиза Гилельс.
Поразила и другая смерть, случившаяся на моих глазах во время спектакля в Большом театре. Давали балет «Макбет». Его автор, шестидесятилетний красавец, композитор Кирилл Молчанов, отец Володи Молчанова, в будущем обаятельного телеведущего, сидел как обычно в директорской ложе. Высокий, вальяжный, с крупным значительным лицом, похожим на Пастернака, он привлекал внимание. Мы с Наташей сидели в третьем ряду партера и хорошо видели его. Там, за тяжелой бордовой завесой, отделявшей от зрителей ложу, стоящую почти на сцене, в темной ее глубине он вдруг схватится за сердце, сдержит стон, чтобы не испугать танцоров и умрёт. Красивая смерть.
Но все равно смерть. Трагедия. Леди Макбет в тот вечер танцевала его жена, звезда Большого Нина Тимофеева. Ей сказали в антракте. Она охнула, опустилась на стул, отсиделась и пошла танцевать дальше. Спектакль шел, как ни в чем ни бывало. Никто из зрителей в тот вечер так и не узнал, что произошло за кулисами.
Искусство требует жертв. Но не таких, подумалось. Зритель должен знать, какой ценой оплачен сегодня его билет. И этот спектакль остался бы тогда в его памяти на всю жизнь, как прощание с большим художником, как подвиг его жены, на их глазах уже взвалившей на себя крест потери.
Но было еще и что-то страшней смерти. Об этом мне рассказывала с отрешенным лицом властная и величественная Наталья Ильинична Сац. Только она в силу своего могучего темперамента и характера могла позволить себе не забыть. И не промолчать. Еще в 1933 году она заказала студенту Московской Консерватории Тихону Хренникову музыку для спектакля по пьесе «Мик», и с тех пор обожала его. Теперь она ставила в своем Московском государственном детском музыкальном театре его оперу «Мальчик-великан» и часто бывала у нас дома.
Педагог и воспитатель по призванию, она, царственно указав на стул рядом, своим литым голосом сначала расспрашивала о том, кто я и откуда, а потом вдруг стала рассказывать свою страшную историю. Затаив дыхание, я слушал, как трясясь в тюремном вагоне над очком, выронила в него под бежавший поезд свое недоношенное дитя. Как допрашивал ее на Лубянке начальник отдела по работе с интеллигенцией генерал Леонид Райхман. Он сидел за столом, уставленном разными деликатесами и напитками, аппетитно ел украинский борщ. Она, после двух недель на ржавой селедке, почти без воды, стояла перед ним, шатаясь от голода и жажды. Он улыбался…
Ее, прошедшую через этот кошмар и сохранившую достоинство и энергию, буду помнить всегда. Конечно, мы бывали в ее театре, и меня всегда поражал ее мощный уверенный голос, когда она обращалась к детям, выходя на сцену перед спектаклем. Говорила Наталья Ильинична простые, но вечные истины, и зал завороженный не смел ее не слушать. Мне же она советовала не прогибаться, сохранять независимость в любых обстоятельствах и делать дело, которому не стыдно посвятить жизнь.
А с этим Райхманом случилось и мне столкнуться лицом к лицу через несколько лет. Дело было на дне рождения сына соседа по даче, бывшего шофера Сталина. Гость, пожилой, округлый, лысый мужчина произнес тост, обращаясь к компании молодых людей:
– Я пью за вас, за заботливо выращенное партией прекрасное поколение, за ваши успехи на благо нашей великой Родины. Мы много сделали для того, чтобы вы были счастливыми.
– Кто это? – толкнул я Наташу под столом.
– Это Леонид Райхман, потом расскажу, – ответила Наташа.
Но мне не надо было рассказывать. Я уже знал его. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вскочил и, перебивая лившуюся мягкой струей речь, прокричал:
– Да как вам не стыдно появляться на людях, смотреть нам в глаза? Пить с вами за одним столом – это оскорбление памяти вами замученных! Позор!
Оттолкнув стул, задыхаясь от ужаса, перехватившего горло, я выскочил в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. Праздничное застолье замерло. За дверью стояла звенящая тишина. Или это звенело в ушах? Приоткрылась дверь, и ко мне подошел он. Присел на кровать, где я лежал, уткнувшись лицом в одеяло, и начал говорить. Тихо, медленно, глухо:
– Молодой человек, вы ничего не знаете про наше время. И хорошо, что не знаете. Но поймите одно: мы были вынуждены, такие были обстоятельства. Шла война, классовая, жестокая война, мы верили в победу. И мы победили, хотя и большой ценой. Вы должны понять и простить нас, мы многим жертвовали во имя будущего. Оно пришло, и вы счастливы уже тем, что живете в другое, невинное время. Простите нас…
Его слова были ужасны, аморальны, бесчеловечны, от них будто било электрическим током. Вынуждены? Большой ценой? Победили? Понять и простить? Ну, уж нет…
Потом он встал и тихо ушел. А я лежал и мучился. Почему, ну почему они все еще среди нас? Простить? Не бывает прощения без осуждения и покаяния!
Наташа ни словом не упрекнула меня в произошедшем. И никогда, ни разу не позволила себе вспоминать о том, как я испортил такой прекрасный вечер. Но я говорил об этом с Борисом Маклярским.
– Боря, неужели его не мучают кошмары?
– Кого, твоего Райхмана? Мальчики кровавые в глазах? Нет, не мучают. Ведь они приняли страну с сохой, а оставили с атомной бомбой. Прогресс! Они даже гордятся.
Борис, сын директора Высших сценарных курсов, успешного сценариста и военного разведчика, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», довольно циничен, но его черный цинизм разбавлен едкой краской иронии.
– Но он же преступник! Садист и серийный убийца. Даже хуже, потому что нашел себе оправдание.
– А он свое отсидел. Вышел и еще диссертацию защитил. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Он от партии-то не отрекся! Ведь ты, поди ж, в той же партии? Или отрекся?
– Боря, это удар ниже пояса.
– Да, ты не участвовал в преступлениях, ты пытаешься изменить ее изнутри, ты не подашь руку таким, как он, не сядешь рядом. Ты порядочный, уже хорошо. Но этого мало. Они раздавят вас при первой возможности.
Борис, давний наташин ухажер, научный сотрудник Института международного рабочего движения, относился ко мне с живым интересом, видимо желая понять, что нашла Наташа в своем избраннике. Мне же, такой обремененный образованностью и жизненным опытом собеседник был просто необходим.
В Сухуми, в композиторском санатории «Лилэ» я познакомился с Микаэлом Таривердиевым. Он гонял за катером на водных лыжах почти как я. Он еще любил показаться. Например, на ходу зажать фал между коленей и поднять руки в стороны. Высокий, как распятый Христос, несся он по волнам. Я на другом фале за ним. А еще мы оба ходили на досках с парусом, wind surfing называлось это удовольствие по-английски.
Наташа наблюдала с берега. Невозможно даже вообразить ее на водных лыжах. И она видела, как я, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувшей головы, врезался вытянутыми руками в пирс. Сломал обе кисти на глазах ахнувшего пляжа. Обмякшего, испуганного, Микаэл отвез меня куда-то в горы в местную больничку, там запаковали в гипс обе руки до локтя и обкололи обезболивающими. Боль дикая пришла ночью. Но через пару дней она притупилась, и я снова полез на доску, держа парус гипсовыми обрубками с торчащими из них пальцами. Кости из-за этого подвига срослись криво. В Москве их пришлось ломать и снова месяц ходить в гипсе. Но с Микаэлом мы сошлись, и уже на водохранилище в Химках серфинговали вместе.
У него были огромные лапы. Именно лапы, а не руки. Этими мягкими лапами он накрывал две октавы, и, не глядя, отыскивал ими нужные ему звуки. Так рождалась песня. Я сидел рядом и ел с тарелки мягкий, с хрустящими на зубах семечками, инжир. Он наигрывал, нащупывал то, что должно было стать темой до сих пор любимой народом разных стран мелодии.
Потом мы шли на пляж, брали по доске, поднимали паруса и неслись аж до Сухуми, подрезая друг друга на смене галса. Усталые, падали на горячий песок, и он лежал на спине, длинный, как удав Каа, приподняв вытянутую голову и медленно поворачивал ее, следя за женским миром оливковыми глазами. И женщины, эти бандерлоги нашей тайной, второй жизни полов, шли на этот взгляд, как завороженные. А еще у него был «Мерседес» с глазками, которым он очень гордился…
После премьеры своего знаменитого телефильма, сделавшего его невероятно популярным, он получил эту ехидную международную телеграмму: «Поздравляю успехом моей музыки в вашем фильме». И подпись: Фрэнсис Лей. Он обиделся, как ребенок:
– Сволочь Никита, услышал одну ноту и опозорил на всю страну!
Все знали, что это проделки Никиты Богословского, прославившегося еще с 40-х своими рискованными розыгрышами коллег не меньше, чем своей музыкой.
Микаэл уже работал над другим фильмом, и проникающий в душу лиризм его новых песен, сделает и этот фильм классикой советского кино. Его будут традиционно показывать под Новый год уж какое десятилетие подряд… Однажды его просьбе я писал коротенькое либретто «Девушка и смерть» по мотивам горьковской «Старухи Изергиль». Он сочинил прелестную романтическую музыку, Вера Баккадоро начала ставить балет в Большом. Не успела. Начнется Перестройка, которой Микаэл был рад.
Тогда и проявится его общественный темперамент в роли секретаря и Союза композиторов и Союза кинематографистов одновременно. Хотя ТНХ, как я понимал из оброненных фраз, считал его ребенком в политике, Микаэл благоразумно утверждался в другом. По жизни он был, как в своих песнях – нежным, незлобивым и справедливым. Его Верочка, журналистка и музыковед, мне кажется, хорошо вписалась в его внутренний мир и легко наводила там порядок.
Микаэла начнут терзать болезни. Он много курил но, несмотря на пережитый инфаркт, не бросал:
– Не буду я изменять своим привычкам, – отмахивался он небрежно от тревожащихся за него друзей, – пусть будет, что будет. Подумаешь, жизнь.
Он чувствовал вечность. С очередным приступом самолетом его отправили в Лондон. Там сделали операцию на открытом сердце. Он вернулся, я встретил его на пороге Дома кино. В разрез белой рубашки апаш виднелся багровый шрам.
Не забуду его вечно простуженный, клокочущий голос. Орел, слетевший с кавказских вершин на промозглые московские улицы. Микаэль ушел, а его верная подруга посвятит свою жизнь сохранению памяти о нем и его музыке. Верочка, Микаэль заслужил твою преданность и любовь…
А еще был Азарий Плисецкий, которого когда-то прочили в женихи Наташе. Его к нам привело любопытство взглянуть на наташиного избранника. Так вот он, сочувственно глядя на мои единственные пластмассовые штиблеты, снисходя, даст совет:
– Знаешь, что надо, чтобы туфли были всегда, как новые?
– Ходить босиком? – отыграл я на всякий случай.
– Надо иметь несколько пар: для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно.
Важный совет, спасибо. Царапины на самолюбии заживают долго.

Это веселый, слегка ироничный взгляд и был характером Тихона Хренникова.
Кто еще сиживал за Большим Столом? Ну, конечно, старшая сестра Клары, актриса немого кино тетя Маня, практически жившая в доме. Высокий, худой и слегка надменный брат ее, дядя Миша – красный партизан из конницы Буденного. Теперь он известный в Москве коллекционер почтовых марок. Обычно скромно молчащий личный шофер первого секретаря СК композиторов и депутата Верховного совета Петр Тимофеевич.
Рассказывает театральные новости и подыскивает по ходу разговора рифмы давний друг семьи, не имеющий возраста поэт и актер театра Советской армии, автор текстов к опереттам ТНХ Яков Халецкий. Он влюблен всю жизнь в Клару. По праздникам приходят важный, тщательно причесанный композитор Серафим Туликов с супругой. Похоже на официальный визит. Но мы с Наташей дружим с их дочерью Алисой и ее мужем Борей.

Николай Гяуров, Тихон, Павел Коган, Миша Хомицер
По-товарищески захаживает ироничный, мягкий в общении композитор Оскар Фельцман. Он одессит, и это нас сближало. С его сыном Володей, уже тогда известным пианистом, по весне летаем вместе в Сочи. Он сбегал туда от весенней аллергии, а я – в сочинский «Спутник» с лекциями. Запомнится Володина сентенция по поводу превратностей судьбы. Когда мы с ним оказались в компании двух актрис, одна из которых снималась с Наташей в «Руслане и Людмиле» в роли Людмилы, он сказал, обнимая эту Людмилу:
– Чего ты смущаешься? Это жизнь, она состоит из света и тени. Свет и тень. Запомни.
Я запомнил. Володя, несмотря на протесты отца, твердо решит уехать из страны по еврейской визе. Со мной он такими мыслями не делился. Как и все, попадет в отказники, замкнется, и просидит почти 10 лет без концертов, разучивая дома репертуар мировой классики.
Его примет в Белом Доме президент США, и пианист Владимир Фельцман сделает успешную исполнительскую карьеру. Рафинированный, изысканный и недоступный, он уединится под Нью-Йорком в доме в лесу, где бродят олени.
Через сорок лет мы встретимся с ним на его гастролях в Лос-Анджелесе, и он меня сначала не узнает.
– Свет и тень, Володя. Свет и тень.
И он рассмеется. Потом пришлет коллекцию своих записей с теплой надписью…
Часто бывал за Большим Столом и трогательно непрактичный Миша Хомицер. Известный уже виолончелист, он выглядел как избалованный еврейский ребенок, который привычно жаловался на жизнь, неряшливо ел и небрежно одевался. С ТНХ они удалялись в кабинет, где обсуждали нюансы разучиваемого Мишей виолончельного концерта. Однажды Миша вернется из Одессы с гастролей с сочной телкой, которая тут же станет его женой. Надо было видеть, как он был горд своим приобретением. Пока одесситка не наставила ему рога и не свалила с мужиком помоложе, прихватив часть имущества. Миша затосковал и с тоски уехал преподавать в Финляндию, потом, говорили, в Израиль. Мне казалось, он ничего не понимал в жизни кроме музыки.
Клара любила юного Володю Спивакова, поддерживала отношения с его родителями. Его нельзя было не любить, брызжущего энергией, обаятельного, спортивного, способного очаровать любого собеседника своей образованностью и бархатным, обволакивающим собеседника басом. Он показывал мне свои мускулы бывшего боксера. Талантливый скрипач, он уже создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», пробуя себя в качестве дирижера.
После ужина в большой квартире он оказывался у нас напротив и, сидя на кухне, любил поговорить. Ему не надо было подсказывать темы. Кажется, ему нравилась Наташа. Мы часами беседовали втроем. Она охотно принимала его ухаживания, а я после полуночи их покидал, потому что не умел остановить бесконечную беседу двух интеллигентных людей. Уходя спать, я тем самым чтил нашу флотскую мудрость: «жена моего друга – не женщина». Знал ли Володя ее вторую половину: «…но если она красивая женщина – он мне не друг», я так никогда и не узнаю. Но когда он возвращался с гастролей, он привозил подарки обоим.
Что все больше удивляло меня в среде этих замечательных людей, так это их политическая глухота. Или немота? Никогда и нигде, по крайней мере, при мне за тридцать лет не было даже намека на какой-то разговор о жизни страны, не говоря уже про критику советской действительности. Не думаю, что это страх проговориться. Скорее, твердая внутренняя установка: об этом не думать. За большим столом гости отдыхали. А когда все расходились, после полуночи ТНХ шел в свой кабинет и звонил композитору Мише Мееровичу, который делился с ним сплетнями, или Леве Гинзбургу, музыковеду. О чем они говорили ночными часами, я не знал…

Конечно, это Арам Ильич Хачатурян, внимательно изучающий нашего сына.
Вот юный Градский – совсем другое дело. Двадцатитрехлетнего Александра Градского привел к ТНХ всюду вхожий Андрон Кончаловский. Он тогда снимал «Романс о влюбленных», был буквально влюблен в ошеломительный дар юного Градского, покрывшего всю остальную музыку в его новаторском фильме, как бык овцу. Андрон горел желанием поделиться своим открытием с главным человеком в советской музыке. Речь шла о композиторском факультете консерватории.
Андрон нахваливал Сашу, которого считал своим открытием, Саша держался напористо и независимо. Он уже вырос из своих ВИА, быстро перерос «Скоморохов», учился вокалу в Институте Гнесина и теперь ему хотелось еще и в класс композиции. Тихону Градский понравился несмотря на его диссидентские наклонности, и Саша скоро оказался у него в классе. Градский, уже признанный композитор и певец с уникальными вокальными данными, будет вспоминать это время с благодарностью. Однако его неуемная энергия и жажда свободы оказались несовместимыми с академизмом консерватории, где надо было все же иногда сдавать экзамены и по общественным наукам. Этого Саша не желал и вылетел оттуда так же стремительно, как и влетел.
С Сашей мы быстро перешли на «ты» и не раз потом пересекались по жизни. Попасть на его концерты было уже не просто, но достаточно было звонка… Позже, уже в перестроечные годы, совершенно неожиданно столкнутся наши интересы на одном и том же объекте – кинотеатре «Буревестник». Градский будет тогда в зените славы, и всемогущий Лужков, не глядя, подмахнет ему бумагу, которой «Буревестник» передавался ему под музыкальный центр, забыв или не заметив, что уже больше года в старом кинотеатре строился Международный киноцентр силами АСКа – общественной организацией «Американо-Советская Киноинициатива», где выпадет мне быть вице-президентом.
– Чего же ты не позвонил мне сразу, чудак? Я же не знал, что это твой проект!
Ссориться из-за зала мы не стали…
Когда за столом оказывался Ростропович, все оживлялись. Слава был, что называется, записной хохмач, ирония гуляла в его глазах как легкий сквознячок, когда так или иначе затрагивались не музыкальные темы. Он прикрывался ею, как щитом.
О нем ходили легенды, например, о том, как приятель-гинеколог приглашал его посмотреть на хорошеньких пациенток. Он входил в кабинет в белом халате, рассматривал обнаженку, важно кивал головой.
– Взгляните, коллега. Вам не кажется, что это сложный случай?
Правда это или нет, неважно, но гомерический хохот того стоил. То, что Мстислав, еще одно исключение из правил молчаливого согласия с режимом, годами укрывал на своей даче Солженицына, подписывал разные письма, ТНХ никогда не комментировал.
Миша Хомицер, не желавший ничего знать кроме музыки и женщин, ревниво брюзжал о Растроповиче:
– Это же не музыкальный талант! Это артист, увлекающий публику жестами, голосом, всем, чем угодно. Ну, и виолончелью, конечно…
То же, кстати, можно было сказать и о Спивакове, умело режиссировавшим свои концерты. «Виртуозов Москвы», кстати, он действительно представлял сам, не стесняясь говорить с залом своим бархатным басом. То, что не нравилось Мише, как раз очень нравилось мне. Но это, конечно, дело вкуса.
Консерваторская молодежь часто бывала в доме у своего педагога. Сашу Чайковского просто обожал еще маленький Андрюша, которого сызмальства Саша задаривал моделями машинок. Саша вообще не выглядел Чайковским в нашем доме, где он был просто умным и приятным собеседником. Кто бы мог тогда подумать, что мой внук Тихон Хренников младший, будет учиться в консерватории, где завкафедрой композиции станет этот дурачившийся с его отцом Александр Чайковский?
Вот кто и был и выглядел композитором, так это Таня Чудова, которую было просто невозможно представить вне музыки. Серьезная, всегда воодушевленная своим творчеством, с ней, казалось, ни о чем кроме музыки и не поговоришь. Именно Тане передаст ТНХ своего правнука, когда у того проснется интерес к музыке.
Зато с Ираклием Габичвадзе, сыном известного грузинского композитора, который дружил с Хренниковыми семьями, все было иначе. Он тоже писал музыку и учился в консерватории, но если он и говорил о чем-то с глубоким знанием дела, так это о женщинах.
– Мне сказали, что зять маэстро Хренникова моряк. Так ты бывал в Греции? – спрашивает меня демонической красоты темноволосая смуглая женщина, сидя рядом в первом ряду Большого зала консерватории. Это Мария Каллас. Я никого не вижу и не слышу вокруг кроме нее. Великая певица и подруга миллиардера Онассиса. У нее получалось естественно не млеть от восхищенных взглядов. Просто отвечать каждому, кто сумел дотянуться.
Но вот звучит музыка, и все меняется. Большие темные очки скрыли ее глаза, она ушла в себя и стала статуей, похожей на Нефертити. Теперь понятно, почему со слезами обожания говорил мне о ней мой друг и будущий редактор моей запрещенной книги Влад Костин. Он будет читать мне знаменитые к тому времени строки из ее писем Онасису:
«Ты не верил, что я могу умереть от любви. Знай же: я умерла. Мир оглох. Я больше не могу петь. Нет, ты будешь это читать. Я тебя заставлю. Ты повсюду будешь слышать мой пропавший голос – он будет преследовать тебя даже во сне, он окружит тебя, лишит рассудка, и ты сдашься, потому что он умеет брать любые крепости. Он достанет тебя из розовых объятий куклы Жаклин. Он за меня отомстит…»
Я не знал и даже не догадывался тогда, какой силой может обладать слово догоняющей любви…
А Нино Рота, знаменитый кинокомпозитор? Этот миниатюрный, шумный и непосредственный итальянец восторженно слушал, как ТНХ играл ему свои песни, ахал, охал и, наконец, обняв его, чуть не расплакался.
– Ты мне, как брат! Понимаешь? Ты так же чувствуешь музыку, как я сам, черт бы меня побрал!
Они пели, наигрывая по очереди свои мелодии, о чем-то говорили, перебивая друг друга и прекрасно понимая незнакомые слова, и не хотели расставаться. Уже перед рассветом решили, что Нино останется ночевать. Он никак не мог успокоиться:
– Ты знаешь, – говорил он мне, – твой тесть в Голливуде был бы уже десять раз миллионером!
И всерьез уговаривал Секретаря Союза Композиторов СССР, лауреата многих государственных премий и кавалера Ордена Ленина и Золотой Звезды уехать в Америку. Тихон Николаевич только посмеивался.
Не скажу, что я привел в дом Хренниковых всю Одессу, но побывали в нем многие одесситы. Кто-то хотел убедиться, что слухи верны, кто-то проверить, не предал ли старых друзей, кто-то чтобы увидеть «самого Хренникова». ТНХ всех приглашал к столу. Его, казалось, забавляло это разноголосое нашествие южного народа, быстро осваивающегося в непривычной среде после рюмки-другой.
А у меня щемило сердце от рассказов о своих товарищах, которых унесло море. Щемило чувство вины за свою беспечную столичную жизнь. А каково было узнать, как погиб наш Рыжий – вахтенный механик Мухин, ночью дежуривший на новом, плохо отлаженном судне, где от чего-то рванет паровой котел на стоянке в Риге? Прости меня, старый товарищ.
Еще одна жертва моря вернется домой после восьмимесячного отсутствия, узнает от добрых людей про измену любимой жены и повесится в ванной на ремне от брюк. Вот она, цена долгих разлук…
А тихий, какой-то нескладный в моей памяти Попелюх, потеряв аппетит и сон от тоски в многомесячных переходах в океане, сиганет душной тропической ночью с борта на корм акулам. Команда хватится его только утром. Да где искать в бесконечных просторах?
Слушал и другие почти эпические истории про то, как Петр Иванкин, два метра ростом и центнер веса, добродушный Петя, об которого, споткнувшись, перевернулся однажды «Запорожец» на глазах у всей роты, станет у себя на Дону народным лекарем. Будет лечить детишек от заикания своим долгим и добрым взглядом, и слава о его лечебном гипнозе соберет к нему толпы страждущих, как к костоправу Касьяну под Полтавой…