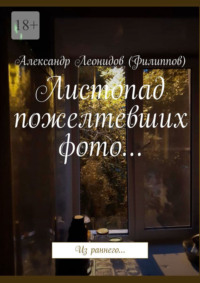Полная версия
Инстинкт свободы, или Анатомия предательства. Страшный роман о страшном 1991-м годе
– Думаешь?
– Разве может быть благодарность сильнее страха? Благодарность – дело добровольное, её можно свернуть по собственному усмотрению, хоть до ноля, ещё и убедив себя, что ничего не должен благодетелю, и даже наоборот, мол, это он тобой воспользовался. Над страхом мы не властны, он принуждает себе служить…
***
Постепенно Азира начала кое-что понимать. Так сказать, видеть «за кадром фильма «До свидания, Лукумо!». Например, то, что группы вроде кравинской, горбачёвщина плодит вовсе не с целью искоренить преступность, а наоборот. Эти шумно презентуемые «группы варягов» расчищали места от «старых кадров» для горбачёвских креатур, и в награду их участники получали возможность сколотить «первоначальный капитал», завести бесценные связи с территориальными мафиями… На то группа и «специальная», что она вне обычного правового поля.
Большинство «спецарей» (тогда их так звали, со смысловым ударением на «*-царéй») правильно понимало «политику партии», валили «зубров брежневизма» и торили путь пронырливым говорунам «перестройки», срастались с преступностью до степени смешения, и готовились выпрыгнуть в «новой стране» в миллионеры. Но были и некоторые, непонятливые, такие, как полукровка Кравино, которые демагогию «очищения рядов» воспринимали непростительно-буквально… «Ну, тупы-ы-е-е!» – как сказал о таких сатирик. Заставь дурака с преступностью бороться – он себе шею свернёт…
Им предложили очень выгодный подряд по ликвидации «унылой уравниловки», можно сказать, к Олимпу приблизили, все козыри на руки им сдали – обогащайтесь, как ещё великомученик Бухарин, набухавшись, советовал в годы оны… Но таким идиотам, как Савелий Кравино – им же хоть кол на голове теши! Вы будете смеяться – но они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выдумали, будто их «посылают на места с ревизией», чтобы они там мафию забороли… Каким бы прекрасным ни был план (а план ликвидации народного строя под предлогом борьбы с коррупцией был, безусловно, изящен!) – всегда в детали вмешается человеческий фактор!
Кравино – снизойдя к его итальянской кинематографической внешности – отправили из милости, чтобы он себе корпорацию сколачивал на будущее. А он, как слон в посудной лавке, давай нечистых на руку – за эту же самую руку и ловить! А большому начальству в Москве не до проделок Кравино, у него много дел и поглобальнее, так что про Кравино временно «забыли», вплоть до особого решения: ладно, раз такой, пущай покуражится, недолго ему выделываться!
2.
Отец Октавиана Орлаева, безвременно скончавшийся от много лет точившей его почечной недостаточности, по профессии был парикмахером, и достиг в этой профессии огромных высот. В том числе и финансовых. И жить бы ему, не тужить, заведующих базами стричь в средней полосе России, да манит человека новое. Вместе с гран-при на столичном конкурсе причёсок Орлаев-старший получил и несколько приглашений-зазывалок из тогда ещё «братских» республик СССР, суливших завидному специалисту золотые горы и кисельные берега с молочными реками – если соблаговолит к ним перебраться…
Не от большого ума (умелыми у Орлаева были только руки) Петр, более известный как Петюня, перебрался в курортный приморский Бештар. На кварцевые пляжи древней и сказочной хвалынской волны, в те самые места, откуда вывел Пушкин свою «шамаханскую царицу». И вначале всё было, действительно, по высшему разряду! Начальство сидело к Петюне в очереди на стрижку, салон его считался образцово-показательным по разряду соцкультбыта, и постоянно премировался, переходящие знамёна и грамоты получал. А уж сколько настригали волшебные ножницы Петюни денег – и сказать, не поверят! Про таких и придумана советская песенка:
Но порой случается у него на круг
Так не получают и доктора наук…
Ценному для Бештара специалисту в первый же день в райкоме торжественно выдали ключи от трёхкомнатной, полнометражной, «улучшенной планировки» квартиры с видом на море, в новом, 1980-го года постройки, доме-«брежневке». Одних лоджий три! Кухня – огромная, не у всех и залы в домах такие, потолки высокие, окна большие, южный проект, много Солнца. Фасад краплён слюдяной крошкой, днём сверкает, как кусочек сахара-рафинада…
А вокруг, как в сказке – лукоморье [6] пенного субтропического побережья, в сгущающихся сумерках блистательное разноцветными ожерельями светомузыки, бликующее лучами зеркальных диско-шаров, поднимающее тонус восторженной дрожью земли и воздуха множества дискотек на открытых приморских танцплощадках, на которых рекой текли песни Бони Эм, Тото Кутуньи и марочные, драгоценные, «Саперави» да «Киндзмараули»…
И полнота удобств, которые были ещё в новинку кулиногорскому парню Петюне Орлаеву, начинавшему жизнь в рабочем бараке: все комнаты раздельные, широкий коридор, сам как комната, в подъезде мусоропровод, два лифта – маленький, более привычный, и изумляющий грузовой. А какие параметры были с точки зрения звуко- и теплоизоляции! Зимой тепло, а летом прохладно, хоть на рояле играй – соседей не обеспокоишь, не жизнь, а конфета «птичье молоко»! Выходные семья Орлаевых обычно проводила на пляже, на лазурном берегу, до которого было пять минут ленивого хода…
Октавиан, причудливым именем своим обречённый с ранних лет зваться «Октавой», родился в Кулиногорске, среди чахлых берёзок, сереньких дождей и ранних заморозков, но, как личность, формировался уже в Бештаре. Чужим себя не чувствовал – в городе была тогда большая русская община, да и отец, востребованный местным начальством – не последний был человек!
Кто же мог знать, что и жареный петух трёх раз не прокукарекает, как начнётся кровавый кошмар «суверенизации» бывших союзных республик, и тогда овдовевшая мать Октавы, с горечью глядя на горы вдали, скажет:
– Вон ведь она, Россия! Жили бы мы на пять километров севернее, и остались бы в России…
Бештарский район был приграничным, что в СССР, естественно, не играло никакой роли и значения. Принадлежал он, а точнее был подарен одной не в меру гордой, и, кстати сказать, совсем не маленькой, и уж тем более не бедной закавказской республике. Продолговатой гранатовой и персиковой, виноградной долиной, изогнутым рогом изобилия тянулся он вдоль ласковой хвалынской ривьеры, и глубоко вонзался, будто кривой турецкий кинжал, в подбрюшье входившей в РСФСР автономии. Как водится, как повелось, плохо, но издавна – малоплодные горы при межевании отдали России. А что побогаче – отслоили «братьям» – каинам…
Всё прошло, как сон – но в снах и доселе приходит Октаве Орлаеву, сыну цирюльника, далёкое, как планета Плутон, советское детство, гомонящие и цветастые кооперативные 80-е… Богатый белокаменный город на южном берегу, и обступившие его со всех сторон горы, обозначающие кремнистым бесплодием своим грань матушки-России, всё отдавшей своим «сыновьям», а в трудный час жестоко обобраной ими же…
Когда в школе ходили походами – то доходили до РСФСР пешком. С рюкзаком за спиной, позвякивая алюминиевой туристической кружкой, прокопчёной на костре, по непрямым горным тропам выходили мимо сказочно-красивых, похожих на замки утёсов в Агастан, в край скотоводов, в край белых папах, лихо саженых на суровых горцах. А потом перекусив на пикнике, отдохнул, свернул бивука, и уже дорога легче: ведь под гору! Спускаешься пониже к морю, туда, где природа поласковее – и попадаешь в ведение совсем другой компартии, со своими ЦК и партконтролями…
Как эти белеющие ледяными папахами горы порвали здесь весь ландшафт, так порвут они кривыми шрамими и судьбы советского выпуска, всех школьных одноклассников Октавиана Орлаева. Но это кровавое, звериное пиршество стервятников – ещё копится на вершинах лавиной. А внизу, среди прогретых щедрым Солнцем пляжей, пока ничем о себе знать не даёт…
***
Обещанием достать дикий мёд из расщелины одной из обступающих их приморский городок скал – Октавиан Орлаев пленил сердце одноклассницы Инги Князевой. Дочь их участкового милиционера, строгая гордячка, чуть ли не с первого класса манила воображение Октавы, но как к ней подступиться, как не нарваться на холодную, как лезвие финки, насмешку?
Октава, известный среди мальцов краевед, облазил все горы вокруг, пока не нашел это гнездо мелких, с сероватым оттенком брюшка, горных пчёл. По тем временам дикий мёд стал в Биштарском районе огромной редкостью, пчёл-дикарей практически всюду истребили, и Октава справедливо полагал, что редкий дар пленит сердце избранницы.
Они поехали туда вдвоем, на автобусе, как бы невзначай в давке приникая друг к другу, и невинно отводя глаза при встрясках. Сошли на конечной, и углубились в распадок, заваленный замшелыми валунами и заросший диким орешником.
– Ну, скоро?
– Погоди… Они глубоко от людей забрались… Нужно ещё пройти…
– Как здорово! Октавка, тут классно… Ты молодец, что вытащил меня…
– Алгебру дашь списать?
– Как тебе не стыдно? Ты же пионер…
– Ну, Ингочка… Ну, за мёд-то…
– Ладно, ладно… Приходи вечером, только не домой, а возле песочницы подожди… Батя визитеров-то не больно жалует… Хотя про тебя он хорошо говорил: этот, говорил, оболтус ваш, Орлаев…
– Оболтус – это разве хорошо?
– Ты не слышал, как он других парней величал… Оболтус у него – это вроде ласкового слова…
– Ну вот, считай пришли…
Распадок в этом месте круто уходил ввысь, обращаясь в неровную, как лицо морщинистой старухи, древнюю скалу. Трещины кремнистой поверхности кое-где натекли за века землей, приютили карликовые, уродливо искорёженные деревца. Там, где промоина была пошире, бушевала странная жизнь: маленькие, черные с земли точки сновали взад-вперед. Казалось, что скала содрагается в этом месте зудом – такое «ж-ж-ж» курило копотью в расколе скалы…
– О-го-го… – закинула голову Инга. Длинные светлые волосы разметались по плечам. Орлаев любовался ими – а потом смущённо перевел взгляд пониже, на обтягушные, по последней моде, джинсы, на то, что они скрывали. Невольно сглотнул слюну.
– Но туда же не подлезешь… – поделилась опасениями Инга.
– Инвентарь предусмотрен… – жестом волшебника скинул Орлаев свой школьный ранец.
Там лежало все, кроме, естественно, тетрадей и учебников – зачем школьнику такие излишества?! – а в числе прочего хлама Октава запихал обернутую в тряпицу дедовский пчелиный дымовик.
Самодельное, жестяное, клёпаное устройство было довольно кособоким и уродливым – но почти влюбленной школьнице в тот миг оно показалось верхом изящества.
– Какая прелесть! – захлопала она в ладошки.
– Сейчас разведем костерок, потом напихаем туда углей, я залезу вон по той орясине – Орлаев показал на почти прислоненный к скале ореховый ствол – и я им задам дымку, мало не покажется…
– Жалко… – захлопала Инга наивными ресницами, этими пушистыми арбалетными стрелами, пронзающими сердце Орлаева. – Там ведь у них гнездо…
– А мёд? – удивился Октава – Мы же разорять не будем, только немного возьмем попробовать, и все…
– Ты там им ничего не навреди, ладно…
– Ладно… – отмахнулся Орлаев. Он был занят важным делом – разжиганием костра и дамские сантименты его в данный момент демонстративно и наигранно не занимали…
– Знаешь… – сказала Инга, подойдя сзади, и обняв сосредоточенного Орлаева за плечи во фланелевой рубашке. – Мой папа говорит: из твоего оболтуса, Октавки, выйдет хороший человек. Но только если только у него сердце проклюнется…
– Это как ещё? – огорчился Орлаев.
Обидно! Он тут, понимаешь, кипит страстью, одни взгляды обо всем говорят, а его подозревают в астеническом синдроме…
– Ну так… Папа считает, что ты бессердечный, холодный… Впрочем, папу слушать – всего мира боятся… Ты не обижайся, Октава, он ведь с преступниками общается, со всякой мразью, поэтому у него самого никакого сердца не осталось… А он на других… у других ведь соринку в глазу…
– И вовсе я не холодный! – сказал Орлаев, хрустко ломая сухие палки для подкормки зародившегося огня. – Я тебя… – он споткнулся о слово, показавшееся ему смешным в их с Ингой возрасте. – Я тебя… защищать буду… Лучше него… Он милиционер и я буду милиционер – твой, личный!
– Я не против… – ручьисто, серебряно рассмеялась его девочка, и тонкой кистью взъерошила его волосы. Взгляды их встретились, завороженные друг другом, они потянулись друг к другу губами…
– Эй, урус, уходи… Это мой пчел! – детский голосок биштарского туземца ворвался в почти состоявшуюся идиллию. Инга дернулась, отстранилась, и смущённо поправила блузку.
Ярость забурлила в Орлаеве неистовой, марсельезианской волной, закипел его возмущённый, как в интернационале, разум. Дикое место, почти уже договорились – и какой-то чуркобес…
Орлаев резко встал с корточек, сделал несколько угрожающих шагов навстречу биштарцу.
– Слушай, Али-баба, иди отсюда… Ты чё, оборзел, что —ли?!
– Я не Али-баба, а Саит-баба – обиделся абориген – Это мой пчёл! Нашей семьи… Мы их тут давно разводим… А ты их огнём пугаешь – улетать могут…
– Ты откуда нарисовался, Саит-баба?! – почти ласково приобнял паренька за плечи Октава.
– Здесь я живу… В колхозе «Ленин Яшмак» [7]…
– И почему же вы, гады, чурки недорезанные, Ленина называете ишаком?!
– Октава! – прокричала напуганная, готовая расплакаться Инга – Пойдем отсюда… Раз он говорит… Пойдем…
– Ага! Счас! – взяло ретивое Орлаева. – Что бы так опозориться перед любимой девочкой, уйти без боя от какого-то Али-бабы?! Да лучше умереть!
– Уходи, урус, тут моё место…
– А это видел? – Орлаев выставил фигу под нос биштарцу.
– Октава, пойдем, не надо… – тянула Князева.
– А-а-а! – сорвался на крик её голос, потому что коренастный Саит-баба вломил Орлаеву между глаз, внезапно, без объявления войны.
Падая на траву, в россыпь мелких камушков, Октава видел, как бледна и напугана избранница, как она зажала рот ладошками.
Саит-баба по-взрослому, с разворота, пнул Орлаева под рёбра, что-то угрожающе бормоча на своем непонятном языке.
– Не надо! Мы уйдем! Не надо! – умоляюще рыдала Инга.
– Поняли? – поджал губы надменный Саит-баба. По примеру старших братьев он проявлял определенное благородство, и не трогал лежащего противника, отступил от него на шаг. – Будете знать… Мой пчёл!
Орлаев молнеиносным броском перекатился к своему ранцу по зеленящей одежду сочной траве, выхватил оттуда велосипедную цепь с «Орлёнка», которую таскал с собой: как оружие на вот такие случаи.
Опозориться перед Ингой до такой степени, чтобы остаться побежденным каким-то Саит-бабой он не мог. Краснолиций, с раздутыми ноздрями, широко расставляя ноги и руки, Орлаев пошел на биштарца, желая смять его, втоптать в камень, размазать по скале, уничтожить…
– Ты чего? – опешил Саит-баба.
– Октава, не надо… – завизжала Инга на высокой, почти сверхзвуковой ноте.
– Получай, гад! – Октава хлестнул цепью крест-накрест, повергая Саит-бабу на землю – На, выкуси, чурка… Опозорить меня решил?! Девочка понравилась?! Вот тебе за девочку, запомни, что к ней подходить нельзя, никогда, ни под каким видом, ни днём, ни ночью…
Он бил стальной цепью беспомощного мальчишку, юлящего под ударами, закрывающегося исполосованными в кровь руками, плачущего от боли и страха.
– Октава! Не надо! Отпусти его! Не надо! – Инга повисла на плечах Орлаева, оттаскивая его от побоища – Ты же убьёшь его…
Кое-как ей удалось стреножить распоясавшегося одноклассника, а Саит-баба с воем убежал, надо думать, в свой «Ленин Яшмак».
Инга опустилась на землю и горько зарыдала, закрывая лицо руками. Октава хотел утешить её – ведь он чувствовал себя героем – попытался приобнять и продолжить многообещающе начатое объяснение в любви.
Но она резко скинула его руки, оттолкнула его от себя. Заплаканное лицо, красные от слёз глаза, перекошенный рот… И слова, которые Октава с болью вспоминал всю жизнь – обидные, ранящие слова той, кого он защищал, перед кем хотел быть героем, рыцарем, той, ради которой был готов убить или умереть:
– Отойди от меня! И никогда больше не прикасайся! Ты же зверь! Садист! Ты… ты как фашист… Ошибся мой папа, у тебя никогда не будет сердца…
– Ну и пожалуйста! – кипел после боя оскорбленный в лучших чувствах Орлаев – И не прикоснусь… И не подойду… Подумаешь…
Инга вскочила, и, на ходу утирая слезы, побежала к автобусной остановке. Не оглядываясь…
И после ей казалось, что она бежала всю свою жизнь, так и не найдя в себе сил обернуться…
***
Прошли годы… И вот, однажды, состоялся визит в эти благословенные Аллахом края, по просьбе союзного партконтроля, генерала военно-финансовой разведки Савелия Мануловича Кравино. Который под излёт «перестройки» уже прочно сидел на «внутрянке», гоняя хлопкоробов за приписки. И почти забыв загранкомандировки: tempora mutantur, et nos mutamur in illis [8]…
Заурядная с виду командировка непросто далась Азире Бековой. Потому что Бештар – это Шамаха, а Шамаха – это высокогорный, международного класса, каток Лукумо, который Азира и в кино-то видеть не хотела, не то, что в жизни. Он, кстати, тут, недалеко, полчаса езды по горному серпантину… Шамаха – это Айла Сефардова, ставшая Айлой Кравино, и Азира с детских лет вбила себе в голову, что это жуть как несправедливо…
Гость из Центра наделал в Биштарском РОВД много шума и суматохи. Савелий Манулович считался одним из самых молодых в обойме партии, про него говорили, как про перспективного правителя, человека на взлете, человека в струе.
И потому, чем больше Кравино просил не поднимать шума, мол – визит рабочий, заурядный, в плановом режиме, и не по линии РОВД, а по линии местного райкома, тем больше его понимали в обратном смысле. Хотя шумиха вредила делу, ведь Кравино прислали проверить хрупкую и скользкую проблему национальной политики и национальных кадров, штука тонкая…
Впрочем, об этой «тонкой штуке» по биштарскому обыкновению вскоре знали все горы и проймы окрест. А проверяемые, вроде бы, секретно, райкомовцы – в числе первых.
Что же касается начальника РОВД полковника Гурханова, то он делал все от него зависящее – расставлял столы, разливал водку на пикниках, привозил фольклорные ансамбли песни и пляски девяти народов Биштарского народа, жарил каменки в баньках русских и турецких, возил на лучших машинах виды показывать. Строго по южному стандарту генеральского профиля.
Да что и говорить, скалы в Биштаре на заглядение, туристы со всего Союза приезжали полазить или просто снизу подивиться! Вот и Кравино, не умея скрыть восхищения, смотрел восторжено, утирая жаркий летний пот со лба собственным галстуком, прицокивал языком, соглашался с радостными возгласами оптимиста Гурханова…
Но потом – зачем-то отводил капитана Князева в сторонку и о чем-то долго там, к неудовольствию полковника, беседовал. О деле?
Дело было мелкое, но вонючее. В горном ауле нашелся пару лет назад один рационализатор (про него местные иначе не говорили, кроме как «долбанный»), который из мусора, из корок заготовляемого в здешних краях граната, во славу советской экономики, стал делать какой-то дубитель для кожевенной промышленности.
Несмотря на большие успехи, секретарь райкома его снял, игнорируя всю прелесть дубителя, потому что парень был из чужого тейпа. Райком навязал нового, тейпово-правильного председателя колхоза. Который, как и следовало ожидлать, невзирая на «хорошее происхождение» – производство дубителя завалил. Дело-то, как бы, житейское, пустяки, но страна последние годы жила нервно, и вот на тебе – принесла нелегкая аж самого Кравино – видимо, что-то очень стратегическое было в этом проклятом Аллахом дубителе!
И стали волки ВФР разбираться, по каким это таким «уважительным» причинам прежний председатель «написал заявление об уходе по собственному желанию». А там, к чему скрывать, была и кое-какая скромная роль Гурханова, поговорил он немного с чужаком, вежливо и без грубостей – а все-таки поговорил, убедить попытался.
И вот теперь возникает вопрос: а есть ли у Гурханова возможность доверять своему русскому заму, начальнику милиции общественной безопасности Князеву? Гурханов не раз пытался пойти Князеву навстречу, но Князев был сухарём и педантом, на контакт не шёл, валял дурака, за что и пришлось его, непонятливого перевести из криминальной милиции в общественную безопасность. Пусть и с повышением – а всё ж подальше от острых казусов…
Все начальники из России обычно наливали шары до окоёма, и потому Гурханов надеялся так споить и новую большую шишку. Но Кравино больше налегал на шашлыки, а пил очень умеренно и во всё вникал.
Умный, сухощавый, брюнет с зализанными назад чёрными волосами итальянца, с оливковым отливом вольчих глаз, Савелий Манулович вклинивался в родо-тейповые расклады старого Кавказа, лишним, чужаком, и полковник Гурханов мрачнел день ото дня.
В довершении и без того наползающей мути, ни раньше, ни позже, «нарисовались» эти родственнички-спекулянты племянника Саит-Бабы с нагорья, спекулянты урючные. Гурханов всегда их стеснялся – всё-таки он в органах, а они – алычой по Ставрополью торгуют, но от родни у их маленького гордого народа не принято было отказываться.
Саит-Баба выманил дядю Ахума на хвалынский берег, где песчаными крутоярами обрывались бока бескрайних, если смотреть вдоль, виноградников. Он выманил – он же и говорил, а Гурханов слушал с видимым неудовольствием, хмуря кустистую бровь абрека, и закусив губу.
– Машину тебе прислали, дядя Ахум! – виновато щурился на солнце Саит-баба – «Волгу» белую, новую… хорошую… Мы с ребятами уже посмотрели – на ней не ездили почти, только сюда перегнали…
– Откуда гнали? – мрачно спросил Гурханов.
– Оттуда! – Саит-баба махнул рукой на юг, в сторону далекой Шамахи – Очень хорошие люди… Очень важные люди… Очень много дружба их может дать…
– Кто?
– Пехлевиды, дядя, потомки шахов, Шах-намэ! Род Лепельдыевых тебе кланяется…
– Кто? – заметно дрогнул голосом полковник. Он не ослышался. Не зря поплыли у него перед глазами первомайские портреты высших национальных партийных бонз, задул жаркий солончаковый ветер. Лепельдыевы давно и прочно сидели в республиканском центре. Гурханов подумал – действительно, Саит-баба молодец, крупной поживой от дела пахнет. Но какое дело? За пустяки «Волг» не дарят…
Когда племянничек открыл суть – Гурханов чуть с яра не упал от ужаса. Много он ждал, разного – но такого…
– Просят маршрут Кравино, когда в аул поедет… – невинно болтал Саит-баба – И просят не самых ценных сотрудников в эскорт поставить… Чтобы кровников между нашими родами не стояло…
– Ты с ума сошел? В моем районе ухлопать кандидата в члены ЦК?! Совсем уже на солнце там перегрелись?!
– Дядя, этот Кравино ни Лепельдыевым, ни нам не друг… Если дело с гранатовым колхозом раскопает – и нам хорошо не будет…
– Сам знаю…
– Пехлевиды – очень большие люди… Обидел он их кровно… Они для республики старались, фруктов сдавали побольше, а он их обманщиками назвал… Комиссию к ним заслал… Этого Сефардова, выскочку, на них напустил… Лепельдыевы все сами сделают, нам главное не мешаться…
– Нет. – строго отсек Гурханов. – В моем районе – ни-ни! Никаких! Так и передай…
– Лепельдыевым, дядя?! Подарок им вернуть? Это ведь – как в лицо плюнуть…
– Я сказал про наш район. Гость к этому шайтану, Дустумову, который гранатовый дубитель придумал, которого райком снял…
– Снял-то, в основном, ты, эми, а райком просто попросил тебя…
– Есть просьбы, которые надо выполнять – такие, как я просил сестру мою тебя не рожать, вай, не послушала, и что вышло?!
– Ладно, ладно, агай, пусть райком снял!
– Вот и слушай! Кравино к Дустумову в Агастан поедет. И когда в другой район заедет, там нет меня, слышь? Там вот все пусть и делают… Схему я дам… Время, маршрут укажу… Про меня Дустумов доброго не скажет, сам ведь знаешь… Все, иди, передай гастролерам – пусть ждут…
Саит-баба радостно кивнул – но все-таки мялся, словно недоговорил.
– Чего ещё? Джигу им сплясать?!
– Дядя… Тут раз такое дело… По нашим традициям… Можно и маленькое дело в большое вложить.
– Какое маленькое дело?
– Женщину мне отдай твою…
– Совсем крыша поехала?! Какую женщину?!
– У тебя в РОВД работает – русская, младший лейтенант… Инга Князева… давно я глаз на неё положил… Красивая очень…
– Слушай, у тебя совсем мозги прогнили?! Такое дело затевааешь, и про баб думаешь?
– Дядя, дело не я затеваю, его люди побольше сделают. По закону жить у нас и раньше не получалось, а теперь, как грохнут Кравино, обратной дороги нам нет. Слушай, отдай женщину, не её это дело – в погонах ходить! Я женюсь, безо всяких, обещаю… Тебя подводить не буду… А как только в ЗАГСе штампик поставим – какой с меня спрос, какой я тебе похититель?!
– Нет. Иди в задницу с такими делами, чаламбаш, дурак.
– Дядя, я тебе десять тысяч за неё дам. Только подгони – десять тысяч честных, с рынка, за персики наши…
– Сколько?! – отшатнулся Гурханов – За бабу?! Десять тысяч?! Да ты сам, гиждылак, рода позор, десять тысяч не стоишь!