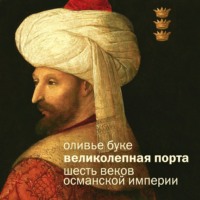Полная версия
Османская империя. Шесть веков истории
На востоке победа монголов при Кёсе-даге в 1243 году привела к подчинению Сельджукского султаната власти Ильханидов. Три христианских государства Малой Азии (Никея, Трапезунд, Малая Армения) стали выплачивать ежегодную дань новой монгольской державе в надежде, что она сдержит натиск кочевников, которые постоянно пытались вторгнуться на их территории. Со своей стороны, в 1270-е годы вожди сельджукской аристократии, опираясь на нескольких туркоманских эмиров, заключили союз с Мамелюкским султанатом. Они справедливо сочли его новой восходящей силой на Ближнем Востоке. Утвердившись в Египте с 1250 года, мамлюки одержали победу над монголами в битве при Айн-Джалуте в 1260 году и вытеснили их из Сирии. Дух джихада (djihad) набирал силу в Малой Азии при поддержке Аббасидского халифата, образованного в Каире в 1261 году и усиливавшегося благодаря своей растущей популярности у неортодоксальных сект дервишей (derviche). Новые претенденты (среди них Гермияне из Малатьи, поселившиеся на западе, в Кютахье) при поддержке растущих племенных сил увеличили количество набегов и грабежей на монгольских территориях. В конце XIII века империя Сельджукидов окончательно распалась. Та же участь постигла и монгольский протекторат. Независимые региональные государства – бейлики – поделили между собой Центральную и Западную Анатолию. В течение двух последующих столетий они исчезали один за другим, пока не остался лишь Османский бейлик, поглотивший остальные. Почему же сложилось именно так?
Ключи к успеху
Почему вождество Османа не распалось, а, наоборот, увеличилось в столь нестабильном политическом пространстве, где на смену старым эмиратам приходили все время новые? Предположив, что оно не распалось именно благодаря расширению территории, мы дадим лишь пол-ответа. Рассмотрим пример Синопского эмирата: почему он так быстро исчез? Это государственное образование сформировалось вокруг торгового порта с хорошо вооруженным флотом и крепкими галерами, в то время как в распоряжении соперников находились лишь легкие корабли. Синоп контролировал большую часть Черного моря и угрожал как генуэзским, так и венецианским торговым кораблям. Воинственные моряки Синопа совершали набеги даже на Каффу; морские подвиги их предводителя Гази Челеби превратили его имя в легенду. Тем не менее блистательный эмират не пережил смерти своего героя, случившейся около 1324 года: земли Синопа были включены в состав соседних владений Исфендияридов из Кастамону.
Так почему же именно османам удалось создать столь мощное государство? Уже почти столетие специалисты ищут ответ на этот вопрос. Ищут тщетно: люди того времени, воины и крестьяне, кочевники и земледельцы, почти не оставили следов своего пребывания на земле. Мы можем лишь вообразить их деяния на войне: угон в рабство побежденных, жизнь, наполненную грабежами и трофеями. Не по этой ли причине обширная историография сформировалась вокруг истории газавата (военный поход против неверных; gaza), что вызвало оживленные научные дискуссии во всем мире? Популярная в 1930-е годы теория о религиозной борьбе Пола Виттека расходится с этнической теорией Фуата Кёпрюлю[98]. Согласно первой, решающее воздействие на становление Османского государства оказали общество и культура так называемого пограничного типа. Движущей силой расширения государства и ключом к его успешному выживанию стала священная война «борцов за веру» (ghâzis) против неверных. Согласно второй теории, силу экспансии определяла характерная тюркская черта – принадлежность к племени; образование Османского государства стало следствием успешного развития и введения организационных принципов, выработанных за два века тюрками Анатолии.
Многие ученые оспаривают первую теорию, настаивая на том, что воюющие не были безупречными мусульманами, они заключали договоры с балканскими монархами, имели в своих рядах греческих или каталонских христиан. По словам автора одной из первых историй династии Оруча (конец XV – начало XVI века), написанной на турецком языке, «Османы любили иностранцев», а враждебность к неверным была скорее оправданием a posteriori, чем универсальным аргументом. Что касается второй теории, некоторые историки отмечают, что она не полностью объясняет, как военному лидеру удалось создать такое мощное и организованное государство. Они настаивают на том, что не стоит путать религиозное рвение и религиозную ортодоксию, доказывая, что самые ревностные религиозные убеждения сочетались с шаманскими пережитками и самыми грубыми нарушениями предписаний ислама (в частности, употреблением вина). По их словам, беи предпочитали захватить и разорить земли неверных (газават), нежели вести законную войну (джихад), объявленную религиозными лидерами.
В последнее время ученые также обращают внимание на другие факторы. Набеги и миграция населения были результатом демографического роста и стесненности на Анатолийском плоскогорье: укрывавшимся там со своими стадами многочисленным кочевникам не хватало пастбищ. Безусловно, борьба за выживание побуждала людей браться за оружие. Но для того чтобы превратить разнообразные волнения в единую активную силу, требовалось умение мобилизовать силы. Судя по всему, военные успехи османов стали результатом освоения ресурсов покорного сельского населения, а также способом извлечения выгоды из культурных изменений, начатых их сельджукскими, византийскими или венецианскими предшественниками[99].
Все это лишь гипотезы, мы недостаточно хорошо знаем экономику Анатолии в XIII и XIV веках, чтобы оценить влияние климатических изменений и масштабы миграции тюрков, не говоря уже о том, чтобы объяснить их причины[100]. Тем не менее было установлено, что византийский регион, в широком смысле, как и латинский Запад, выиграл от крупного демографического роста с XI по XIII век. Несомненно, упадок Византии происходил в мире благоденствия, взбудораженном соперничеством между крупными региональными державами. Поэтому необходимо изучить этиологию территориальных образований. Между тем для политической карты региона характерны дезинтеграционные процессы в тех государствах, где монарх по византийской модели стал «императором в своем царстве»: разделенная на три части Болгария начинает утрачивать свое влияние в 1330 году; после смерти царя Стефана Душана в 1355 году Сербия распалась на полдюжины конфликтующих княжеств. Это событие, имеющее большое значение в истории Балкан и, шире, «греческого Средневековья» (Е. Патлажан), весьма напоминает османское поражение полвека спустя. Разгром Анкары в 1402 году войсками Тамерлана стал одним из самых драматических эпизодов истории Османской империи. Созданное беями столь оригинальное устройство государства (централизованное политическое неделимое формирование, неотделимое от династии) оказалось под угрозой исчезновения, и только гражданская война в период Великого междуцарствия (1402–1413) позволила избежать окончательного развала империи[101].
Предположим, что возможны два прочтения истории XIV века. С одной стороны, необходимо подчеркнуть слабость побежденных государств: Византийская империя, вынужденная обращаться за помощью то к латинянам, то к турецким эмиратам, была лишь тенью себя прежней. Отсюда проистекает успех победителей. «Не осталось сил, способных остановить османов: они заполнили политический вакуум», – пишет М. Киль[102]. С другой стороны, мы можем обратить внимание на особенности пространства, которое, как и Запад, обретало равновесие в сохранении небольших политических образований, ведении дипломатических игр и создании матримониальных союзов; при этом, не имея соперника, Византийская империя продолжала пользоваться этими механизмами[103]. В таком контексте каждый кусочек земли, отвоеванный османами, укреплял их стартовые возможности, и им удавалось справляться с бедствиями, постигшими соседние эмираты, лучше других (впрочем, уверенно утверждать, что они меньше пострадали от чумы 1347 года, представляется невозможным)[104].
Вслед за другими исследователями подчеркнем прагматизм Османа и его преемников. Исходя из своих непосредственных интересов, беи захватывали территории вражеских эмиратов, бывших, как и они сами, зависимыми от неприятеля, и пытались использовать свое преимущество: бейлик Караси имел выход к Эгейскому морю, располагал флотом и знатоками морского дела, которых был лишен второй османский бей, Орхан[105]. Беи предлагали услуги эмиратам, которые казались слишком могущественными или находились слишком далеко от их форпостов, чтобы представлять для них угрозу. Они использовали любую возможность, предоставленную византийским императором, чтобы вмешаться в дела Европы и получить знания о местности у союзников, в которых видели будущих противников. Чтобы сократить число врагов, они заключали династические браки с византийскими или сербскими царевнами, а также с дочерями туркоманских эмиров: из династии Гермиянидов – чтобы получить контроль над богатыми глиноземом землями; из династии Караманидов – чтобы нейтрализовать власть, которую им не удавалось ослабить; из династии Зулькадаров – чтобы усилить территории, граничащие с Караманом; из династии Кара-Коюнлу – чтобы иметь союзника на случай конфликта; из династии Исфендияридов (Джандаридов) – чтобы защитить свои земли с севера, а также дороги при продвижении на юг и восток. Частая смена союзников – следствие переоценки баланса сил. Неоднократные военные вторжения и территориальные аннексии являлись следствием умения использовать уязвимость противника. Одни осады приводили к победе, другие заканчивались неудачно. Какие-то земли удавалось захватить в первом же сражении, иные – лишь после нескольких кампаний; в Анатолии эмираты Гермиян и Караман сопротивлялись в течение многих десятилетий, прежде чем были окончательно поглощены; между первыми вторжениями в 1385 году и осадой Шкодера в 1479 году потребовалось почти столетие, чтобы Албания оказалась под властью Османской империи.
Сон Османа: легенда о происхождении
Об Османе, его родителях и сыновьях известно немного. Его история жизни обросла легендами, мифами и более поздними историческими выдумками[106]. Основные хроники XV века противоречат друг другу и содержат непроверенную информацию, реальные события можно обнаружить при помощи нумизматических и эпиграфических совпадений. По крайней мере, все источники сходятся в одном: вытесненные из Центральной Азии в результате экспансии монголов на запад, предки османов поселились в Анатолии в начале XIII века. Монета с именем первого правителя, отчеканенная между 1324 и 1326 годами в честь взятия Бурсы, свидетельствует о том, что у Османа был отец по имени Эртугрул. По поводу личности отца Эртугрула в хрониках нет единого мнения. Известно, что он поселился со своим семейством близ Сёгюта. Недалеко от римского тракта на Анкиру (Анкара), по дороге в Эскишехир, на западном конце Анатолийского высокогорья, к югу от плодородных земель – место зимовки османов, ставшее колыбелью их династии. Здесь находится существующий и по сей день мавзолей Эртугрула. Это точка отсчета, которую османские историографы охотно используют, чтобы пролить свет на тайну происхождения нового бейлика.
В последующие века потомки Османа создали свою родословную: династия была наделена божественной преемственностью и вписана в космогонический сюжет. Согласно одному преданию, османы берут начало от клана Кайи, якобы произошедшего от Огуз-хана, мифического предка тюрков, завоевавшего планету и давшего начало двадцати четырем племенам. По другой версии, османы происходят от Иафета, сына Ноя. Легенды, рассказывающие о происхождении династии от Пророка («Дюстурнаме» Энвери 1465 года), напротив, не вошли в официальную версию. По всей видимости, в первой половине XVI века династия Османа нуждалась в легитимации – особенно на территориях арабских провинций. Начиная с правления Сулеймана династия позиционировала себя гораздо увереннее, будто необходимость придумывать происхождение отпала. В противовес этим версиям на фоне османского благоденствия XV века постфактум возникло следующее пророчество. В доме загадочного шейха Эдебали Осману приснился сон. Во сне он увидел, как луна выходит из груди шейха и входит в его грудь. Затем из его пупка выросло дерево. Оно было столь высоко, что затенило весь мир. Эдебали истолковал этот сон так: потомкам Османа суждено господствовать во всем мире[107].
В начале XIV века дело обстояло иначе. Очевидно, первые беи рассматривали свою территорию как отправную точку для захвата соседних государств. Вероятно, византийцы обратились к Осману за помощью, чтобы разрешить пару конфликтов с соседними эмиратами. Предполагается, что бей получил возможность совершать набеги на берега Пропонтиды. Так или иначе, заручившись подмогой наемников, жаждущих добычи, и идейной поддержкой правоведов и ученых, уверенный в своих силах Осман и его армия продвинулись на запад от реки Сакарьи[108]. 27 июля 1302 года близ Никомедии османы одержали важную победу над византийцами, во главе которых стоял этериарх Музалон; речь идет о Бафейской битве, дата которой совпадает с первым упоминанием в источниках имени Османа (Георгий Пахимер, единственный историк, описавший исторические события в Византии в первом десятилетии XIV века, называет его Атманом)[109]. Вражеская оборонительная система оказалась частично дезорганизована. В последующие годы войска бея продвигались на север: прочесывая сельскую местность, они опустошали посевы, вынуждали население укрываться в городах, морили жителей голодом до тех пор, пока те не сдавались в плен, свозили сокровища во вновь захваченные крепости, обходя стороной те, которые сопротивлялись их нападениям. По словам Пахимера, своим успехом новоприбывшие были обязаны богатым ресурсам Вифинии, а также внезапным нападениям легкой кавалерии на беззащитные деревни[110]. И все же их тактика осады оставалась поспешной, они захватили Биледжик, Инегёль и Ярхисар, но потерпели неудачу с такими крепостями, как Измит (Никомедия), Бурса и Изник (Никея).
Бей, Хюдавендигар, «султан византийских земель»
В 1317 году Орхан, сын Османа, принял командование армией. Он захватил опорные пункты недалеко от Бурсы. После смерти отца в 1324 году Орхан стал его преемником. Порядок престолонаследия не оспаривался: по-видимому, его брат Алаэддин выбрал удел дервиша. Возможно, это легенда[111], однако само ее существование свидетельствует о скрытом недовольстве и, возможно, даже о споре между братьями. Полная передача бейлика Орхану противоречит традициям династии Чингисхана и Сельджукидов, обычно выделявших братьям наследника отдельные владения. Предположить, что Осман подготовился к наследованию, возможно, но рассматривать это как прообраз политики наследования не следует, она будет сформирована лишь к XV веку. Вероятно, речь шла прежде всего о попытке избежать распада завоеванных территорий[112]. Своим процветанием османы обязаны трем фактам: бейлик превратился в государство; государство не исчезло; началась территориальная экспансия.
В 1326 году Орхан завоевал Бурсу, впоследствии этот город стал первой столицей беев. В 1331 году он захватил Никею, где по его приказу было построено первое османское медресе. В городе появилось около двадцати общественных зданий. Однако в 1403 году его разграбил Тамерлан. В 1337 году пала Никомедия. Орхан обзавелся внушительным флотом. С одной стороны, он проводил политику альянсов: в обмен на поддержку в военном конфликте против Иоанна V Палеолога византийский император Иоанн VI Кантакузин в 1346 году отдал ему в жены свою дочь Феодору. С другой стороны, султан продолжал завоевания, вторгаясь как в земли Византии, так и на территории соседних эмиратов. В 1345–1346 годах Орхан присоединил бейлик Карасы в Мисии (юго-западная Вифиния), где имелся выход на Геллеспонт. Отныне во власти османов оказались ворота, разделяющие Азию и Европу, а также транспортные средства, способные пересечь оба континента. В 1354 году османы взяли два важных анатолийских города – Анкару и Гереде (Кратею).
В том же году сын Орхана Сулейман-паша воспользовался недавним землетрясением на Галлипольском полуострове, чтобы занять и укрепить этот город. В период с 1359 по 1361 год были взяты Дидимотихон (Диметока) и другие крепости на пути к Константинополю, Андрианополь был изолирован. Византия оказалась втянута в войны за престол, ее население страдало от набегов. На невольничьих рынках торговали болгарами, сербами, албанцами, а три десятилетия спустя также валахами и венграми. Под османское знамя становились воины как со всей Анатолии, так и из других мусульманских стран. Священная война переместилась на территорию Европы.
В 1362 году противостояние между сыновьями Орхана кончилось: на престол вступил Мурад I, ставший первым беем, взявшим королевский титул хюдавендигар (hüdavendigâr). Пользуясь политической раздробленностью Балкан, он вел постоянную позиционную войну против византийцев, сербов, венгров и их западных союзников – участников нового крестового похода. В 1366 году Амадей VI Савойский вытеснил войско Мурада I с Галлипольского полуострова, в результате последний оказался отрезан от европейских форпостов. Впрочем, неудача не помешала ни взятию Эдирне около 1369 года[113], ни разгрому балканской коалиции во главе с сербскими владыками Македонии в битве при Марице (1371). Вероятно, эти победы одержали оставшиеся во Фракии походные беи[114], не признававшие власть османов на пограничных территориях. Их преимущество длилось недолго, в 1376–1377 годах Андроник IV отблагодарил Мурада I за поддержку в войне за престол: византийский император уступил ему Галлиполи, что положило начало военно-морскому строительству. В эгейских эмиратах шел набор в корабельные экипажи, капитанов обучали лоцманскому делу генуэзские специалисты, на верфях работали венецианцы. Согласно источникам, в начале XV века у османов было от сорока до шестидесяти кораблей. Тем не менее для закрепления позиций в Эгейском море этого было недостаточно[115].
По возвращении в Европу Мурад I сумел подчинить земли, ранее завоеванные тюркскими беями. Прагматичный правитель велел платить дань в казну из награбленного, наказал беев, отказавшихся отречься от своей независимости, позволил другим селиться на завоеванных территориях и занялся усовершенствованием армии[116]. За первыми грабительскими налетами и разрушениями последовала фаза вмешательства в местные конфликты и – позднее – подчинение балканских княжеств. Османские армии завоевали обширные территории на Балканах. Их войска захватили Серре в 1383 году и Салоники в 1387-м. Османы начали военные действия против Болгарии, в 1385 году взяли Софию, а в 1386-м – Ниш. Они атаковали войска сербского князя Лазаря в битве на «Поле черных дроздов» (Косово поле, 1389 год, к западу от Приштины), где оба правителя лишились жизни.
Мурад I укрепил позиции в Анатолии и пополнил казну эмирата добычей из завоеванных бейликов. В 1375–1376 годах он захватил земли расположенного в центре Фригии эмирата Гермиян, с его мечетями и вакфами, качественными тканями и глиноземным производством. Теперь он контролировал торговый путь, ведущий в Анталию через земли династии Хамидоглу – хозяев Писидии с 1290 года. Порт, откуда корабли шли в Египет, был некогда рынком сбыта Южной Анатолии и Коньи – столицы при Сельджукидах; он стал опорным пунктом Северо-западной Анатолии и Бурсы, уже османской столицы. В 1387 году Мурад I опустошил земли более могущественного Караманского эмирата. Однако он не смог взять под контроль принадлежавшую Караману обширную равнину Ликаонию, где в изобилии паслись отары овец и табуны лошадей; таким образом, ведущие через армянские земли в Верхнюю Месопотамию перевалы также оставались закрытыми.
Преемником Мурада I стал его сын Баязид I (1389–1402), продолживший экспансию в Европу. В течение тринадцати лет он то на одном, то на другом континенте беспрестанно вел войны, за что был прозван Молниеносным (Yıldırım). Баязид I отодвинул границу до Дуная, от Силистры до Железных ворот. В 1392 году он захватил Ускюп (Скопье). В 1393 году он покорил Тырновское царство, в 1395 году – Добруджанское княжество, а в 1396 году, после неудачного Никопольского крестового похода – Видинское царство. В конце XIV века территории Фракии, Македонии, Фессалии, Добруджи (на востоке современной Румынии), Болгарии и части Албании были переданы под прямое управление Баязида I; Валахия и Южная Сербия стали османскими протекторатами. При этом султану пришлось действовать и на другом фронте: Караманиды из Центральной Анатолии воспользовались вовлеченностью Османской империи в дела Европы и вступили в сговор с анатолийскими беями.
Баязид I ответил дважды: в 1390 и 1397 годах. Он завершил завоевание земель Гермияна, полностью покорил Писидию и напал на Караман. Султан захватил бейлики на побережье Эгейского моря: Сарухан в Лидии со столицей в Манисе, городе с крупнейшим невольничьим рынком; Айдын, самый могущественный эмират на Эгейском побережье, с его смирнским торговым портом и процветающими городами Бирги и Тире, о чем повествует хроника Умур-Паши «Дестан», состоящая из 2500 стихов[117]; Ментеше на юге в Карии, богатый бейлик в плодородной долине реки Меандр, и его столицу Балат (Палатиум). На севере Баязид I напал на область Кастамону, что привело к объединению других анатолийских беев. В 1398 году он завоевал Сивас и присоединил небольшие понтийские княжества. Продолжая двигаться на восток по караванному пути, он захватил Малатью в 1399-м и Эрзинджан в 1401 году. Спустя сто лет после основания государство Османа простиралось до берегов Евфрата и имело две столицы: одну в Анатолии, другую – в Европе.
Бурса возвышается над плодородной равниной, расположенной в 30 километрах от порта Муданья у подножия горы Улудаг. Город высоко ценился за умеренный климат и наличие целебных вод. Именно в этом городе, под сияющим на солнце серебряным куполом, Осман хотел бы быть похороненным. Так было при первых правителях вплоть до Мурада II, превратившего столицу в династический некрополь. Начиная с 1481 года всех султанов хоронили в Стамбуле, но вплоть до правления Сулеймана семейные гробницы находились в Бурсе. Мурад I велел построить там Большую мечеть (Улу Джами; ulu cami). После того как резиденция была перенесена в Эдирне и султаны стали регулярно там бывать, в городе началось строительство караван-сараев, был учрежден вакф, постоянно шла реставрация религиозных комплексов. Раскинувшийся у подножия цитадели торговый центр был частью расположенного неподалеку средиземноморского рынка. Бурса стала сердцем османской экономики.
Эдирне, в свою очередь, являлся вратами Румелии. Здесь брали начало европейские и иранские военные кампании. Город был расположен на пути в Софию и Белград, он стал отправной точкой Via Triumphalis[73], ступив на который новые султаны надеялись достичь Константинополя. По приказу Мурада I в Эдирне был построен императорский дворец. Город вырос вокруг мечети, крытого рынка, нескольких караван-сараев и медресе; его ценили за возможность славно поохотиться. В столице находился монетный двор, а также казначейство и архивы. Кроме того, в ней располагались казармы янычар и дворец на берегу реки Тунка. После того как Мехмед II поселился в Стамбуле, Эдирне остался второй резиденцией султанов. Во второй половине XVII века они проводили там большую часть года. С 1703 года правители начали возвращаться в Стамбул. После последнего визита Мустафы III в 1768–1769 годах султаны перестали останавливаться в Эдирне.
Выжить при Тамерлане
Воодушевленный победой в Никополе над христианскими армиями (1396), Баязид I провозгласил свою власть на правом берегу Дуная. Но вскоре ему пришлось учесть интересы другого выдающегося завоевателя Анатолии. Помешать османской экспансии поклялся неутомимый Тамерлан, для этого тюрко-монгольский властелин Трансоксании, завоеватель и кровожадный разоритель Москвы, Дели и Багдада, основатель династии Тимуридов и создатель красивейших зданий в столице – Самарканде – по наущению христианских князей объединился с эмирами, потерявшими владения по воле султана. В 1400 году он сровнял с землей Сивас. Затем опустошил Сирию и разгромил войско мамлюков. Путь в Анатолию был открыт. В 1402 году османское войско оказалось разбито под Анкарой. После бегства кавалерии защищать Баязида I остались лишь янычары, султан долго сопротивлялся перед тем, как сдаться в плен. Умер он в неволе. Впервые за столетие экспансия Османской империи была остановлена, а часть захваченных земель пришлось отдать. Многосторонний договор, заключенный в 1403 году между принцем Сулейманом и Византией, Венецией, Генуей и рыцарями ордена Святого Иоанна, привел к потере Салоник (крупнейшего города на Балканах после Константинополя) и владений в юго-западной части Черного моря. В последующие годы анатолийские эмираты (Гермиан, Айдын, Ментеше, Исфендияриды и Караман) усилили натиск, чтобы восстановить контроль над своими территориями. Только государство кади Бурханеддина с центром в Сивасе осталось в составе Османского султаната. При этом османские беи были возвращены в границы земли своих предков, а европейские части султаната – освобождены, хоть туда и хлынул поток мусульманских мигрантов.