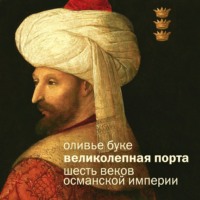Полная версия
Османская империя. Шесть веков истории
Египет – развитая цивилизованная страна – являлся при османах одной из крупнейших провинций и первым источником казны после Румелии. В его состав входили долина Нила до Асуана, оазисы Ливийской пустыни до Сивы, побережье Средиземного моря до Катии. Он также контролировал Нубию и Синай. Управление территориями осуществлялось из последней столицы страны – Каира, расположенного недалеко от места, где Нил разделяется на несколько рукавов, что позволяет пересечь его дельту. Будучи защищенным естественным барьером из песков Синая, который незнакомая с условиями пустыни османская армия все-таки смогла пересечь в 1517 году, Египет тем не менее не находился в изоляции. Напротив, он процветал благодаря торговой доступности. Конечно, с XIV века долина Нила стала второстепенной осью торговли. Однако порты дельты сохранили тесную связь с вовлеченным в торговлю побережьем Сирии и Анатолии.
В Новое время Египет занял центральное положение в Средиземноморье благодаря торговой сети, связывающей его со странами Плодородного полумесяца и морскими путями Африки и Азии. Если Стамбул был местом выгрузки всех богатств империи и ключом к вратам Босфора, за которыми таилось Черное море и черноморские степи, то Каир открывал дорогу к Красному морю, святым местам и безопасному проходу к Индийскому океану. В египетскую столицу стекались товары из Хиджаза (специи, кофе) и стратегическое сырье (древесина, металлы), она была местом производства промышленных товаров (текстиль). Однако вызванный Египтом интерес был связан прежде всего с налоговыми поступлениями: в 1527–1528 годах он приносил четверть доходов Порты[49]. Таким образом, ситуация при Османской империи отличалась от предыдущих политических режимов – Айюбидов и мамлюков, – для которых Египет был центром менее обширной империи[50].
На западе становился сильнее Магриб. В то время как Мариниды (1248–1472) обживали его восточные районы, Хафсиды (1228–1574) расширяли свои владения до Беджаи и Константины, совершая вылазки из Ифрикии. Опираясь на многочисленные союзы арабских племен, преемники Альмохадов оспаривали между собой титул халифа (calife). Несмотря на умелое использование стратегически удобного местоположения между Сахарой и христианскими державами, им не удавалось собирать налоги у местного мятежного населения. В XIV веке их государства распались на более мелкие формирования; в XVI – подверглись испанской экспансии, а также оказались захвачены османами.
С 1521 по 1574 год Порта держала под своим контролем береговую линию между Средиземным морем и пустыней, от Ливии до границ Марокко. Территория была поделена на три провинции: Алжир (Cezayir-i garb), Тунис и Триполи (Trablusgarb). В документах Порты термином «Магриб» названы гарнизоны (оджак; ocak), расположенные к западу (garb) от Стамбула. Сердцем Магриба был Алжир – бывший «срединный Магриб» (Mağrib ül-evsat), расположенный между Марокко («дальний Магриб», Mağrib ül-aksa) и Тунисом («ближний Магриб», Mağrib ul-edna). В его состав входили три бейлика: Титтери (Медея) в центральной части; Константина на востоке; Мазуна (затем Маскара) на западе. Территория, непосредственно подчиненная алжирскому дею (dey; глава оджака и фактический глава провинции), включала только Сахель и Митиджу и находилась под строгим надзором непобедимого корпуса янычар. На этих землях в ходу довольно редкий вид арабского письма (Mağribi nesih). Учениками Мимара Синана высоко ценилась архитектура региона: они обогатили ее элементами, сформировавшимися в Анатолии и на Балканах[51]. Вопреки бытовавшему ранее мнению, Магриб не был «побочным отпрыском мусульманского мира». Там не звучали «бледные отголоски» «бурного религиозного, культурного и идейного кипения Востока»[52]. При османах, так же как и при их предшественниках, ученые создавали оригинальные каллиграфические стили письма и ставили себе новые интеллектуальные задачи.
Представители Порты предпочитали держаться ближе к побережью и позволяли местному населению самостоятельно вершить закон в горах, регионе Теллиан, а также степных районах, где, от Бискры и Шотт-эль-Ходны до марокканской Мулуи, проживали скотоводы. Османы редко появлялись в горах – в районе массива Орес, возвышающегося над Нижней Сахарой и над лесистыми холмами, где вели оседлый образ жизни бербероязычные крестьяне. Не показывались они и на просторах Сахары: османское представительство в Феццане появилось лишь с середины XIX века, когда перед империей встал вопрос о сохранении колоний в новом политическом контексте.
В отличие от Ближнего Востока, в Магрибе турки так и не перестали считать себя чужаками. Их язык был распространен там меньше, чем в Эль-Машрике («на Востоке»), и использовался только для составления приказов султана и заключения международных соглашений. После подписания последнего договора между Францией и Османским Тунисом в 1824 году правительство Туниса за некоторым исключением перешло на арабский язык[53]. Тем не менее история Магриба, бесспорно, составляет единое целое с историей Османской империи[54]. По мнению Порты, регентства оставались османскими провинциями независимо от признания автономии.
Значение географических условий: пространства, дороги и транспорт
Географические характеристики региона отличались большим разнообразием – в целом возможно выделить пять климатических зон.
1. На севере империи, в зоне континентального климата с большими температурными скачками, находились плоскогорья и возвышенности, а также обширные леса по берегам Черного и Мраморного морей. Таким образом, Светлейшая, которой для строительства короблей был нужен дуб, имела все основания завидовать лесным владениям османов.
2. В центральной части средиземноморский климат с зоной низкого атмосферного давления и субтропическими антициклонами на морских побережьях хорошо подходил для возделывания характерных для античных времен сельскохозяйственных культур (оливки, пшеница, виноград).
3. На юг и юго-восток простиралась обширная засушливая субтропическая зона – степной и пустынный край (ближневосточные и африканские уголки империи, Египет, нижняя и средняя Месопотамия), где орошение было необходимым условием для развития сельского хозяйства.
4. В восточной части Понтийского хребта преобладал так называемый субтропический, или восточный континентальный, климат; его отличали сильные осадки. Подобные условия были благоприятны для садовых деревьев (в частности, грецкого ореха). Особенностью региона являлось богатство лесами, благодаря этому Стамбул, а также небольшие, сколотившие капитал литейные заводы в Северной Анатолии не испытывали недостатка в дровах.
5. Наконец, вблизи морских побережий царил климат смешанного типа со средиземноморскими и континентальными чертами, он хорошо подходил для выращивания востребованных культур, в частности шелковицы, от которой зависело разведение тутового шелкопряда, или прижившегося в Вифинии и Македонии табака.
При уровне осадков 200 мм на равнинах Плодородного полумесяца, просторах Анатолийского плоскогорья, а также на большей части Балкан и в Причерноморье можно было заниматься богарным земледелием. Некоторые районы оседлого сельского хозяйства – равнины и невысокие холмы Балкан, Западная Анатолия, внутренняя Сирия и север Плодородного полумесяца – славились своим богатством. В стесненных условиях горной местности (Понтийский хребет, горный хребет Ливан) местное население обрабатывало разное сырье, в частности древесину. За пределами упомянутых регионов преобладало скотоводство: отгонное (Албания и соседние регионы), полукочевое (Центральная и Восточная Анатолия, границы Плодородного полумесяца, большая часть Магриба до Киренаики) или кочевое (Аравийский полуостров).
Территорию империи населяли кочевники-скотоводы (их численность сокращалась) и оседлые земледельцы (их доля увеличивалась, а окраины – урбанизировались). Равновесие между столь разными группами оставалось неустойчивым, кочевники охотно превращались в грабителей и угрожали караванам торговцев и паломников; местные власти стремились оттеснить их обратно, на пустынные земли. Балканские горы были усыпаны деревушками; еще более многолюдные и крупные поселения находились на равнинах Валахии, Венгрии или Верхней Болгарии. Население Мореи жило в страхе перед пиратами. Местные жители предпочитали селиться в городах в холмистой местности, наподобие деревень Кабилии, Корсики или Сардинии, нежели оставаться на разграбленном побережье, где зачастую случались эпидемии. Предгорья Таврских гор были усеяны крошечными домиками, предназначенными как для пастухов и животноводов, так и для скота.
Население плоскогорий Анатолии и Йемена или долин Румелии раскалывалось на соперничающие кланы. Разобщение объяснялось географическим разнообразием. Политику Османской империи по централизации власти местное население воспринимало враждебно. В труднодоступных районах среднегорья (горный хребет Ливан, Джебель-Друз, Закавказье) царила автономия. Перемещения путников и батраков осложнялись непогодой и естественными препятствиями. Для отправки экспедиций и начала военных компаний в Венгрии или Иране приходилось ждать окончания зимы.
За исключением широкой прибрежной полосы от Бейрута до Туниса с выходом на обширные, но непригодные для земледелия каменистые и песчаные равнины, местность к югу от Средиземного моря была гористой. В Европе и Малой Азии виноградники, оливковые рощи и поля, засеянные злаками, чередовались с характерными для континентального климата кустарниками и лесами. На севере Балкан и в Восточной Анатолии случались суровые зимы. Весной в хлебородных районах происходили внезапные паводки, что приводило к уничтожению посевных полей. На Балканах и во Фракии возводились «горбатые» мосты без опор: при внезапных паводках подобные конструкции обладали повышенной устойчивостью. Для Таврских гор характерны снежные зимы. Осадки с гор орошали расположенные на равнине пахотные земли и соседние пастбища: в Анатолии и на Балканах – регулярно, на Ближнем Востоке – периодически. Связь между центральными регионами и побережьем обеспечивалась за счет сезонных миграций и перегона скота (Киликия). Плоские возвышенности в Центральной Анатолии имели свои особенности: водоемы, зажатые в горных массивах; развитая прежде всего на территориях, расположенных рядом с имперскими дорогами, экономика; разбросанные вокруг тесных деревень отдельные хозяйства; характерная для всей Малой Азии историческая преемственность. Для описания разных видов почв местные языки использовали цвета: «серые» или «белые» земли предназначены для возделывания плугом; кремовый известняк и серый туф непригодны для земледелия; красноватая плодородная земля характерна для карстовых провалов; черная глинистая земля – пригодна для выращивания злаков всюду, за исключением очень дождливых районов. Каменистые почвы карстовых районов хорошо удерживали влагу и подходили для выращивания винограда, а также оливковых и фруктовых деревьев. Большое климатическое разнообразие соответствовало обилию рельефов: от угрюмых засушливых районов до приветливых лесистых предгорий.
Мужчины, женщины и дети преодолевали короткие и средние расстояния пешком или верхом на осле (менее затратном транспорте, чем мул) – сама жизнь учила их не торопиться. Расстояния мало что значили (километр можно пройти за час, а можно за полдня), доказательством тому служат присутствующие в военных походных отчетах и путеводителях указания не расстояния, а продолжительности пути. Верблюды нанимались для коротких маршрутов, поэтому караваны, зачастую ценой длительных остановок, регулярно меняли состав. В арабских провинциях содержали одногорбых верблюдов, тогда как в Анатолии и на Балканах – двугорбых: только они могли выдерживать суровые зимы[55]. В большинстве городов Румелии использовались тележки для перевозки зерна, дерева и металлов[56]. Однако большая часть дорог оставалась непригодна для колес. Поэтому старые тракты, построенные римлянами, например Via Egnatia[57], содержались в порядке. Путешествия в основном были короткими. Скоропортящиеся продукты почти никогда не перевозились по суше, поскольку стоимость транспортировки в караване обычно превышала стоимость продажи. Доставка по морю обходилась дешевле, однако риски были значительны – груз, подобный рису, мог намокнуть, набрать вес и даже затопить судно. Империю пересекали четыре крупные реки. Две из них были очень загружены (Нил и Дунай), две другие использовались гораздо реже (Тигр и Евфрат – основные военные пути, связывающие с Ираком, ниже по течению от Биреджика). Низовья рек к северу от Черного моря находились под контролем османов, однако сами реки были труднопроходимы, пороги Днепра представляли собой главное препятствие для судоходства[58]. Остальные водные пути и реки оставались недостаточно развитыми, каналов было мало.
В результате промышленной революции XIX века и появления новых транспортных средств расстояние, которое человек был способен преодолеть за заданное время в прошлом, увеличилось. Сокращение продолжительности путешествий (за счет ускорения короблей, а позднее и поездов) и затрат (увеличились как тоннаж, так и сеть перевозок) открыло для отдаленного от центра производства (например, Ирака, который с 1869 года оказался связан с остальной частью империи Суэцким каналом) доступ к активно развивающимся рынкам. В результате введения на железных дорогах времени по Гринвичу было установлено четкое время в пути. Благодаря некоторым новшествам парусные суда, а затем и пароходы стали устойчивее к штормам. В 1830-е годы открылось регулярное сообщение с портами Леванта. Более того, суда могли подниматься вверх по течению рек, как порожняком, так и с грузом, на Дунае или на Тигре все чаще появлялись торговые и пассажирские суда. На Ближнем Востоке распространился колесный транспорт, а сами дороги становились все более и более безопасными.
Народы и религии
Поначалу османская экспансия осуществлялась на окраинах исламских территорий, здесь первые султаны провозглашали суверенитет и продвигали идею превосходства над мусульманскими правителями того времени. Затем идея превосходства распространилась и на Европу. Завоевание и исламизация шли там рука об руку, мечети (cami) и монастыри (текке; tekke) строились по мере продвижения войск. После завоевания Крита в 1669 году большая группа мусульман переселилась на остров, где уже проживало население, исповедовавшее христианство и иудаизм. Однако скорость обращения в ислам варьировалась: в Албании исламизация происходила довольно поздно, в XVIII–XIX веках; в начале XX века жители Косова все еще переходили в ислам. На Балканах большая часть населения оставалась христианской. Весьма неортодоксальный в том, что касается обрядов, османский ислам зародился на пограничных территориях, был сформирован традициями земледелия и религиозного паломничества и подвергся влиянию неразрывно связанных с исламской городской культурой шаманизма, буддизма и манихейства, адаптированных к законам государства. Начиная с XVII века ислам завоеваний сдает свои позиции и полтора века спустя уступает место исламу, напрямую связанному с халифатом (в ответ на политику русской экспансии вокруг Черного моря). С конца XIX века усилиями «султан-халифа» Абдул-Хамида II происходит панисламистская переориентация (нацеленная на мусульманское население России).
Следует отметить, что, в отличие от арабов, турков, исповедующих христианство, не существует. В частности, предметом споров является идентичность тюркоязычных жителей Центральной Анатолии – караманлы: одни авторы видят в них христианизированных турок, другие – тюркизированных греков. Добавим, что в государственной практике, а также в обычаях и представлениях общества различия носят прежде всего религиозный характер – например, в восточных провинциях курды, арабы и туркмены попадали в одну категорию при переписи населения. До начала XX века турки называли себя мусульманами. Термин «турок» использовался немусульманами и иностранцами для обозначения тюркоязычных мусульман там, где их число преобладало (прежде всего в Анатолии), было велико (на Балканах) или крайне мало (арабские провинции).
На территории всей империи преобладал ислам суннитского толка, но шиизм тоже был широко представлен (Ирак, Йемен) и характерен для некоторых групп (друзы в Ливане, кызылбаши (kızılbaş) в Анатолии). На протяжении всего османского правления приверженцы суфизма, объединявшиеся в ордены (тарикаты; tarikat), также сохраняли и развивали свое учение. Повсюду, от Балкан до Египта, мусульмане поклонялись святым и проводили церемонию зикра (zikr) – «упоминания» имен Бога по четким правилам. Обычаи братства распространились во всех без исключения кругах: например, внутри профессиональных корпораций – улемов. В конце XIX века в Стамбуле было 57 общин кадиритов (орден, основанный в XII веке в Багдаде) и 56 общин накшбанди (орден, возникший в XIV веке в Бухаре). Некоторые ордены были особенно широко распространены внутри конкретных социальных групп. Так, знаменитые бекташи были тесно связаны с янычарами – настолько, что султан упразднил их в 1826 году. Другие, такие как мевлеви, принадлежали к элите: были наделены политическим влиянием и исключительной литературной славой.
В империи встречались диаспоры евреев и христиан. Кроме грекоязычных евреев – романиотов, обосновавшихся, в частности, в Бурсе, Галлиполи, Эдирне и нескольких болгарских городах, во Фракии, Болгарии, Кастамону или Кефе (Каффа) в Крыму проживали небольшие группы караимов (признавали Библию как единственный закон, отвергалии Талмуд и авторитет раввинов). Позже здесь поселились ашкеназские и итальянские евреи, а начиная с 1492 года иберийские евреи. На Ближнем Востоке совершавшее христианские обряды население оказалось сильно рассредоточено за время правления сменявших друг друга империй, от римлян до османов. Во второй половине XVII века патриарх Истифан ад-Дувайхи (ум. 1704) дал основание полагать, что маронитская община жила в горах Ливана в эпоху финикийского прошлого[59]. Армянские патриархаты были преемниками долгой традиции, от Великой Армении, зародившейся в 190 г. до н. э., и до Киликийской Армении, основанной в 1198 году. На Балканах многие церкви исторически были связаны с государствами, исчезнувшими в Средние века (Румыния, Болгария и Сербия), или с наследием Византийской империи (греческая православная традиция). Территориально преобладали главным образом православные славяне (Болгария, Румыния, Сербия, Черногория). Что касается католиков, они проживали на северо-западе Болгарии, в Румынии и на севере Албании, а также на побережье Далмации, на Кикладах и в стамбульском районе Галата. Их небольшое количество насчитывалось также в центральных и восточных провинциях. Наконец, протестантов было еще меньше, их возникновение на этих территориях связано с созданием библейских и миссионерских обществ в Восточной Анатолии, Сирии, Палестине и горном Ливане.
Языки
Империя многоязычна. Ее население говорило на сотне языков и диалектов. Турецкий, арабский и персидский являлись тремя классическими языками (элсине-и селасе; elsine-i selase) имперской администрации. На письме они довольно сильно отличались от устной речи.
1. Как и азербайджанский или туркменский, османский турецкий язык относится к огузской группе алтайской языковой семьи (наряду с монгольской и тунгузской группами). Грамматика и синтаксис тюркские. До введения латинского алфавита в Турецкой Республике в 1928 году письменность была арабской. Лексика состояла из «огромной массы арабских и персидских выражений» (Л. Базен). Османский язык преобладал в Стамбуле, на нем говорила почти вся Анатолия. На Балканах он, напротив, играл второстепенную роль и использовался в основном албанскими или боснийскими мусульманами и редко – за исключением Эдирне – звучал в крупных городах. На турецком почти не говорили на Ближнем Востоке или в странах Магриба (исключение составляла военная и административная элита). Если до конца XVI века Порта использовала несколько языков (турецкий, персидский в финансовых отчетах, греческий, славянский и т. д.), то в последующие века в качестве основного языка бюрократии утвердился турецкий. Чуть позже султан перестал составлять документы на других языках, а кади центральных провинций прекратили пользоваться арабским[60]. По Конституции 1876 года турецкий язык стал официальным государственным языком. В государственных школах, открытых во второй половине XIX века, он стал основным языком обучения.
2. Арабский язык являлся языком ислама, Корана, исламских наук, искусства и литературы. Хорошо развитая образовательная сеть использовала на всей территории империи арабский язык: школы при мечетях, где дети учили Коран наизусть, медресе, библиотеки, кружки под руководством известных улемов. В «арабоязычных провинциях» на арабском велась судебная практика. В других местах он использовался мало. С XVIII века неарабоязычная элита, включая исламоведов, говорила на нем все меньше и меньше. По словам писателя Али Суави (ум. 1878), немногие улемы владели арабским языком.
3. Из трех классических языков персидский был в ходу меньше других. В отличие от арабского, на котором составлялись юридические документы (акты кади), он почти не использовался официальными лицами. Персидский являлся языком поэзии и суфизма. В эпоху позднего Средневековья он не только сильно повлиял на тюркский литературный язык, но и стал lingua franca – связующим звеном между Малой Азией (Bilâd al-Rûm) и иранскими странами (Bilâd al-ʿAjam)[61]. В XVI веке персидская поэзия стремительно распространилась по всей империи. Однако с конца XVII века воспроизведение персидских рукописей становилось все менее популярным. В последующие два столетия письменным персидским пользовались лишь некоторые ученые; по словам историка и правоведа Ахмеда Джевдета (ум. 1895), персидский язык хорошо преподавали лишь в Стамбуле, в монастырях ордена мевлеви. В XIX веке его все же включили в учебную программу медресе, колледжей и военных училищ. В действительности он был распространен только на востоке страны; в частности, в свой литературный язык его превратила курдская элита.
Кроме трех классических языков, в империи были в ходу десятки других. Следует проводить различие между литургическими и народными языками. При помощи первых можно было трактовать священный Коран, ими владели ученые и учителя[62]. К литургическим языкам относились греческий, армянский, арабский (для христиан и мусульман), иврит, сирийский и церковно-славянский. Простонародные языки не были распространены широко, но использовались на разных территориях в разных ситуациях. На одних говорило население, завоеванное в период с XIV по XVI век, на других – кавказские беженцы XIX века. Какими-то языками владели лишь десятки тысяч человек (в частности, кавказскими); другими – сотни тысяч или даже миллионы; более того, в некоторых регионах, как в городах, так и в сельской местности, эти языки начали преобладать, несмотря на влияние двуязычия. Так, например, обтояло дело с греческим – языком, удивительным образом распространенным на территории всей империи. На нем говорили и/или писали в основном в Морее, Южной Албании, Эпире, Фессалии, Южной Македонии, Западной Фракии, на Крите, Кипре, островах Эгейского моря и в меньшей степени в Анатолии и Сирии. В Восточной Анатолии и на территориях, где проживали и исповедовали свою религию армяне, был широко распространен армянский; начиная с XVIII века он проходил этап литературного возрождения. Сефардский язык занимал иное место, на нем говорили исключительно городские евреи-сефарды. Иврит оставался письменным языком еврейской элиты до перехода на французский в конце XIX века. На Балканах доминировали славянские языки, разбросанные по полуострову по этническому принципу: сербохорватский на западе; болгаро-македонский на востоке (его носители использовали церковно-славянский для церковной службы). Существовали также интересные комбинации письменных и простонародных языков. Например, тюркоязычные народы (караманлы, армяне) использовали для письма соответствующий алфавит (греческий, армянский); испаноязычные евреи – еврейский для письма на сефардском.
Наконец, несколько слов о языках христианских стран. В империи они были мало распространены, ими владели лишь переводчики, или драгоманы. Некоторых Порта нанимала в качестве секретарей, другие состояли на службе у послов или губернаторов и участвовали в составлении канцелярских документов на греческом, латинском, церковно-славянском и других языках. До конца XVIII века языком дипломатических отношений был итальянский. Лингва франка использовался моряками и купцами с берегов Магриба. На французском говорили христианские общины Леванта. В XIX веке он получил широкое распространение среди подданных, находящихся под консульской защитой, высших чинов бюрократии, армии, и прежде всего дипломатической службы. Он также был языком масонских лож и, в конце существования империи, вторым языком (до турецкого), на котором говорило еврейское, греческое и армянское население.