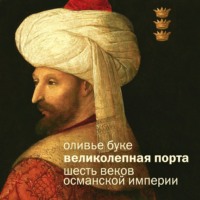Полная версия
Османская империя. Шесть веков истории
Во время Османского междуцарствия (1402–1413) четыре сына Баязида I вели междоусобную войну. Претенденты на трон искали поддержки в собственных бейликах и заключали союзы с соседними государствами: Сулейман воцарился в Европе; Мехмед взял под контроль Амасию и северо-восточную Анкару; Иса пытался удержать Западную Анатолию; Дунайская Болгария служила военной базой для Мусы, однако установленные им чрезмерные налоги вызвали неприязнь местного населения. В 1411 году он застал врасплох своего брата Сулеймана в Эдирне и приказал убить его. В свою очередь, Мехмед вернул потерянные в 1410 году земли анатолийских эмиратов. При поддержке нескольких сербских правителей, включая Стефана Лазаревича, он уничтожил войска Мусы, задушенного в конце решающей битвы при Чамурлу в 1413 году[74].
Выйдя победителем из братоубийственного противостояния, Мехмед I столкнулся с задачей создания новой системы государственного управления и был вынужден подавить несколько восстаний. Новый султан заверил послов вассальных балканских государств в своих мирных намерениях, а когда пришло время, выступил против анатолийских соперников – в этом заключался залог успеха второго завоевания Анатолии. Эмират Караман вновь возглавил сопротивление. В результате осады Коньи в 1415 году Мехмед I частично захватил ее и восстановил потерянную власть. Он также взял под контроль Сарухан и часть Айдына. Тем не менее в 1416 году флот султана разбила венецианская армада.
В том же году в Добрудже, на северо-востоке Болгарии, под влиянием идей ученого и мистика Бедреддина Махмуда вспыхнуло восстание. Впоследствии революционные идеи просочились на юг Измирского залива, к югу от Болгарии, где их подхватили двое последователей Бедреддина – Бёрклюдже Мустафа и Торлак. Мятежные настроения объединили сирийских и анатолийских тюрков, соперничавших с османами эмиров из Малой Азии, бедных крестьян, неортодоксальных мистиков, а также христиан, которых привлекали духовные аспекты движения. Все они разделяли дерзкие идеи: общее владение имуществом, выраженный интерес к другим религиям, отказ от произнесения второй части шахады (символ веры) относительно пророческой миссии Мухаммеда. Вспыхнувшее движение историки рассматривают как характерные для военизированных приграничных провинций протестные настроения, неприятие османской власти со стороны тюркских кочевников, а также протест против османских религиозных властей неортодоксальных исламских течений, трактующих пророческую миссию Мухаммеда иначе[75].
Вторая половина правления Мехмеда I насыщена военными достижениями: предприняты новые походы против Карамана; захвачен Кастамону с его медными рудниками; разбиты валахи на Дунае; увеличено присутствие в Албании; отвоеваны порты в Измитском заливе; установлен контроль над Понтом и соседними провинциями (Амасья). Преемником Мехмеда I должен был стать его сын Мурад II (правил 1421–1444 и 1446–1451). Для этого ему пришлось устранить двух претендентов на престол: освобожденного византийцами некоего Мустафу, утверждавшего, что он является его дядей, и брата Мустафу Младшего, собравшего целое войско, чтобы сместить его. После казни соперников в 1422 и 1423 годах Мурад II продолжил отвоевание потерянных в 1402 году земель и политику ориентации империи на Европу.
В 1422 году началась осада Салоник – в 1430 году город был взят. За ним последовала Янина в Эпире. В 1425 году были присоединены Ментеше и Айдын, таким образом, побережье Эгейского моря снова стало османским. Когда в 1428 году последний правитель Гермиянидов умер, не оставив наследника, османы взяли под контроль Гермиян. Они провели две победоносные кампании против Карамана (1437, 1443), завершившиеся мирными договорами, которые позволили возобновить активные действия в Европе. В 1438 году был совершен налет на Венгрию. В 1439 году Мурад II взял под контроль Сербию, но произошедшая в следующем году осада Белграда провалилась. В 1442 году османы потерпели поражение от короля Венгрии в битве у Яломицы в Валахии. В 1443 году разномастное войско под предводительством воеводы Трансильвании Яноша Хуньяди (ум. 1456) и его католических союзников переправилось через Дунай и выдвинулось в сторону Сербии и Болгарии. В июне 1444 года противники пришли к соглашению в Эдирне[76], Мурад II сохранил за собой Болгарию и власть над Валахией и заключил десятилетнее перемирие с Венгрией. После этого султан счел возможным передать бразды правления подготовленному к роли наследника четырнадцатилетнему сыну Мехмеду. Сам Мурад II отрекся от престола и удалился в Манису.
Венгры и валахи немедленно перешли в наступление; чтобы возглавить восстание в Румелии, в Византии был освобожден внук Баязида I Орхан. Мураду II пришлось вернуться на политическую арену. В ноябре 1444 года в битве при Варне, на болгарском побережье Черного моря, османская армия разгромила армию крестоносцев папы римского. В 1446 году в Эдирне вспыхнуло восстание янычар. Мехмеду II не удалось взять ситуацию под контроль. Великий визирь Чандарлы Халил-паша добился возвращения на престол Мурада II, тот полностью опустошил Морею и одержал победу над морейским деспотом Константином Палеологом. В 1448–1449 годах Мурад II взял Арту, столицу Эпирского деспотата, и приступил к подавлению мятежа, возглавленного в 1443 году албанским правителем Георгием Кастриоти (Скандербег). Тщетно: при поддержке Венеции, Неаполя и папства восстание продолжалось до 1468 года. Мурад II скончался в 1451 году, после тридцати лет непрерывных сражений. Ему удалось завершить восстановление империи после катастрофы 1402 года. С Венецией и Рагузой был заключен мир. Сербия покорилась Османской империи, а земли Валахии и Венгрии оказались под ее контролем. Однако ситуация оставалась нестабильной в Анатолии: один из эмиратов, Караман, продолжал оказывать сопротивление. Но в 1451 году султаном снова стал Мехмед II, на этот раз окончательно. Новому правителю исполнилось 18 лет, и его амбиции были очень велики.
Новый Румский султанат
Дом Османа
В одних преданиях Осман изображен человеком, проводившим весь день верхом, не склонным предаваться долгим размышлениям, не умеющим читать и писать. В других – опытным в торговых делах человеком. Осман происходил из зажиточной семьи, которой служили писцы, обученные персидскому языку для составления бумаг. Долгое время новое государство продолжало восприниматься соседями как кочевое вождество. На то были основания: источником большей части его ресурсов оставались набеги, жители придерживались ценностей и образа жизни анатолийского населения, периодически участвовали в военных походах. Жизненные взгляды тюрков-огузов, оказывавших поддержку Осману, были просты: солдаты сражались за предводителя, а тот отвечал за их довольствие, распределяя добычу и захваченные земли.
Османы столкнулись с той же проблемой, что и монголы; процитируем слова великого хана Угэдэя (1229–1241): «Верхом на коне можно создать империю, но чтобы править, придется спешиться»[77]. Правитель принимал решения на совете (müşavere), в присутствии небольшого числа единомышленников, собиравшихся без протокола. Неизвестно, участвовали ли в подобных собраниях члены семьи бея, но мы знаем, что визири и представители местных властей присоединялись к государю по его усмотрению. Заседания были предназначены для решения конкретных вопросов и походили на заседания «ложа справедливости». По словам Ашик-паши-заде, время от времени султан должен был появляться перед своими подданными на полупубличных собраниях. Судя по всему, никаких записей во время заседаний не велось.
Подобно потомкам Чингисхана, османский бей провозглашал верховенство закона (Яса; yasa). Государство, которое считалось исламским и опиралось на улемов, осуществляло свою власть не без трудностей. Зачастую улемы назначались факихами (fakîh), многие из них получали пожертвования от беев. Вероятно, они больше напоминали простых имамов, чем настоящих законоведов. В письменных источниках о них упоминается реже, чем о гази и дервишах, но нам известно, что великих улемов привлекали для пополнения государственной казны, тогда как первые визири происходили из их числа. Если при Баязиде I их отстранили от власти после восстания шейха Бедреддина, а общественное мнение склонялось к более строгому применению шариата, хоть и оставалось в меньшинстве, то при правлении Мурада II увеличение числа документов свидетельствовало о включении права, основанного на обычаях, в законную работу органов управления.
Первый из османов прославился под титулом бея. Беем называли правителя второго ранга после хана. После падения династии Ильханидов в 1335–1336 годах Орхан присвоил себе титул султана. В начале XV века у государя были все атрибуты монархической власти. Каллиграфический знак султана, или тугра (tuğra), которую ставили на указы султана, выражал ее «сакральный», «божественный» и «возвышенный» характер. Обычаи при дворе султана сочетали элементы этикета и нравов сельджуков и ильханидов, а также традиции итальянских морских республик и Византии. Охота стала центральным элементом политической культуры; султан приглашал на нее подданных, которые не могли приблизиться к нему во дворце в Эдирне, расспрашивал их о несправедливостях и наводил порядок; военные кампании заканчивались торжественной охотой, в которой принимали участие придворные сановники и простые подданные.
Территориальное управление
Первые земли, захваченные в окрестностях Вифинии и хорошо защищенные от нападений извне, славились относительным изобилием, лишь чума периодически омрачала благоденствие местных жителей. Фракия и Болгария больше зависели от перемещений войск, которые отправлялись то на запад (Албания), то на северо-запад (Сербия, Венгрия), то на север (Молдавия). По своему устройству бейлик, как и соседние княжества, унаследовал сельджукскую схему: военачальник (субаши; subaşı) управлял землей, полученной за выслугу.
Бейлик состоял из двух отдельных частей: во внутренних землях существовали относительно централизованные институты; для приграничных районов (основной фронт экспансии) было характерно гибкое и практичное управление людьми и ресурсами, причем приоритет отдавался эффективности армии. Первоначально эта открытая часть территории была безвозмездно отдана предполагаемому наследнику, носившему титул паша. Однако при Мураде I беи перестали наделять подобными полномочиями своих сыновей, вместо этого они передавали контроль над приграничными территориями доверенным лицам, которые подчинялись непосредственно им[78].
Относительно эгалитарное сообщество гази постепенно превратилось в иерархическую систему, выстроенную между центральной властью и подчиненными беями. Политический мыслитель Ибн Халдун (ум. 1406) отмечал, что большинство исламских княжеств распалось на этом этапе в результате ухода «клановости», асабийи (͑asabiyya). Османам это не грозило, так как они создали «искусственный институт родства» – армию янычар, функционировавшую как продолжение королевского дома[79]. Более того, они не лишали воевавших на приграничных территориях подданных благ, полученных от иерархической и централизованной системы. Этот факт оказал благотворное воздействие на Османскую империю: ей удалось провести новую границу владений в Европе прежде, чем во второй половине XV века ее восточные пределы сдвинулись назад от Трабзона до Грузии. История Османской империи не подтверждает тезисы Ибн Халдуна еще и потому, что у османов не было феодальной системы. Осман I и Орхан, похоже, даровали земли в удел родственникам и близким друзьям. Орхан назначил своего сына Сулеймана-пашу военачальником пограничной провинции Фракия. В последующие два столетия закрепилась традиция ставить во главе периферийных районов сыновей. При этом они находились под жестким контролем центральной власти и никогда не были бейлербеями. Более того, их полномочия прекращались после смерти правителя, исключением являлись только сыновья нового султана.
Постепенно создававшаяся провинциальная администрация была основана на принципе делегирования военной власти. При Мураде I европейскими землями управлял бейлербей, чья резиденция находилась в Софии. С 1393 года к зоне его влияния присоединились провинция Анатолия, центром которой была Анкара, и позднее Кютахья. В это время его сын Мехмед возглавил управление Амасии и Сиваса. После укрепления позиций беев на Дунае и Адриатике были созданы санджаки (sancak), или субгубернаторства: Никополь и Охрид (1393), Кюстендил (1394) и Видин (1396). Их число росло с каждым завоеванием, к 1430-м годам их было уже четырнадцать в Румелии и шестнадцать в Анатолии[80]. На этих территориях можно было существенно пополнить войско: от 1000 до 6000 человек. Предводители санджаков, санджак-беи (sancakbeyi), напрямую зависели от правителя, они должны были осуществлять командование субаши и ограничивать зачастую слишком тесные связи последних с местными властями. Санджак-беи собирали войска и передвигались с барабанами и штандартами, получая в награду земли из домена суверена. В конце XIV века кади тоже начали получать фиксированное жалованье. Была введена должность мухтасиба (muhtesib; впервые она упоминается в Бурсе в 1385 году[81]): он представлял государство на рынках, помогал устанавливать цены, инспектировал магазины и проверял используемые единицы измерения и веса. Мухтасиб подчинялся кади, следил за соблюдением правил и общественной морали. В крупных городских центрах он получал жалованье из откупа (султан делегировал ему сбор определенных налогов на ограниченный срок), в небольших городах – тимар в надел.
При Мураде I большое внимание уделялось добыче золота и серебра на сербских и боснийских рудниках. Эти действия провоцировали военные столкновения с зависевшими от них венграми и итальянцами. Добыча драгоценных металлов была необходима и для снабжения войска Мурада II.
Государство получало доход от сельскохозяйственных угодий, частично они поступали в благотворительные институты. Государственные служащие вели конторские книги, из казны финансировалось строительство рынков, мечетей, монастырей и школ. Османские власти уважали старые законы балканского населения и учитывали созданную ранее налоговую систему[82]. Вместо того чтобы адаптировать фикх к проблемам, возникшим в связи с разработкой сербских и болгарских месторождений, государство продлило действие саксонского права, применявшегося там с XIII века. На болгарской территории османские власти продолжали взимать налоги в размере, установленном до завоевания.
Следуя исламской традиции, османы превратили сикке (sikke, монета) в символ королевской власти. Они использовали сикке для сбора налогов и выплаты жалованья солдатам. Взяв за образец венецианский меццанино, султан Орхан выпустил серебряную монету с собственным именем. Мурад I приказал чеканить деньги из меди. Золотые монеты возникли в первой половине XV века. Монетные дворы появились во многих городах Анатолии (Анкара, Аясолук, Айдын, Болу, Бурса, Амасья, Афьон-Карахисар) и Румелии (Ново-Брдо, Серрес, Скопье). Серебряный аспер использовался в качестве расчетной единицы и платежного средства в небольших сделках. Содержание серебра в акче варьировалось в зависимости от решения властей профинансировать ту или иную военную кампанию. Более того, османские правители знали, что экономическая экспансия зависит от свободного обращения денег. К тому же султаны понимали, что купцы покупают и продают товар в валюте, наиболее выгодной для их сделок. Поэтому использование иностранной валюты в качестве платежного средства разрешалось, а драгоценные металлы освобождались от таможенных пошлин. Местные рынки могли свободно устанавливать обменные курсы как османских, так и иностранных денег. Гиперпер, денежная единица Византии, доминировал до середины XIV века. Затем его сменил флорин, который, в свою очередь, был вытеснен венецианским дукатом, он преобладал в XV веке и служил османским стандартом в последующие века. В ходу у османов был также серебряный пиастр, номинал которого варьировался в зависимости от места чеканки. Его обменный курс постоянно колебался из-за непостоянного курса золота к серебру.
Войска завоевателей
Османская военная история – это постоянное чередование открытой войны и повторяющихся пограничных столкновений (klein Krieg). Султану помогали удж-беи (военачальники). Они возглавляли набеги на вражескую территорию, выступали в роли разведчиков и отвечали за уничтожение экономических и демографических ресурсов желанных районов. Удж-беи командовали акынджи (akıncı), или участниками набегов, группами воинов, сформированными во времена Османа, предположительно под руководством Кёсе Михала, византийского владыки, обращенного в ислам основателя рода завоевателей Михал-оглу. Из акынджи – легкой кавалерии численностью несколько тысяч человек – военачальник Гази Эвренос сформировал пограничные отряды (оджаки). Стоит вообразить этих конных лучников. Они умело использовали рельеф для наведения ужаса на армию противника. Бывший сербский янычар Константин Михайлович (ум. ок. 1500) описал их молниеносные набеги, «как проливной дождь, хлынувший из облаков»; «где бы они ни ударили, они сжигали, грабили и сметали на своем пути все, да так, что в течение многих лет там, где они прошли, не кричал ни один петух»[83]. Акынджи жили за счет награбленного в бою и держали землю, которую обрабатывали две или три пары волов. Поскольку их военная служба не оплачивалась, они освобождались от уплаты десятины, ушра (öşr), и на них также не распространялись правовые обычаи (rüsum-ı örfye). После появления янычар при Мураде I по мере расселения мусульманского населения в Европе акынджи оттеснялись в пограничные районы. Они продолжали служить в качестве авангарда в военное время и возглавляли карательные экспедиции в мирное.
Первые беи набирали наемных солдат из населения Восточного Средиземноморья. Ни одно завоевание не обходилось без их участия. Но присутствие наемников вызывало осложнения, эти люди были чрезмерно склонны к грабежам и часто перебегали на чужую сторону. Во второй половине XIV века османские правители решили создать армию. Началась мобилизация местного населения в пехотные части: яя в Анатолии (yaya, «те, кто ходит пешком»); юрюки в Румелии (yürük, «те, кто марширует») и мюселлемы, или конница (müsellem, «освобожденные»). Информации об этих формированиях немного, известно, что им выделялись отдельные земли во владение, что они были освобождены от налогов и в начале XV века вошли во вспомогательные войска, призванные решать второстепенные задачи. Наряду с ними в состав пехоты вошли азапы (azab), ставшие частью нерегулярного войска, которое набиралось при необходимости из проживавших в городе холостых райя[84]. Первое упоминание о них встречается в описании венгерских войн 1440-х годов, но, вероятно, этот род войска появился ранее. В 1453 году под стенами Константинополя стояло 20 000 азапов[85]. Кроме того, в состав авангарда и личную охрану султана входили невольники. Они служили исключительно в пешем строю.
С точки зрения эффективности конница ни в чем им не уступала. Иоанн VI Кантакузин (ум. 1383) говорил, что ей не было равных в том, чтобы устроить засаду, налететь на врага на большой скорости, резко развернуться при малейшей контратаке, затем снова атаковать. Подобные описания звучат достоверно, хоть и вторят описаниям античных авторов. Тем не менее на подготовку конницы требовалось много времени. Начавшись при Мураде I, ее трансформация была завершена во времена Баязида I. Разнородные отряды и соратники бея (нукеры; nöker) были заменены военной силой, обученной ведению осады и пригодной для участия в крупномасштабных сражениях. Кроме того, именно в это время появились два специализированных корпуса, создавшие репутацию османских воинов в последующие века: сипахи и янычары.
Сипахи представляли собой кавалерию из провинции. В обмен на налоговые отчисления они должны были вооружиться и в любой момент отправиться на войну. Янычары, в свою очередь, изначально служили в авангарде и сопровождали султана, однако в XV веке именно эти воины стали оперативным ядром пехоты. В битве на Косовом поле 1389 года их насчитывалось всего 2000, тогда как в середине XV века – около 5000. Участие янычар переломило ход нескольких сражений и позволило захватить ряд опорных пунктов. Использование этого рода войск стало частью любого военного плана, который, как правило, доводился до совершенства: османская полулегкая кавалерия стремилась заманить тяжелую кавалерию противника, направив ее на позиции янычар или под огонь артиллерийских орудий султана. Сильными сторонами корпуса были неизменная дисциплина и удивительная способность держать удар. В 1396 году при Никополе совместно с сипахами, затаившимися в засаде на вражеском поле, янычары выдержали натиск тяжелой кавалерии бургундских крестоносцев; в 1444 году под Варной они так рьяно защищали Мурада II, что захватили и убили венгерского монарха Владислава III Ягеллона.
Янычары – плод системного обучения. Предполагается, что первоначально они происходили из рабов, которых награждали либо пенсией (pencyek) – пятой частью добычи султана деньгами (25 асперов за пленника), либо натурой (один пленник из пяти). В XV веке (точная дата неизвестна) государство начало забирать всех пленных с неприятельской стороны в возрасте от десяти до семнадцати лет. Очутившихся далеко от родины юных рабов сначала на несколько лет отправляли на сельскохозяйственные работы. Их отдавали в семьи подальше от родных мест или «за море» – так на турецком называли путешествие в Анатолию, – где их знакомили с турецким языком, принципами ислама и ограничениями, связанными со службой. Затем они становились претендентами на роль государственных служащих (аджеми-огланы; acemi oğlan, «иностранные мальчики»). Их заставляли выполнять всевозможные работы, включая тяжелый физический труд. Будущие воины работали ремесленниками, чернорабочими, садовниками, гребли на галерах. Янычарам прививали боевой дух и обучали дисциплине. Между обязательными работами и религиозными занятиями они учились обращаться с оружием и посещали тренировки. Юноши вступали в корпус, состоящий из рот, каждой ротой янычар командовал ага (ağa).
Солдаты и офицеры использовали эффективные военные технологии и имели полный спектр вооружения: оружие ближнего боя (сабли, булавы, топоры, ножи и кинжалы), копья и луки – лучшие лучники могли стрелять более чем на 800 метров; оборонительные доспехи (кольчуга, шлем и щит); огнестрельное оружие, применявшееся в последние десятилетия XIV века. Артиллеристы, оружейники и бомбардиры вошли в военный состав с XV века. Тем не менее пехота не обладала достаточной мощью и выносливостью, чтобы взять укрепленные города – падение Бурсы в 1326 году было не столько результатом успешной осады, сколько следствием голода и разграбления ее окрестностей. Техника осады ощутимо улучшилась при Мураде I – об этом свидетельствует успешное взятие Серреса в 1383 году и Салоник в 1387-м. Во время осады Константинополя в 1394 году войска Баязида I возводили требюше и башни; во время осады 1422 года люди Мурада II для разрушения стен византийской столицы прорыли туннели.
Именно тогда османы начали использовать пушки. Наряду с артиллеристами, которые с 1390-х годов получали вознаграждение из дохода от тимаров, появились канониры, которые сражались за жалованье. Воины султана многому научились у венгров во время непростых битв 1440-х годов, во втором сражении на Косовом поле в 1448 году они переняли тактику гуситов, предполагавшую строительство укреплений из повозок (вагенбург), и осознали решающую роль артиллерии[86]. В состав войска вошли оружейные мастера: янычары мало-помалу начали использовать аркебузы, по генуэзской технологии переплавлялись большие бомбарды, – без помощи оружейных мастеров Мехмед II не смог бы взять мощные стены Константинополя.
Налоговые организации и благотворительность
В Средние века правители не испытывали ни малейшего интереса к устройству мировой экономики и постоянно страдали от нехватки денег в казне. Их беспокоило одно: вовремя платить войскам и слугам звонкой монетой. В обращении находилось столько денег (металлических или фиатных), сколько было необходимо. Проблемы возникали из-за рефинансирования и ликвидности монет из металла. Другими словами, невозможно было монетизировать полученные доходы так, чтобы перераспределить их среди имевших на них право. Поэтому для создания армии османы расширили уже существовавшую у великих Сельджукидов и их преемников систему налоговых отчислений. В завоеванных эмиратах и на Балканах на смену феоду, пожалованному за службу, пришел тимар – у историков нет единого мнения, есть ли преемственность между тимаром и византийской прóнией (пожалование в награду за службу права управления территорией и сбором с нее налогов) и исламской иктой (iqtâ͗; передача принадлежащей государству территории в исламских странах). О времени возникновения тимара также ведутся споры (во время правления Мурада I, возможно, при Орхане). Напомним, что под этим понятием подразумевалось право владения землей, предоставленное в обмен на государственную службу, непередаваемое по наследству и прекращающее свое действие, как только владелец переставал нести службу[87].