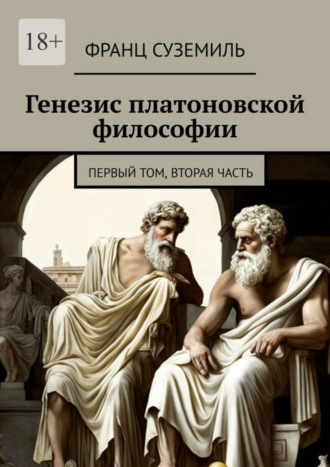
Полная версия
Генезис платоновской философии. Первый том, вторая часть
Но на этот момент следует лишь намекнуть; более точное разграничение философской любви от нефилософской, но морально допустимой, не входило в план. Поэтому более подробно рассматривается только первое, только процедура служителей Зевса. Однако эротик такого рода становится философским учителем, который сам обретает знания только через это самое обучение, через духовное взаимодействие с учеником, только осознает свои собственные мысли и убеждения, с.252E. f.
Более тесное посредничество между духовной и чувственной сторонами всего этого развития теперь, как уже говорилось, невозможно в рамках избранной мифической формы, которая так замечательно объединяет все с точки зрения единого личного отношения. Но если мы теперь уполномочены вывести философские отношения между учителем и учеником из узкого круга отношений только к одному любовнику, то для ответа на все соответствующие вопросы не хватает необходимых подсказок. Как, спросим мы прежде всего, сможет учитель философии разглядеть чисто духовную красоту, если она встретится ему в уродливом
Ведь все должно исходить из посредничества органов чувств? Ответ, однако, заключается в том, что философ, чтобы научиться любить даже чувственно прекрасное в подлинно философском духе, сначала нуждается в предварительном поучительном контакте с другими, p.250A., что для того, чтобы знать, как учить, он должен сначала сам научиться этому у других, а также посредством собственной рефлексии (χαι αυτοι μετερχονται), p.252 E., что он должен сначала сам быть любовником и учеником, чтобы потом быть в состоянии действовать как любовник и учитель. Это предполагает такую ступень развития, на которой он уже выходит за рамки простого эстетического наслаждения и нуждается в чувственном восприятии лишь как в последствии, когда его глаз уже настолько обострился для чисто духовной красоты, что он способен без сомнения распознать ее даже сквозь противоречивую физическую оболочку. Главный стимул, в котором он постоянно нуждается, он теперь находит скорее в духовных проявлениях жизни своей возлюбленной, которые оказывают оплодотворяющее воздействие на его собственное внутреннее существо; это теперь истинный ιμερος, который также выражается более духовно, он обязан этими глубокими мыслями, порожденными в нем его возлюбленной, и любит его за это еще больше, и, черпая их из своей собственной души, он также поучительно изливает их в душу своей возлюбленной, p.253A.
Эта сторона рассматривается теперь в третьем разделе под обозначением способа завоевания возлюбленной. В первом разделе была кратко изложена только та сторона чувственного сознания, которая направлена к идеалу; теперь же необходимо осмыслить и отдельные моменты развития этого процесса, описать не только гармонию, но и предшествующую борьбу между чувственным и идеальным сознанием, между чувственной и философской любовью в недрах самой индивидуальной философской души. С этой целью вышеупомянутое троичное деление душевной жизни становится плодотворным, и два коня души описываются более подробно, причем один из них аттестуется как честолюбивая часть души, другой же – как часть, склонная ко всем безграничным желаниям (υβρεως χαι αλαζονειας εταιρος), которые могут быть обузданы разумом с трудом и болью только при содействии другого коня. Эта оппозиция внутри субъекта соответствует оппозиции в следующем объекте: «возлюбленный соединяет в себе чувственную телесность и отражение небесной красоты». Если последняя хотела дать επιθυμια власть над всей душой, то сияющая чистота последней, в свою очередь, дала διανοια силу воспарить к созерцанию мира идей и тем самым также силу подчинить себе чувственные наклонности. Таким образом, этот первый параграф, с.253C.-254 E., все еще касается только души философского любовника и продолжает первый раздел всей второй части книги; «любовник еще не вступает в активное взаимодействие, а лишь косвенно стимулирует на расстоянии. Но борьба не единовременная, а постоянная, вначале даже усиливающаяся, пока, наконец, чувственное не подчиняется полностью духовному, и только с робостью и благоговением влюбленный осмеливается приблизиться к возлюбленной.55
Контраст между философской и чувственной любовью достиг здесь своего апогея, поэтому полемическая ретроспекция лисийского дискурса не может быть пропущена (ср. с. 231E. 233 C..56 Платон также остроумно переосмысливает любовь Зевса к Ганимеду из вульгарной поэзии как философскую любовь бога-философа к мальчику, как он это сделал ранее с Pteros.
Только теперь второй параграф, с.255A.– 256A., продолжает второй раздел, описывая взаимные отношения любви и контрлюбви. Только достигнув этой стадии, философ способен распространить свою эффективность на других и оттуда черпать новое вдохновение. Только теперь возлюбленный также становится активным, все отношения становятся взаимными, поскольку вливание мыслей учителя в его душу не является внешним стимулом, а лишь побуждает его к самостоятельному порождению мысли.
Следовательно, ответную любовь нужно описывать по тем же двум элементам, что и любовь: во-первых, по духовной близости, которая точно так же притягивает любящего к любимому, и, во-вторых, по чувственному элементу ιμερος, который, проникнув из него в душу любящего, переливается из нее обратно в его собственную душу. Таким образом, встречная любовь есть не что иное, как сама любовь, но в более слабой форме, т. е. менее осознанная и самостоятельная. Именно по этой причине внутри нее должна вестись та же борьба; незрелость молодого человека грозит новой опасностью. Он еще не знает, что сказать, и охотно отдается низменной похоти своей возлюбленной, хотя его лучшее «я» уже сопротивляется, p. 256 A., и тем более он нуждается в правильном воспитании и руководстве, чтобы укрепить себя против чувственности. В своем восхищении личностью учителя он путает преданность человеку с преданностью вещи. Задача любовника – направить его к этому и отсечь излишки личных привязанностей. Таким образом, его деятельность становится продуктивной и должна направляться законами философской мысли, которые он носит в себе57. Таким образом, осуществляется переход к правильному методу философского исследования и общения, т. е. к диалектике и риторике, и психологическое обоснование последнего завершается так, что первое связывается со вторым; сам метод уже не является делом мифа, а диалектической обработки во второй части всего произведения. Сам же миф находит свое завершение в третьем разделе, где он формируется в точку соединения двух основных разделов рассуждения в повторном обретении небесного блаженства после троекратной философско-эротической жизни на земле (ср. с.249А.), где опять-таки сравнением служит великий праздник Зевса, Олимпийские игры, в которых только троекратный победитель также достигал венка58.
Но отличие от всех других видов любви и, следовательно, от двух предыдущих речей должно быть завершено и здесь. Таким образом, здесь снова возникает средняя ступень нефилософского, но все же честолюбивого эротизма, который, однако, едва ли может быть свободен от всех незаконных чувственных примесей, ибо только в философской жизни развивается совершенное господство разума над чувственностью. Вот почему два коня описаны здесь как необузданные, ведь θυμος также вырождается, если не находится под постоянным контролем разума; тем не менее, этим душам также обещаны блаженные промежуточные состояния (связь с p.249A.). Таким образом, остается только безнравственная любовь. Если в философской любви присутствует истинное благоразумие, господство разума над желанием, то в чувственной любви оно добавляется извне, и по этой самой причине оно просто смертно и разбавлено, то есть лишено энтузиазма. Именно поэтому она возникает не из идеального стремления, а только из предосудительных, чувственных побуждений, и поэтому ослабляет всякий высший энтузиазм, так что здесь любящий принимает форму нелюбящего, так что все отношения становятся только более безнравственными от ее добавления. Это только внешнее размышление о внешней пользе и вреде, которое тщательно оберегает внешнюю репутацию и внешность, чтобы иметь возможность еще свободнее грешить втайне, которое высоко ценит деньги и поэтому стремится достичь чувственного удовольствия как можно дешевле, которое с ревнивой осторожностью держит подальше от возлюбленного все, что могло бы открыть ему глаза на недостойные поступки его возлюбленной, который равнодушен к его внешнему и моральному разорению и даже поощряет его, чтобы сделать его еще более покладистым, который становится неверным после пресыщения удовольствиями, и все другие черты, которые ораторы первых двух речей могут использовать в предполагаемой полемике для описания своего собственного поведения; которая, таким образом, в конце концов пробуждает в возлюбленном подобную подлость ума (ανελευθερια), которая, поскольку умеет избегать видимости, превозносится великим множеством как добродетель, но на самом деле привязывает ум к земному и чувственному, p. 256 E.f.
В последней молитве, р.257А. В., Сократ умоляет Эроса не лишать его зрения, то есть знания, и искусства любви, а, напротив, увеличить действенность последнего, то есть его рассудительности. Но пусть он призывает Лисия отказаться от таких святотатственных речей и, подобно своему брату Полемарху, обратиться к философии, чтобы его возлюбленный, как его в шутку называют, Федр, больше не колебался между двумя направлениями, а посвятил себя исключительно философской любви и ее продуктам, философским речам – снова аллюзия на связь между искусством слова, о котором идет речь во второй основной части диалога, и любовью в первой. Полемарх упоминается здесь, вероятно, для того, чтобы дать хотя бы ощутимое указание на надежду, что это желание может исполниться в Лисии, несмотря на его зрелый возраст и, следовательно, уже слишком решительно нефилософское направление, благодаря примеру и влиянию его ближайшего кровного родственника.
Переход ко второй части теперь не может быть простым из-за изменившейся формы изложения; диалектическое исследование теперь занимает место мифа, диалог – место непрерывных речей. Поэтому необходим промежуточный диалог.
VII Переход ко второй основной части диалога
Федр идет в своей надежде гораздо дальше, чем хотел бы Сократ, а именно: Лисий, возможно, вообще воздержится от написания речей, поскольку один государственный деятель недавно упрекнул его именно в этом. Мы уже знаем из «Менона и Горгия», p.519E.f., из примера Анита и Калликла, о презрении государственных деятелей к софистам, которое распространялось и на риторов и ораторов, воспитанных в их школе, независимо от того, писали ли последние безвкусные эпидейктические речи для упражнения или для чисто эстетического удовольствия, или судебные речи за деньги для использования другими, и мы также знаем из заключения Эвтидема, что, наоборот, ораторы ставили себя выше государственных деятелей, наконец, мы знаем, что имя софистов уже слишком опозорилось, чтобы ораторы не пожелали избежать его, тогда как их имя, как мы видим из этого отрывка, уже означало почти то же самое в устах государственных деятелей, и Платон также явно хочет поставить их вместе с софистами, как в отношении внутренней ценности их интеллектуальных продуктов, так и, в частности, в отношении приобретения денег, причиной которого они их делали. Но как он уже показал в «Меноне», что государственные деятели общего типа были детьми одного и того же ума, так он повторяет это и здесь, причисляя их к ораторам в отношении законов и песнопений, которые они провозглашали и публично записывали. Уже одно это доказывает, что они ни в коем случае не считают сочинение речей само по себе предосудительным, хотя и создают видимость этого; Но пример более древних государственных деятелей и законодателей, таких как Ликург, Солон и Дарий, которые приобрели заслуженную и прочную славу благодаря написанным ими законам, доказывает еще больше, а именно, что само по себе сочинение речей действительно не является бесславным, Ни говорить, ни писать, если это делается только в похвальном смысле, а когда это так, будет рассмотрено во второй части, и для этого не только Лисий, но и все возможные прозаики и поэты, стр. 258 D., то есть вся сфера общения разума посредством слова, устного или письменного, связанного и несвязанного, непрерывного и диалогического, независимо от того, обращено ли оно к одному или к нескольким (см. с. 261A. B.).
Однако и здесь уже условно обозначена связь второй основной части с первой. Оно двойное, как и отношение различных разделов второго сократовского дискурса друг к другу, и по той же причине, «поскольку в той же мере, в какой вторая часть диалектична, связь с мифической формой первой также оказывает влияние на ее характер. Миф, с одной стороны, является теоретической основой для последующих диалектических дискуссий, но, с другой стороны, он же является и последней основой для них, так что три речи первой части скорее используются явно как практические доказательства теории речи во второй, а именно: первая – как речь не должна быть, третья – как она должна быть, а вторая – как то, так и другое. Сам миф представляет философское воздействие разума на других посредством слова под образом того, как завоевывается возлюбленный1, и все три речи посвящены именно завоеванию его. Эта последняя связь выражается в утверждении Сократа, что он написал всю свою вторую речь ради Федра, то есть для его наставления, и действительно в твоем истинном орнаменте восторженного поэтического выражения, чтобы заставить его почувствовать трезвый, не истинно поэтический, а лишь метрически скованный ритм лисийской речи и соответствующие недостатки первой сократовской речи через контраст полной гармонии восторженного содержания и поднятой в соответствии с ним формы выражения, p.257. А., которая, по заверению самого Федра, с.257 В. С., удалось.59 Первая связь, однако, поскольку непрерывная связь с вышеупомянутым мифом невозможна, может быть реализована только путем вставки второго, меньшего мифа, мифа о Цикадах, в котором сходятся нити обоих основных разделов. Однако чрезвычайно тонким является то, как эта вставка передается в общей ситуации диалога.
Если последняя речь, судя по его собственным заверениям, держала Федра в постоянном напряжении, то естественно, особенно для человека столь высокого уровня, что он засыпает, как только разговор переходит к сухой философской дискуссии; к этому добавляется полуденная жара; по его «брошенным общим словам» p.258E. можно понять, как он борется со сном. Поэтому Сократ может только поставить его в новое напряжение подобной мифической речью, одновременно описывая уступку естественной потребности как инерцию мысли (p.259A.)60.
Федр, конечно, сам признает это, и его старое желание слушать и говорить тут же пробуждается вновь. Но характерна его уступка в том, что это почти единственное удовольствие, которое покупается без усилий и неудовольствия, тогда как последнее относится к телесным удовольствиям, которые по этой самой причине предосудительны, p.258E. Таким образом, сама эта уступка выражает ту же мягкость Федра, который ищет в самом слушании речи лишь приятное щекотание уха, предосудительное чувственное удовольствие, и успокаивает себя в непонятном восприятии чужих мыслей. В соответствии с вышесказанным, желание слышать и желание говорить теперь следует описать как внутреннюю сущность самого Эроса, и поэтому можно понять, почему они являются общими для Сократа и Фаэдра, p.228B.236E., но по этой самой причине, как и в случае с любовью, здесь также следует отличать ложное от истинного, которое связано с энергией самоактивного мышления. Маленький миф теперь самым тесным образом связан со всей этой ситуацией, прежде всего по своей основной идее, которая заключается в том, что он «символизирует огромную силу воздействия художественной деятельности и ее кульминации, философской беседы, на человеческий дух». Только теперь призыв ложных муз в начале первого сократовского дискурса предстает в полном свете, только теперь уравнение философского эротика с художником муз во втором, p.248D., предстает в полном свете, и толкование имен муз связано с этим последним дискурсом, даже по словам. Терпсихора отсылает к Стесихоре и хоровой лирике, Erato – даже к Эросу. Однако перед ними на первый план выходят две другие музы, которые по этой самой причине называются старшими: Урания, представительница небесных мыслей, божественных идей, насколько они могут быть постигнуты человеческим разумом, благодаря чему может быть помыслен υπερουρανιος τοπος, и Каллиопа, говорящая божественные и человеческие речи. Даже это последнее обозначение, вероятно, тесно связано с p.246A., где диалектическое и мифическое представление сопоставляются как божественное и человеческое.61 Из этих двух Муз, однако, Урания опять-таки является позднейшей, поскольку мысль, согласно вышесказанному, рождается только благодаря предшествующему духовному воздействию на нас других, которое передается именно через слово.
Таким образом, связь между ораторским искусством и любовью выражена наиболее ярко, и именно потому, что оба они находятся на службе у муз, то есть богинь искусства, а значит, и красоты, прекрасное вновь выступает в качестве глубинного фона, который также постоянно сопровождает ораторское искусство. Его пробуждает радость красоты, а именно слышать и говорить красоту, и красота формы неотделима от нее, но она только там истинно прекрасна, где соответствует содержанию; но только нравственная мысль прекрасна, и красота должна поэтому служить и истинной здесь, взаимное наставление должно быть целью всякой речи.
Во всех подобных этимологических играх, как, например, в случае с именами муз, есть в то же время что-то ироническое, и то же самое нельзя отрицать в описании цикад. На самом деле они являются представителями как философского красноречия, так и вульгарной грубости, точно так же как существуют и непривлекательные музы, из которых были взяты первые две речи предыдущего раздела. Философ может, подобно им, забыть о еде и питье, возвысившись над своей задачей просвещать себя и других разговорами; Как персонаж из плесени и реки, он полностью поглощен ими, и, как цикадам было дано жить одной лишь росой, так и он поднялся над физическими потребностями, насколько это позволительно смертным, и как цикады в конечном счете являются посланниками между людьми и Музами, так и философия – это связь между небом и землей, между бесконечным и конечным, как Эрос и павианы уже были описаны подобным образом. Но и Федр, как представитель афинян своего времени, жаждавших просвещения, которые, к сожалению, позволили себе предложить камни вместо хлеба, чтобы удовлетворить это стремление, только что снова показал, что он полностью поглощен речами, то есть здесь, однако, в чрезмерной болтливости, как Цикады в Песне.62 Поэтому зависит только от того, служат ли цикады истинным музам и из каких речей они черпают послание.
Искусство речи теперь, как уже отмечалось, отчасти устное, отчасти письменное. Первое является предметом первой, второе – второй части следующей второй основной части.
VIII. Природа истинного ораторского искусства
Что касается прежде всего этого, p.259E.– 274B., то способ рассмотрения здесь опять-таки косвенный. То есть обычные теоретические правила ораторского искусства, как они сложились в то время в целых учебниках (τεχναι ρητοριχαι) и отдельных эпизодических виршах, опровергаются по частям, но в то же время из них постепенно развиваются правильные точки зрения истинной риторики, на которые они указывают не в меньшей степени. Таким образом, весь этот раздел делится сначала на две главные части, так как он начинается с высшего принципа этой вульгарной риторики, уже изложенного родоначальником этих теоретиков (σοφοι p. 260 A.) Тисием, который впервые привел их правила в систему и зафиксировал их письменно (ср. p. 272 D. ff.), а после него, самым безапелляционным образом, его учеником Горгием, p.267 А., что ораторское искусство должно следовать вероятному, а не истинному. Это предложение, очевидно, имеет две стороны. С одной стороны, самому оратору не обязательно знать, что является истиной. Однако здесь достаточно одного примера, чтобы показать, насколько нелепым и пагубным может оказаться такое искусство, даже при самых лучших намерениях, которое, не зная, что полезно, хорошо и правильно, может сделать вероятным прямо противоположное этому и убедить в соответствующем ему действии (стр. 259Е. – 2601). Даже лаконик, то есть обычный здравый смысл (ср. Men. p.99D., p.72 выше), может увидеть, что красноречие, если оно не основано на собственном знании истины, то есть на философии, везде является не искусством, а просто бесхитростной операцией (ατεχνος τριβη), ср. Поэтому это можно считать истинным мнением и самих теоретиков, только так, что, с другой стороны, даже безвкусное знание без поддержки красноречия не может говорить убедительно, p. 260 D.E. cf. Gorg. p. 460 A.
Но если, во-вторых, оратор, рассматриваемый таким образом, все же действует на слушателей только в направлении вероятного, то теперь уже нельзя говорить о добром намерении, а только о видимости и обмане. Эта ложная цель риторики зафиксирована в первом разделе (с.261 A. по с.272 B.), и только второй выставляет это обсуждение в истинном свете, заявляя, что истинная цель – угодить Богу, а не просто достичь внешних преимуществ, проистекающих из благосклонности людей, как это делает обычная риторика, после того как предыдущие события были окончательно подведены к тому, что даже определенный обман невозможен без собственного знания того, что правильно, потому что то, что вероятно, подобно тому, что истинно.
Объектом ораторского искусства остаются, таким образом, даже согласно этому взгляду, правильные понятия, только не рассматриваемые метафизически, а в той мере, в какой они подпадают под человеческое познание, ибо цель этого искусства скорее субъективная, а именно внушение этих понятий в душу слушателя. Из первого определения вытекает только его общий характер, характер искусства, а из того, что душа составляет для него среднее звено, вытекает его специфическое отличие как душепопечительного искусства (ψυχαγωγια), p.261 A. После этого в нем снова разворачивается двоякая сторона, общая, согласно которой оно совпадает с искусством как таковым, то есть с учением о понятиях или диалектикой, с.261 A. – 266D., и особенная, психологическая.63
Но сама первая сторона опять-таки включает в себя двойной момент – чисто фактический, т.е. познание понятий в их взаимной связи, с.261 A. – 262 C., и методологический. Что касается первого, то, согласно взгляду на риторику как на искусство обмана, вершина такого искусства – заставить противоположное по желанию слушателя казаться истинным в отношении того же предмета; лежащая в основе диалектика, таким образом, является отрицательной, антилогической, как в элеатском Зеноне, красноречие, следовательно, антилогическое искусство. С другой стороны, легче всего обмануть, используя лишь слегка различающиеся предметы; задача состоит в том, чтобы «постепенно переходить к противоположностям», поэтому сходство и несходство – это «средние термины» обмана. Поэтому говорящий должен знать противоположности, а также опосредования в понятиях, положительные и отрицательные отношения между ними, чтобы, согласно предполагаемой пресуппозиции, иметь возможность безопасно обманывать других, но защищать себя от обмана, как это и есть на самом деле, однако, чтобы действовать против своих слушателей так же, как и против себя. Соответственно, эта негативная диалектика также предстает как необходимый предварительный этап перед позитивной, поиском антиномий для их решения, и Зенон, который, казалось бы, солидаризируется с теоретиками риторики, в то же время ставится над ними, причисляя себя к паламедам, так же как его высшая изобретательность, которую приписывает ему трагедия, ставится над слепой, интриганской хитростью Одиссея, с которым здесь сравнивается один из этих теоретиков, будь то Фрасимах или Феодор Византийский. Сочетание этих людей с гомеровскими героями, в силу которого они составляли такие руководства во время своих походов до Илиона, то есть во время своих странствий по всем большим городам Греции, в которых они пытались завоевать духов для себя, заставляет их выглядеть как word feehter, то есть антилогики или эристики более низкого сорта, чем Зенон.64
Кстати, это может быть и насмешкой над попытками софистов, из школы которых этот прием вышел, возвести свое искусство к Гомеру (Protag. p. 316 D., см. выше с.43); но тогда они также ставятся в такую же оппозицию к истинной риторике, как гомеровская поэзия в первой основной части – к истинному искусству муз.
Во-вторых, для того чтобы получить вышеупомянутое знание и суметь внедрить в сознание слушателей, будь то в соответствии с истинной риторикой или в соответствии с ложной риторикой, по крайней мере, с уверенностью тот взгляд на дело, к которому он стремится, необходим правильный метод. Понятия возникают здесь еще более конкретно не сами по себе, а в их отношении к понятию души65, согласно их субъективной стороне, которая естественно зависит от природы души, так что в этой методологической стороне уже лежит переход ко второму основному моменту, психологическому. Законы речи, таким образом, те же, что и законы мышления, т. е. концептуализации и разделения, для которых Платон придумал новое название диалектического метода, утверждая их принадлежность в этой самодостаточной форме. Но подобно тому, как мысль представляет собой хорошо организованную систему, так и речь должна быть таким же хорошо организованным организмом (ζωον), в котором каждый индивид занимает свое определенное и необходимое место.





