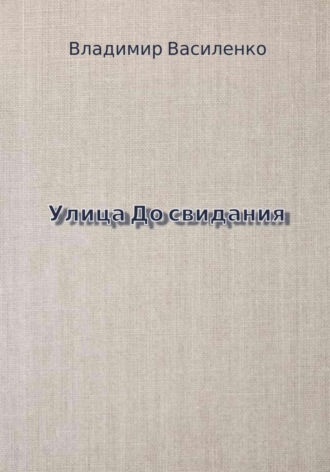
Полная версия
Улица До свидания
На обратной дороге в город Дине пришлось несладко. При этом она умудрялась делать вид, что все нормально. Я ободряюще ей улыбался, в душе провожая ее обратно – в ту, главную, отдельную от меня, жизнь, из которой я взял ее ненадолго.
Дома – голова, тошнота, лежка. Мутный взгляд. Немотивированный страх. Тупик в своем наконец естественном выражении. Мама наседкой… Слава богу, отец на ногах… Занимаясь мной, мама сводила меня туда, сюда. Пока я не оказался там, где должен был оказаться. Без мамы.
– Женщины были? – первое, что спросила Эмма Георгиевна, разглядывая меня.
– Две, – показал я на пальцах. – И две не были (те же пальцы, но кто теперь?).
– Ну-ну-ну, разогнался.
– Я так понимаю, вам интереснее то, чего не было.
– Нам интереснее то, чего не должно быть.
– А чего в моем возрасте не должно?
Снова внимательно на меня посмотрев, прошелестев одними губами: «Черт на скрипочке играет…» – Эмма Георгиевна углубилась в мои бумаги.
Восемь коек в палате для божьих людей – не сахар. Плюс днем не поваляешься. Хорошо – дождей мало, тепло, можно убивать жизнь на воздухе, в огороженном деревянным частоколом дворике с лавочками, столом и пыльной зеленью.
– В прошлое воскресенье в одном Минску три тыщи повоскресало…
– А Хрущёв дал ему пропуск. Чтоб он его носил…
– Дядя Жора, что лучше: ковать или работать?..
– Ковать.
– А почему?
– А вот ты иди и сам подумай…
Разговорчики по периметру. А тут ты с какими-то тупиками. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
В первый же день я обратил внимание на пожилого мужчину со всклокоченными волосами, лежавшего в нашей палате, отвернувшись к стенке. Придя с прогулки, мы обнаружили движение в палате.
– Так вот тихо, отвернулся, и всё… – разговор в коридоре.
– Новенький, пойдем поможешь.
Мы зашли с санитаром в помещение, целиком в кафеле. На полу лежал утренний наш сосед, голый. Санитар принялся обмывать его из шланга.
– А ты, вроде, нормальный, – одновременно укорил и сделал мне комплимент санитар. – От армии, что ли, косишь? Да ты не бойся, не скажу.
– Да нет… Подлечиться.
– Ну подлечись-подлечись… Смотри, шиз – он заразный. Мы тут все – того…
– А там что, лучше?
– Это ты верно сказал, – загоготал санитар. – Это ты в точку!
Тогда-то, теплым ясным сентябрем, и началось наше с Эммой Георгиевной путешествие, в котором я то возникал перед ней, как перед экскурсоводом, потерявшим было из виду и вновь с облегчением узревшим недисциплинированного экскурсанта, то от души пользовался отпущенным мне свободным временем туриста, стараясь успеть побольше осмотреть самостоятельно, поглядывая на часы.
Впрочем, экскурсии с Эммой Георгиевной были не часты и не затягивались. Эта, последняя, через четырнадцать без малого лет после первой – не дольше других. Теперь и она, перевалив через майские праздники, подходила к концу.
Гуляя в больничном дворике, наблюдая за тем, как, поныривая, проплывает над дощатым забором дворика женская головка, светящая на утреннем солнце медью волос, я думал: «Давние знакомые… Они ведь действительно существуют. Как странно…» – а сердце мое уже колотилось.
– Зоя Андреевна! Зоя Андреевна!
Женщина за забором остановилась. Через минуту мы сидели с моей незабвенною англичанкой за деревянным столиком, и я, сверкая глазами, отпугивал норовивших приблизиться сумасшедших: сумка, очевидно с передачей, стояла на скамеечке между нами.
– Ваш выпуск все до сих пор вспоминают. Знаешь, я после восьмого хотела забрать тебя в свой класс. Даже в девятом просила у Веры… Ивановны.
– А можно было? Забрать?
– Главное – аргументы. У Веры Ивановны четыре медалиста в классе. Ну вот. А у меня один… одна – аргумент? В десятом уже не просила. Мы в десятом как-то с ней разошлись…
– Как это: разошлись?
– Ну, так. Разошлись… Помнишь тот случай, стишок на доске? Там точно что-то было… Ты ведь не знаешь, что да кто, да? Ну, вот. Спрашиваю у Веры: выяснила? Да, говорит, сразу подмигнул тогда в классе, кто написал. Ну? Кто? Она: я дала слово не выдавать, все уладится, ничего такого… Разве же я кому-нибудь сказала бы, я же сама ее привела, чтоб не дай бог… И знаешь, так обидно. Ну, думаю, да-а-а… С тобой ничего серьезного?
– Да нет. Просто обследование… Для справки.
Она засобиралась.
– Пойду… Здесь моя племянница. В интернате. Кстати… – она запнулась. – Твоя одноклассница.
– А что с ней, серьезное что-то? (Нет, просто решила пожить с идиотами) Одноклассница? Кто?
– Милочка Берест.
– Она… ваша племянница? Не знал… Никто, по-моему, не…
– Да, я считаю, в школе нет родственников, а есть учителя и ученики.
– И… что с ней?
Я вспомнил Милу. Необычное лицо, часто даже красивое, но той красотой, в которой что-то вдруг останавливает. Большие, замиравшие на ваших, глаза. Иногда красноречивые. Это ведь они, единственные в классе, сказали мне тогда, что я под наблюдением. Предупредили.
– Так что с ней? – в третий раз спросил я.
Зоя Андреевна вздохнула. Поставила сумку на стол (я тут же опустил ее на скамейку, спрятав за нами).
– Сестра говорила, я сначала не верила. Милочке было двенадцать, когда она нашла ее дневник. Такие странности… такая жесткость, жестокость по отношению к себе… не приведи господь… Главное, внешне – никаких признаков, нормальная девочка. Потом – ничего… Потом, в десятом… полный садомазохизм: какой-то избранник, которому она, видите ли, опоздала открыться, и ей остается на все это смотреть, слушать, как все это происходит… ну, мы теперь люди взрослые… как он спит с другой у нее на глазах. Ну, ты представляешь: «спит на глазах»… Зайду после уроков, сестра на работе, музыка гремит! И все одно и то же: «Вновь, вновь, вновь, не умирай любовь, не умирай любовь!» Вперится в одну точку. Ужас… Потом… потом того хуже… говорить не хочется… После института – по наклонной. Порвала документы. Сначала шторы изрезала. Потом вены. Сестра на глазах старела… Теперь вот – здесь.
– Я не знал, что у вас сестра.
– Они жили в последнем доме на той же улице, что и школа. В пятнадцатом. А прямо под ними моя отличница Рита Воронова жила. С мамой. Я иногда к ним заходила. Такая хорошая, милая семья: мама и дочь… Мама, правда, часто была на дежурствах, по два дня… а то и по три… Милочка наша откуда-то все ее дежурства знала, даже наперед. Собираюсь к ним зайти – Мила мне: «Не ходи, Анна Сергеевна на дежурстве». Знаешь… Может не надо тебе говорить, может, это меня не красит, но… я иногда думала: заберу тебя в свой класс, и вы с моей Ритой подружитесь. Ты меня пугал своей резкостью. Настораживал. Она же – сама мягкость. Такая девочка у меня была. Прелесть… Извини, не знаю, зачем я это сказала… Я за тебя всегда болела. Понимаешь?
Она провела рукой по моим волосам.
– Ну, пойду к Миле. Сколько же это мы с тобой не виделись? Лет пятнадцать?..
Я оценил ее мужество. Она говорила со мной так, словно мы встретились на автобусной остановке, а не в психушке.
Что-то я не сказал… Что-то такое… Я рванул ей вслед, добежал до угла забора:
– Зоя Андреевна!
Испугался, что уже не услышит… Так и есть… Нет. Через минуту вернулась, видно далеко уже ушла. Подошла теперь к забору, взявшись рукой за треугольную верхушку доски. Я потянулся к ее уху. Внимательно разглядывая ее щеку, сказал:
– Не говорите ей… не говорите, что меня видели.
– Конечно, не скажу. Конечно.
Она притянула меня, вымочив мне лицо…
Кабинет Эммы Георгиевны располагался в нашем корпусе, на нашем же этаже. Но иногда она уходила в интернат, в белое здание, стоявшее за забором. Там, в отдельной, как правило незанятой, комнате она писала свою диссертацию. Там же предпочитала в эту последнюю неделю общаться со мной, самолично меня туда отводя. Назад я возвращался один. В первый мой поход туда, три дня назад, сразу после майских, интернат удивил меня своей внешней будничностью, типовым обликом, напоминавшим нашу школу, с тем же казенным крыльцом на широких ступенях, с той же двойною казенною дверью… Профиль заведения выдавало снаружи только одно: два из пятнадцати флагов республик, вывешенных к празднику, были нанизаны на флагштоки кверху ногами. Здесь это было обычным делом. С месяц назад, например, интернатские ездили на местное кладбище одного своего хоронить и вернулись с покойником. Могилу засыпали, но не заселили.
Впоследствии я спокойно относился к тому, с чем столкнулся впервые в вестибюле этого обычного снаружи здания – к безобидным в принципе идиотам с вывороченными лицами, а то и конечностями, перемещавшимися по холлу и этажам вперемешку с нормальными с виду жильцами, которым, главное, поменьше смотреть в глаза. Под Новый год здесь, в холле, устраивали танцы.
Эмма Георгиевна регулярно обсуждала со мной мою повесть, но что-то, видно, не совсем у нее ладилось – с повестью, а может быть, со мной. Думаю, ей хотелось использовать интересный материал в своей диссертации, но не в ущерб разрабатываемой системе. Приходилось ждать, что победит: интерес или система.
В день, когда я встретил Зою Андреевну, после обеда я в предпоследний раз посетил интернат. Мы с Эммой Георгиевной плавно приближались к финалу почти завершенной повести. Речь шла об отношениях прошлого с настоящим, о том, что прошлое утекает туда же, откуда мы черпаем будущее, поэтому помнить и знать – совершенно разные вещи. Эмма Георгиевна как раз собиралась ответить мне на все это, когда в большой комнате, соседней с кабинетом, загремело упавшее ведро.
– Я приберу, – услышал я совершенно нормальный голос из юности.
Было слышно, как там, в большой, завозили по полу тряпкой, топчась вблизи открытой к нам двери, но не показываясь в ней. Эмма Георгиевна поднялась. Заложив руки за спину, вышла туда.
– Ну, как ты, Мила, сегодня, – спросила она. – Получше?
– Получше.
– Милочка, у нас сегодня какой день? – послышался сладенький голосок пожилой санитарки.
– Сегодня вторник, – совершенно спокойно прозвучало в ответ.
– А завтра?
– Завтра среда.
Сидя на табуретке, глядя в открытую дверь, я все кивал, пока не поймал себя на этом занятии, на том, что делаю то же, что когда-то моя классная надо мной в своей прихожей. Сегодня был четверг.
– Беда… – войдя, вздохнув, Эмма Георгиевна затворила дверь в большую.
Возвращаясь из белого дома в свой желтый, боковым зрением я различил необычное движение в приинтернатовском сквере. Обернувшись, я увидел, как по двум дорожкам с разных сторон два санитара бегут к стоявшему как раз напротив недавно покинутого мной кабинета дереву, под веткой которого, довольно высоко, висит уже перестающий дергаться человек. Резко отвернувшись, я зашагал туда, куда шел, стараясь ни о чем не думать.
Назавтра с утра мы закончили с Эммой Георгиевной мою повесть. Жесткость концовки, не совпадавшая с основной тональностью, ее озадачила. «Насколько же больше озадачит нас всех реальность свободного чтения мыслей друг друга, ожидающая впереди», – подумал я. Именно этим кончалось повествование – примеркой героем на себя образов, рождающихся в сознании близкого человека, сравнением этой примерки со взаимодействием тел в любовном процессе. В конце разговора я, сказав глупость, почувствовав холодок со стороны моей целительницы, молча следил за тем, как мое наступившее равнодушие ко всему наполняется понемногу, как ванна водой, фразами Эммы Георгиевны (фраза, пауза), ставшей рядом со мной у окна:
– Вернешься домой – не забывай, о чем мы беседовали все это время. Дело не в лекарствах. По крайней мере, в твоем случае. Лекарства угнетают, давят. Нет таких, чтоб темную волну давили, а светлую нет. Рано или поздно, мы, вероятно, снова встретимся. Как скоро и надолго, зависит от тебя. Насмотрелся на сей раз? Ну вот. Понял меня?.. Ладно, иди мойся.
Она сама еще вчера предложила мне вымыться здесь напоследок, перед тем как переодеться в чистое, оставленное мамой. Мама придет после обеда. Интернатскую душевую для поочередно мывшегося здесь персонала обоего пола предварял небольшой предбанник. Оставив в нем чистое и грязное, я проник в холодное нутро выложенной кафелем душевой на три «соска». Первая стадия возвращения к нормальной жизни… Индивидуальное омовение… Комнатку заволокло паром.
Я был уже чист, как Аполлон, когда погас свет. Какое-то время я стоял под струями в темноте, причина которой, как я догадывался, серьезнее, чем чей-то шальной щелчок выключателя, расположенного в предбаннике – оттуда ведь хорошо слышно, что внутри кто-то моется. Света в предбаннике сквозь дверную щель также не наблюдалось. Вдруг показалось, что дверь отворили и затворили, но необычно тихо и быстро – двумя выверенными движениями… Через минуту-другую началось вкрадчивое вплетание водяного шелеста, идущего слева, в гулкий шум моего водопада. Понемногу общий шум стал двойным. Двойной силы. Вслушиваясь, я различил короткое слабое «м-м…» в звучании струй, которое больше не повторялось. Чужое тепло достигло моей темноты, заставив слух проникнуться возникшим слева разнообразием водяной дроби по разным частям тела, подставляемым струям. Вслед за тем от наплывающих на меня в темноте рук, тела, лица я передернулся, замерев, сжавшись под перекошенным водопадом… Оборотной стороной затянувшегося не-столкновения стала новая стадия звукового психоза: в волнах водяного шума слева я различил сдерживаемое дыхание, слишком неровное, чтобы быть галлюцинацией, но понемногу теряющееся в мощном звуке воды, который начал слабеть: я догадался, что – не вообще, а лишь для моих ушей, не выдерживающих напряжения. Ожидание притупилось. Я снова почувствовал теплый градус струи, бьющей по моим плечам. Убежденный в соседстве, но уже не ждущий столкновения в любой момент или неосторожного голоса, я пережидал темноту, наготу, воду… Не знаю, как долго. Прежде чем решиться. Помню свои руки, лежащие на вентилях… внезапно оставляющую меня смелость… счет: «Раз… два… три!»… быстрый пролет к предполагаемой двери (и впрямь бесшумной!)… лихорадочное нащупывание выключателя за косяком… обе клавиши сразу!.. Предбанник и душевая, смазанные тусклым светом, были пусты. Из среднего подсолнуха в душевой хлестало! Какой из них был мой?! Выключил ли я воду?!
Часа через два мама вывела меня за больничные ворота. Я словно впервые увидел церковь в поле.
Она не говорила, пока я подлечивался, что на этот раз отец не выкарабкался… Как тянула сама, так сама и управилась со всем последним. По крайней мере, ей теперь будет легче. Да и я на шее сидеть не собираюсь. Что-нибудь заработаю – на повести или вот… на этих записках. Почему нет? «Все образуется», – говорю я, смотрясь перед сном в зеркало в нашей ванной, чувствуя за своим лицом то, второе, нежнее и долговременнее моего.
Приятно после месячного отсутствия восстанавливать домашний ритуал отхода ко сну… Закрываю дверь в комнату. Гашу свет. Подхожу к окну с распахнутой уже почти в лето форточкой. Какое-то время рассматриваю небо в звездах с мрачной тучей на краю, оцениваю пустоту улицы, отмечаю черноту окон в домах напротив, подмигивающие телеэкраны в двух-трех полутемных оконных квадратах. Задергиваю штору. Сбрасываю в темноте тапки и, сев на постель с отброшенным одеялом, опускаюсь на свежее. Привлекая подушку, осторожно обнимая ее податливую прохладу, упускаю из виду прожитый день. Наконец говорю: «Как ты выросла».
Улица До свидания
Я – детище советского автомобилестроения (индустриальная Украина и ГАЗ отжалели нашему автозаводу молодых специалистов Георгия и Липу, и через год появился я). Бабушка зовет меня проще: «убоище».
– Убоище! Зла не хватает!
А что я такого сделал?
Я понимаю: у нас дома, «на севере», как она выражается, я как-то подкараулил ее с пистонным пистолетом, когда она несла борщ: «Бах! Бах!». Или зимой закрыл на балконе, откуда она молила через два стекла с этим плачущим лицом, которое я почему-то запомнил…
Но этот вот крик на весь дом! Я и сам забыл… Иди, иди, собачка… – поскорее спускаю пса с крыльца, испуганно озираясь, сажаю его на цепь… шерсть топорщится из-под ошейника.
– Муся, что?!
Это Лёля кричит вдогонку бабушке там, в доме. Я представляю, как бабушка в комнате, очки на носу, носок и иголка в руках, долго-долго сидит у стола за работой. Как в полной тишине приподнимается перед ней край темно-вишневой, с бахромой, скатерти и из-под бахромы выползает прямо на нее длинная зубастая морда… Я так и слышу стук когтей по полу в доме, пока пес, скользя, убегает под крик.
– Я тебе сейчас!.. – дядя Даня, слышавший ор в доме, еще не зная, что, ковыляет ко мне от калитки с поднятой палкой. – Как дам палкой!.. По спине…
Я быстро оцениваю эту его смесь гнева с бессилием, прорывающимся в смешок.
– Только попробуйте.
– А что ты мне сделаешь?.. Неужели ударишь?.. – ну, вот, сразу же за бессилием – спокойное удивление: испытание границ моей подлости.
– В Советском Союзе у всех права одинаковые.
– За каким ч-ч-чертом ты попер его в дом!.. – выскакивает на крыльцо тетя Леля, снова скрываясь внутри.
Вообще никакие они мне не тетя и не дядя. Тетя Леля – бабушкина сестра, дядя Даня – тети Лелин муж. Год назад я впервые увидел его таким… перекошенным… впервые услышал этот его бесконечный, неконтролируемый всхлип («Даня!»).
Буря стихает… Не считая Мухтара, мы остаемся во дворе вдвоем с Мариванной. Сидя на высокой, широкой крашеной лавке с удобной спинкой, стоящей под жасминовым кустом напротив крыльца, я болтаю ногами. Мариванна свое отболтала. Глядя на нее сбоку, я пытаюсь понять, как может пусть совсем старый, но не сумасшедший же человек надуть ночью в постель… но почему-то вместо того, чтобы наконец понять, вспоминаю всеми любимый рассказ о том, как Мариванна, раздевая меня маленького, стараясь успеть, всякий раз спрашивала:
– Скольки ж на тэбе штанив?
И я отвечал:
– Бога-ато…
До того как опозориться сегодня ночью (матрас сохнет на крыльце) моя боевая прабабка еще и устроила концерт. Высунувшись из комнаты в третьем часу, я слышал бабушкины и тети Лелины, наперебой, увещевания, долетавшие из Мариванниной комнатки (стоят, руки в боки, перед сидящей с узелком на кровати тощей старушенцией):
– Далеко ли собрались?! – тетя Леля, с издевкой.
– И куда ж Вы пойдете? Ночь на дворе! Мама!! – бабушка, зла не хватает.
– В Диёвку.
– Кому ж Вы там нужны!!! – хором.
– Найдутся (ударение на «а») добрые люди.
А они говорят: я «убоище»…
Мухтар развалился на булыжниках, какими вымощен весь двор от дома до летней кухни. Песчинки перекатываются под его носом. Ему-то что, это мне еще столько раз припомнят…
– И как же его зовут? – спрашивает Мариванна.
– Мухтар.
Я знаю ее следующее слово, еще бы мне не знать.
– Мушкет? – долго готовясь, выдает она поближе к «мухтару» изо всего того, что помнит.
– Мухтар, – я хмурюсь: имя моего пса кто-то не в состоянии выговорить.
– А чи далёко вы живете? – Мариванна улыбается. Всегда улыбается.
Отвечаю.
– И на какой же вы там улице?
– Пять этажей, – заставляя ее пропустить «А дом ваш большой?», отвечаю я.
– А вы на каком?
– На четвертом.
– Га-а!.. Высо-о-око…
Ничего это «га-а» не значит, через пару минут я снова слышу:
– А чи далёко вы живете?
Помнит она только то, что ей надо в Диёвку…
Завтракаем в беседке, увитой виноградом.
– Ну, и зачем ты повел его в дом? – тетя Леля уже что, остыла?..
– Хотел посмотреть, узнает ли он себя в зеркале.
– Ну что, узнал?.. – с этой своей насмешкой дядя Даня явно нарывается получить. Не от меня, конечно, от тети Лели, потому он тут же добавляет:
– Слыхала, что он сказал? В Советском Союзе, говорит, у всех права одинаковы. Это я палкой замахнулся.
– Даня, уже четвертый кусок хлеба… – Леля, точно: остыла…
– От черного не толстеют.
– Ты ж говорил: от белого!! – в два голоса взвиваются тетя Леля и бабушка, каждая – поперек себя шире.
Что – я?.. Я приехал и уехал, а Даня – вот он, тут, всегда.
– Ну, завел пса в дом… Зачем ты его там бросил?! – это снова ко мне.
– Я не бросал… Он уснул…
Даня, будь что будет, ржет уже в полный голос:
– Эта… сидит шьет!.. А тут морда… из-под стола!..
– Как погулять с собакой, так его не умолишь, а в хату – пожалуйста! – снова Леля (зря дядя Даня смеется, не по-товарищески, теперь я получу от тети Лели по полной). Ну, вот, традиционное:
– Что ни попросишь – не домолишься!
– Да?! А в среду кто в погреб лазил? А воду в душ кто вчера набирал?
Даня, запрокинув голову, ржет из последних сил…
– И вам, между прочим, шесть досок в заборе забил!.. А сколько?! У вас, что ли, гвозди прямо лезут?! И с Мухтаром гулял уже четыре раза. Спасибо… – недоев, я отодвигаю тарелку. – Не хочу больше…
– Ты растешь!.. Кожа да кости! – тетя Леля. – От людей стыдно!
***
Под Новый год вырубили свет. Во дворе сгорела подстанция. Дюжина громадных домов с наступлением темноты стояла с черными окнами, редко у кого мерцала свеча. Когда в двенадцатом часу вспыхнула люстра, это показалось чудом. Поскольку у нас электроплита, Новый год встречали салатами и «нарезкой».
Первые четыре дня жили в ожидании, по пословице: «Как Новый год встретишь…» В полдень пятого числа длинные гудки в трубке вдруг сменились короткими, и через тридцать минут, и через сорок – все то же: короткие. Не сговариваясь, мы с женой стали собираться. Накануне мать жаловалась на ноги, которые совсем отказывают, и сегодня ближе к полудню должна была продиктовать, что мне по дороге купить из продуктов… Стало ясно: там, на другом конце города, могло быть все что угодно – от неправильно лежащей на телефоне трубки до… Хотя неправильная трубка исключена: не позвони я, мать сама б набрала. Разве что… неисправность телефона, линии?.. Откроет и – все в порядке… Что в порядке? То, что чуть ползает? До магазина пока еще, слава богу… Там, на ступеньках, и грохнулась, зацепившись. Неделю назад. Какие у нее сосуды хрупкие: обе ноги синие (на следующий день, когда сидели у нее по случаю юбилея… восемьдесят лет…). Но так было всегда: любой ушиб, и – расплывающаяся широким фронтом синева… через две-три недели медленно сходит на нет… И после того, как грохнулась, с этими же синими ногами снова ковыляла в магазин. Все же было нормально… Я мог бы регулярно возить продукты, но считал, что пока она ползает – пусть ползает, сужение жизненного радиуса – приближение конца…
Я представил самое страшное. Послезавтра, на Рождество – похороны, на Старый Новый год – 9 дней…
– Знаешь, что мы сейчас увидим в квартире? – перебил я жену, что-то мне рассказывавшую, пытавшуюся меня хоть чем-то отвлечь. – Мамка сидит на полу у стола, трубка снята, она не смогла дотянуться. Вот только в каком виде на полу? Самое лучшее – если проблемы с ногами.
– Может, ничего страшного…
– Наша спокойная жизнь кончилась, – убежденно сказал я. – Еще эта цепочка…
На лестничной площадке у нашей двери стояла женщина.
– Вы сюда? – спросила она, когда я уже поворачивал ключ в замке.
Дверь была на цепочке. Мать лежала в одежде на полу прямо под дверью и через цепочку глядела на меня снизу вверх спокойно и не вполне осмысленно.
– Мама, ты меня слышишь? – в последнее время она была туга на ухо.
– Да.
– Ты можешь палкой поддеть цепочку?
– Я принесла пенсию.
– У меня нет палки.
– Я – сын, давайте получу за нее.
– Передай ей зонтик, – дождь в январе, глобальное потепление.
– Возьми зонтик, зонтиком попробуй поддеть.
– Она всегда дает мне двадцать рублей, а я ей ее сумму, видите, тут круглая сумма без двадцати рублей.
– Мама, я получу пенсию.
– Липа Михайловна, пенсию сыну отдать?
– Просуньте… Или сыну отдайте… – она неуверенно, как сомневаясь, смотрит на меня, и я снова ловлю себя на том, что с мозгами у нее не все в порядке.
Пока мать боролась с цепочкой за закрытой дверью, я расписался в ведомости ее подписью… освоил еще в школе, и вот… пригодилось… и отпустил почтарку.
– Ну, что? – с надеждой отпирая дверь, я снова наткнулся на цепочку.
– Не получается.
Долго уговаривал ее отползти. Она плохо слышала и еще хуже отползала: где была, там и осталась. Зачем ей отползать? – наконец дошло до меня, у меня ведь с собой инструмент, я ведь еще дома решил в любом случае перетянуть телефонный провод. Просунув одну губу плоскогубцев в кольцо, провернув их на себя и разогнув кольцо цепи, державшей дверь, я с облегчением шагнул внутрь. Войдя, закрыв дверь, мы с женой какое-то время ходили из коридора в комнаты и обратно, что-то ставили, раздевались, что-то развешивали…
– Я один ее не подниму.
– Я тоже.
Придя наконец в себя, вспомнив, на что все это похоже (на передвижку мебели по дому), мы принесли в коридор из дальней комнаты половик, приподняв с двух сторон под мышки вскрикнувшую мать, усадили ее на край половика и потащили в четыре руки эти «сани» по полу. Мать, пытаясь обернуться, изобразила подобие улыбки, и у меня наконец отлегло от сердца: пронесло!.. В комнате, подвезя ее к стулу, не обращая внимания на ее стоны, вдвоем с двух сторон приподняли и усадили на стул. Тяжело дыша, я опустился на пуфик и поднял на нее глаза… Сквозь застарелую, застывшую в морщинах боль, сквозь слепок с десятилетий, полных тягот и бед, и нужды, вдруг пробилась изначальная красота, какую я знал по фотографиям, послевоенным, с зубчиками, шесть на девять: меня на мгновенье обдало этой красотой… Когда-то моя мать была красавицей – впервые эта истина дошла до меня во всей полноте. Здесь, сейчас. То, что прежде было вопросом (ну, и куда все это делось?), стало утверждением, пусть и не выраженным точно, но маячившим где-то рядом со словами «потускневшее золото»…









