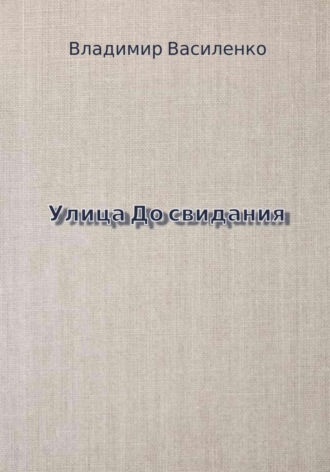
Полная версия
Улица До свидания
Я, медленно переваливаясь через фразы, поведал ей об утреннем происшествии в классе. О реакции англичанки. О сценке с приходом классной.
Слушая, она лежала, закинув руку за голову, серьезная, мучающая меня теперь тем, что я мог ее подозревать. Наконец снова повернула ко мне лицо:
– Что ты обо всем этом думаешь?
– Что у меня никого нет, кроме тебя. Ты уже запомнила свое имя?
– Ты его больше не произносишь…
– Рита… Рита… Кто мог так описать нашу ситуацию?.. Рита…
Мы разом вздрогнули от рубанувшей сквозь стены музыки, тут же вошедшей в берега терпимой громкости, но и в этих берегах лившейся, словно в нашей с Марго комнате. Все та же песня, захлестнувшая осенью все «веранды». «Как виденье, неуловима!..» Мне вспомнилось звуковое вмешательство в разговор с классной в ее квартире…
– Какая разница… – сказала Марго.
– Как это «какая разница»? За нами…
– …Я хочу только того, что перед нами, а не за нами… А ты?..
– Я тебя никому не отдам…
– Поклянись. Я знаю, это нехорошо – клясться, бросаться словами…
– Клянусь, – с легким сердцем сказал я…
Возвращаясь домой из школы в одиннадцатом часу вечера, я думал больше не о предстоящих разборах полетов с матерью, а о другом. Вернее, не думал, просто старался не расплескать в себе это другое – эту легкость в душе и теле, наводившую на подозрение, что чего-то мне не хватает, какой-то обыкновенной, привычной тяжести… И все же это понемногу сменилось другим… Я наконец представил, что сейчас будет дома, на полушепоте, чтоб не потревожить отца, с тихой истерикой, с быстрой, сбивчивой речью, придыханием, цеплянием за руки и выкатыванием глаз… Сбитые этой сценой, мысли мои изменились… Только что я был хозяином своей судьбы, весь мир был нетверд, принадлежал мне, вытекал из той легкости, что у меня на душе. И вот уже – ни души, ни меня, одна только легкость… И в ней – подозрение, что нетверд я сам, что меня ведут, меня хотят сказать, выразить, я – чья-то мысль. Со вчерашнего дня. «Сегодня вторник, завтра среда, сегодня нет…» Оно же так и есть, так и вышло… Вчера, во вторник, – ничего, точно по тексту: «сегодня нет». Все мои мысли и действия были заранее вычислены, заложены в дурацкую считалку. Вчера я полагал, что проверяю, в то время как было ясно сказано: «сегодня нет». Я действовал точно по плану, предполагавшему, что я займусь этой проверкой. «Сегодня нет». Это было насмешкой. «Послезавтра да». Это было приказом. Если так – есть еще сегодня, «среда», предоставленная мне этим же планом – «среда», о которой ничего не сказано, в которой возможно все – и это незапланированное наше с Марго свидание, и мое возвращение из школы близко к полуночи, и… и… и разрушение всего плана. Он сам позволял мне себя разрушить. План. План, следую я ему или разрушаю его, – все равно осуществлявшийся!.. Но рушить – рушить вовремя, прямо сейчас! Пока еще – сегодня, пока «среда»!..
В подъезде было темно. Взлетев на второй этаж, я остановился. Сердце сдавило – то ли предчувствием, то ли и вправду… Я совсем потерял себя в этой лестничной темноте… Но вот внизу, оживая, заскрипела дверь подъезда, и я нажал кнопку звонка.
В домашнем платье не то в халате, классная, впустив меня, молча закрыла за мною дверь. Третье за эти дни стаскивание мной ботинок в этой прихожей. По освещенной пустоте я проник в комнату. Она ждала у окна, отвернувшись. Обернулась, задернув шторку.
– Мы вчера не договорили, но… ты уверен, что сейчас подходящее время?.. Что случилось?
– Только то, что и должно было.
– Что именно?
– Всё. «Сегодня нет, послезавтра да».
– Не понимаю.
– Вы не понимаете, я не понимаю, он не понимает, она не понимает…
Вдруг поймав себя на том, что пытаюсь представить, во что еще она одета, я растерялся – не за что было зацепиться…
– Вы объяснились… Выяснилось: это не она… – догадалась классная. – А если не она… то, согласно твоей теории… Но это же глупо…
– Вы специально преувеличили. Это ваши слова: «То, что начнется вокруг нее!..»
– Ну да. Потом затащила тебя к себе. Убедила, что это она. Ты запуган, я спокойно дорабатываю до выпуска. Так?..
– Не всё, не всё…
– Ну-ну, интересно.
– Вы ревнуете. Вы страшно ревнуете. Зачем Зоя Андреевна привела вас в класс? Зачем вы устроили этот допрос? Вам нужна кампания против меня.
– Для чего?!
– Чтобы мне некуда было деться. Чтоб я оказался здесь. В мышеловке.
– Погоди, ты дрожишь. Давай я заварю мяты.
– Идите вы с вашей мятой… – я уселся на диван.
– Как же ты себя измучил… – она села рядом.
– …Мой маленький, – подхватил я.
– Я тебе клянусь – и в мыслях!.. Я клянусь тебе!
– И я, и я. Вы клянетесь. Я клянусь. Он клянется. Она клянется. Все клянутся.
– Ну… Хочешь так думать… Только… Ладно. Всё так. Да… Всё, как ты сказал… Не говори никому больше. Я постараюсь замять.
Я с подозрением посмотрел на нее. С подозрением: с гордостью за себя, с опустошенностью победителя, но и – с неудовлетворенностью. Хотя только одним она меня и побила – легкостью, с которой сдалась.
– Вы понимаете, кто она для меня?
– Да, понимаю.
– Что я никогда ни на кого ее не променяю? Что у нас – серьезнее не бывает?
– Да. Уже поздно… – глаза ее ускользали от моих.
– Я, наверное, сам виноват… С этими «тупиками»… В прихожей тогда…
Сидя на диване, я наконец отходил, радуясь безопасности, полной, наконец, нашей с Марго защищенности. Видимо, от переполнения долгожданным покоем я опустил руку на руку классной, лежавшую на диване. Действительность, успокаивая, что ненадолго, ускользала от меня, в какой-то момент это ей удалось, но я тут же очнулся, поднимая голову с колен классной. Странно это все-таки называют: «лежать на коленях».
– Может быть, тебе еще посидеть? – спросила классная. – Посиди, – она кивнула, уговаривая.
Мне стало жаль ее. В самом деле, и тридцати еще нет, живет одна… Дома мать с ума сходит. Как это мелко в сравнении со всем случившимся со мной, с нами, с Марго – то, чем придется завершать этот день…
– Который час?.. Вера… Ивановна…
– Двенадцать. Без двух. Дома знают?.. Хотя, что, собственно, они… Подожди, я оденусь, тебя провожу.
– Не выдумывайте. Тут два шага.
В прихожей я обернулся:
– А знаете…
Она стояла, опустив глаза, словно что-то вычисляя. Предупредительно подалась ко мне.
– Вы лучше всех.
– Что?.. Ну, иди, иди, – спохватилась она.
От светлой прихожей, оставшейся теперь за дверью, я опустил глаза в темноту подъезда, внизу у окна различив фигуру.
– Только не говори, что ты ходил к другу, – стараясь предупредить любые мои слова, поспешила сказать Марго. – Я знаю, кто здесь живет… Я хотела уйти, но что-то с ногами.
Слова, негромко звучавшие в замкнутой тишине, казалось, не исчезали. Она протянула мне мой забытый у нее портфель.
– Вот, выбежала за тобой. Не стала окликать, поздно. Думала, догоню.
Я осторожно повел ее вниз ступеньками, боясь даже скоситься в ее сторону. Этой же, прожившей вместе целую жизнь парой мы оказались на улице. И пока мы шли безжизненным темным кварталом, мне все казалось, что еще немного, и мы вот так – обнимемся покрепче и полетим, сквозь жизнь, куда-то в другие края…
Не вполне понимая, куда мне теперь в общем смысле, я повернул ключ в замке нашей двери.
На буфете в прихожей валялось пол-листа оборванной, видимо в суете, бумаги: «Я повезла папу в больницу. Возьми что-нибудь в холодильнике».
Никуда не спеша, я глотаю холодную сосиску… Запиваю кефиром… Разглядываю натюрморт на кухонном столе… Ощупываю голову. Небольшая… Небольшая… Там, внутри всё… Небольшая… Совсем…
Сон-не сон… Что-то очень хорошее вместо сна, какая-то полуявь. Больше атмосфера, чем действие. Проулыбался всю ночь (?). Под утро – лишь прояснения с какими-то нашими с Марго авансами друг другу, наподобие: обедаем с нею, «трусы сними» – говорю я, она это делает, оставаясь в платье, обедаем дальше…
«Но взятку получай свою сполна,
ценой большой оплачена она», –
строки, с которыми я проснулся…
Вероятность и время – в обратной пропорции. В гениальном, непонятно как сделанном – уплотнение вероятности. Что заставляет героев Шекспира произносить свои фразы? Что делает творца не вполне осознающим, что он творит? Чья это работа? Что это значит? Отстранение сознания… Ближе всего к себе там, где от себя отойдешь. Потом надо вернуться…
На следующий день в раздевалку за мной после уроков вошла классная. В раздевалке оставались висеть два пальто, да Конопелька натягивал третье, отвернувшись. Потом он еще натягивал ранец на пальто, так что классная практически спокойно передала мне записку и исчезла. Потом исчез Конопелька. Я опустился, опираясь спиной о сетку, на скамейку и развернул листок – глаза зацепили что-то важное, но что – выскользнуло, как рыба из рук в воде. Содержание: «Пожалуйста, прости за неуместное и неумное с моей стороны. Поверь, я способна взять себя в руки настолько чтобы забыть все, и очень тебя прошу сделать то же самое – выбросить все это из головы как нелепый эпизод. Прошу тебя: будь осторожен. Предельно осторожен. С поднявшим вопрос все улажено. Пожалуйста, повежливей с ним». Обтекаемость, обдуманность каждого слова. Ну да, разве можно быть во мне уверенной… «Поднявшим вопрос…» О Зое Андреевне – «поднявший вопрос»…
Ну, вот и все. Вопроса больше нет. Не существует. Предельно осторожным быть не надо. Чего я сижу?.. Кто-то во мне отвечает: тянешь время, чтобы все ушли, особенно кое-кто, отправились по домам, представляешь, как они, и кое-кто тоже, это делают – вот и сидишь.
Два последних пальто – это чьи? Ну да, одно мое, другое Маккартни, «души класса». Кому-то понадобилась «душа»…
Если идешь не туда, то чем медленнее – тем лучше.
Чего хотят художник, композитор, танцор, актер, архитектор? Зачем они делают то, что делают? Не почему (отчего), а зачем (для чего)? Какова их цель? Увидеть мир не таким. Снять с него очередную неопределенность с помощью какого-то нового органа чувств. Обнаружить в себе этот орган. Может быть, установить их единство: каков новый орган, таков на самом деле и мир. Но есть способ увидеть мир не таким, не связанный с противостоянием мира тебе. Если бы у нас была возможность влезть в голову другого человека, то то же самое, что мы видим, слышим и знаем, сразу же поменяло бы оттенки, тональность, значение. Открытость сознания, восприятия, памяти – вот что движет писателем. В этом смысле все мы – писатели. Наши собственные фантазии, сочинительство – реальный опыт других людей. То, о чем мы мечтаем, происходит. Не с нами. А когда оно вдруг возникает в нашей реальной жизни, мы теряем себя настолько, что называем это «любовь», «счастье».
Нет более разного взгляда на мир, чем мужской взгляд и женский, более разного искомого ими нового мира, нового органа чувств. В попытке обменять себя друг на друга они меняют себя на новых мужчин и женщин, беспомощных, крохотных, но глазом не моргнешь, несколько лет – и уже озабоченных тем же, чем их предшественники. И все же настоящий обмен состоится. Весь наш опыт, все наши попытки подсказывают, куда идти. Мужчина и женщина начнут жить друг в друге, как человек в мире и мир в человеке. Перестать быть мужчиной и женщиной – конечная цель любви…
– Тебе надо это где-нибудь использовать, – отозвалась наконец Эмма Георгиевна. – Видишь ли, то, что ты излагаешь – это не повесть, как ты ее называешь. Мы дошли до середины, а действия почти нет.
– Не повесть. А что?
– Просто мысли.
– Просто?
– Да-да. Просто. Они тем и хороши, что «просто». Но мысли одно, а жизнь другое. Философия и литература, понимаешь?
– Что «философия и литература»?
– Ну, представь себе Гегеля, объясняющегося притчами. Для чего бы он стал это делать?
– А для чего он делал?
– Так, стоп. Начало «тупика»! Стараешься не пропускать именно начало. Останавливаешься в начале, сразу. Так?
– Так.
– Никуда не идешь. Просто стоишь. Ждешь. Да?..
– Да.
– Ход мысли меняется сам… – обычными своими приемами она понемногу вернула меня на землю… – Ты здесь уже месяц. Вот-вот домой. Дальше – сам. Пожалуйста, пока ты еще здесь, пока я рядом, потренируйся, последи за собой… Из твоих текстов выйдет толк, я уверена. Только с чем ты станешь работать: с улицами-проспектами или с тупиками – вот в чем вопрос.
– Я это уже однажды слышал.
– Море. Небо. Где в них тупики? Так и душа.
– Вы же не хотите сказать, что верите в бога.
– А это здесь ни при чем. Понимаешь?
– Понимаю. Нет, правда, понимаю.
– Вот ты сейчас понял. Был «тупик»?
– Нет.
– Понимаешь? И это?
– Да. Понимаю.
– Все образуется?
– Да. Эмма Георгиевна.
Приближался Новый год. В один из последних дней перед каникулами я ощутил ту пустоту обновления, в какой, может быть, главное – подозрение, что то же самое происходит сейчас и с другими. Я словно перестал видеть стены, окружавшие меня в моем каменном мешке, и увидел проспект. На уроках все получалось. Я больше не желал знать тупиков, я почувствовал наконец то, что, очевидно, изо дня в день чувствовали другие – беспроблемность. Здоровый оптимизм, казалось, уже не покинет меня. Это было замечено. На переменке я впервые за эти дни поймал улыбку в моем присутствии Веры Ивановны, отвернувшейся к окну, не учтя его определенных зеркальных свойств. Все забывается, успокаивается, у всего есть предел, мертвая точка. Вот и я успокоился. И еще кое-кто.
Марго удивленно подняла глаза на предлагающего ей пальто кавалера. Первые за две недели ее глаза. Я чуть его удержал… Зажмурившись, я ожидал, когда она, войдя в рукава, обернется, увидит такого меня, улыбнется невольно… Придя в себя, я ее не обнаружил.
Догнал… По свежему снегу мы скрипим в такт по пути к ее дому. Она с интересом поглядывает на меня.
– Как там Анна Сергеевна? – начинаю я, валяя дурака (о ее матери мы практически никогда не говорили).
И вдруг в ее насмешливо-строгих глазах я читаю: «Хочешь заняться Анной Сергеевной?» Отчего-то это меня ободряет. Вроде как мне ответили адекватно. Мы разом прыснули.
– Ты будешь всегда со мной, – сказала она. – Что бы ни случилось, где бы ты ни оказался, когда бы вдруг ни подумал, не осталась ли я без тебя, – не осталась. Главное теперь все не испортить. Я понимаю, будет выпускной, и в школе еще столько… Но, может быть, ты постараешься как можно реже попадаться мне на глаза?
Она пошла дальше. Я пошел следом не оттого, что так было надо, а оттого, что не мог остаться.
– Рита… Р-рита… Рита… Что ты делаешь…
Сейчас она обернется и скажет: «Запоминаю свое имя».
Это был самый лаконичный Новый год в моей жизни: «Мама заменилась на дежурстве. Приходи». На дежурстве. Мама заменилась. Приходи. Мама на дежурстве. Приходи. Мама. Заменилась…
Как передать цепочкою слов доступное только целиком, сразу? Как дать увидеть своими глазами, предоставить свои мозги?.. Пытаясь сформулировать для себя хоть какие-то оправдания, подобрать слова для произошедшего, я ловил себя на том, что и сам начинаю хихикать. Не было таких слов, которым можно было поверить. Не было фраз, за которыми реально бы встало случившееся. Можно было бы только дать взглянуть. Мой час, проведенный ночью у классной, был невыразим словами. Оправданием могла быть лишь реальность, сохраненная в моей голове, – вся последовательность моих ощущений, мыслей и действий в те дни. Вставить кассету с этой реальностью в голову Марго – как?! Я понимал: никак. И понимал еще, что в будущем подобные вещи станут происходить, отчего делалось только горше. «Ему невозможно поверить». Когда-нибудь не поверят, что такое было возможным. Что мир стоял на лжи и неверии, будучи как никогда прекрасным (что если мир будущий потеряет главную свою тайну, погрязнув в пресном взаимодействии открытых друг другу, как на ладони, умов?)…
Евсевичу не разрешили нести на плече первоклассницу с колокольчиком. Задумано было именно так, но когда он перед линейкой стал ее на себя усаживать, примеряясь, и завуч и классная рванули с двух сторон и отобрали малышку – до того все выглядело странным. Решено было просто провести звонящую девочку по квадрату. Доверили это Маккартни. Теперь он стоял впереди, в первом ряду, держа ее за руку и ожидая. Начинал линейку директор. После него – все три классные.
– …И, ребята, главное не в том, чтобы вы помнили, что селезень – не млекопитающее, хотя это тоже важно, – улыбнулась, но как-то испуганно молодая жизнерадостная Екатерина Валерьевна, рыженькая Катенька, которую «ребята» за глаза звали Мутацией. – Главное, чтобы вы помнили, кто вы такие, чтобы несли по жизни все лучшее, чему вас научила школа. Да, у вас есть родители. Скоро появятся друзья-студенты, товарищи по работе. Потом – свои семьи. И вы когда-нибудь приведете в школу своих детей…
Речь Зои Андреевны я не помню. Мне было достаточно ее хрипловатого голоса. Всегда нравился. Всегда был честным. Прямолинейная во всем, и в своих заблуждениях тоже, Зоя Андреевна никогда не лгала. А попыталась бы – голос не дал бы. По левую руку от нас стояли ее воспитанники, сквозь головы я видел по диагонали «сессун».
Вера Ивановна, там, на ступеньках, выступила вперед, и какая-то сила потянула вперед и меня. Не обращая внимание на шиканье, я протолкался в первый ряд, хорошо теперь видя лицо Марго в профиль.
– Дорогие дети… – классная замолчала. Завуч с директором задвигались. – Как это сегодня ни странно звучит, вы и сегодня – дети. И всегда для нас, ваших учителей, будете детьми. Папы с мамами, как сказала Екатерина Валерьевна, любят вас больше всех. А потом – мы, учителя. Любим вас.
Я не мог оторваться от этого зрелища – от Марго, вперившей взор в мою классную, ободряюще улыбнувшуюся в ее сторону (я это видел!), продолжившую:
– Время, проведенное в стенах школы, надолго определило вашу дальнейшую жизнь. Для кого-то из вас, может быть, навсегда.
И вдруг Марго медленно повела глазами вправо, в мою сторону. Я отпрянул, толкая и принимая толчки, пробрался к заднему ряду, выбрался из строя и, не оборачиваясь, пошел через дорогу к домам.
Потом были экзамены. В день выпускного я болел. Так что, как вручали медали Маккартни, Конопельке и еще трем ученицам, не видел. Назавтра звонила Вера Ивановна, интересовалась здоровьем. Подолгу молчали в трубку. Наконец она решилась:
– Я видела, ты ушел с последнего звонка… И на экзаменах… Что случилось? Вы поссорились? Рита едва не завалила мой предмет, хорошо что…
Я положил трубку…
Психушка ждала меня через год. Началось с допущений – с неожиданных интересных предложений, нашептываемых мне невесть каким весельчаком. Я мог спросить себя посреди лекции, что будет, если сейчас встать, подойти на «истории КПСС» к старому вояке с хорошо поставленной дикцией, прохаживавшемуся между рядами, и потрепать его по щеке. Кулаком: «У-у-у…»… Приобнять дочку декана, преподававшую нам вышку… Подуть в автобусе на остатки волос стоящего впереди пассажира, заботливо их разгладить. Все люди ведь – братья, все – одно и то же, все – близкие родственники. И огрызаются друг на друга только оттого, что забыли, что все – одна семья. Стоит объяснить, объясниться, и уже не покажется странной попытка выразить родственное чувство. Или другое, глубже родственного – ударить, не испытывая никакой враждебности, просто расшатывая ситуацию, обличая ложную прочность конвейера событий. Поднимется шум! Припишут, бог знает что, погонят из института… А ты всего лишь хотел изменить ход событий, нарушить порядок вещей, входя в контакт со скулой так называемого владеющего ситуацией – твоей, своей, одногруппников. Почему все идет, как заведено? Долго ли оно так будет идти? И чего ждать? Никто не спрашивает. Неужели никому из моих сокурсников никогда не хотелось этого – приложиться, легко, негрубо, к какой-нибудь из вещавших перед нами по полтора часа физиономий?.. Перевести общение на язык рыб. Животных. Необъяснимости… Это все дрянь, я согласен. Я знал: это гадость… Но как еще соскочить с подножки чего-то, мчащегося куда-то? Как привлечь внимание к себе мучающейся без меня бессловесной, невидящей бездны? Я должен быть там, не здесь. И дело не в том, хочу я того или нет. Родителей ведь не спросишь: когда я рожусь? Есть ли я? Был ли? Все происходящее вокруг начинало казаться фарсом, притянутым за уши следствием не имевшей место причины, аудитория – безосновательно возведенным вокруг меня склепом, препод – ангелом, время – игрушкой, которую можно потрогать.
Впрочем, наружу все это не выходило, бродя в моем испытывавшем себя на прочность мозгу. Наяву я следовал принятому в обществе регламенту. Преподаватели представить себе не могли, насколько были близки к неприятностям, имея такого студента. Завернутым никто на курсе меня не считал. Напротив, я был одним из наиболее нормальных учащихся в массе скрытых маргиналов, жителей подводного мира «развито́го социализма».
В конце первых летних каникул мы отправились с дочкой декана пожить недельку в палатке в лесу. Нет, это не бред. Скрытая тяга к любви «материнского» типа реализовалась у меня в отношениях, к концу первого курса возникших с преподавательницей вышки, которую я все-таки приобнял. Правда, не на лекции, а в темноте во время прогулки.
– Можно, я угощу вас сочником? – спросила она теплым майским вечером, почти ночью, когда мы возвращались с ней с танцев, где неожиданно столкнулись впервые за пару недель до того. Знаете, эти повсеместно появившиеся тогда школы и студии бальных танцев?.. Она была что-то ровесницей классной.
– …сочником? – спросила она.
Я среагировал. Возникшая неловкость, впрочем, органично вплелась в неловкость всего нашего пребывания вдвоем на ночной можжевеловой аллее. Считая себя опытным ловеласом, я углубил объятие. Не встретив сопротивления (она подавилась своим сочником, пойдя за мной в хвою, как в танце). Так мы и шли с нею недели две-две с половиной – без сопротивления. К тому, что оказалось вовсе не плохо. На танцы мы больше не ходили. Отношений, естественно, не афишировали. Брали от жизни свое. В котором она, по моей просьбе, учительствовала.
Лето подалось на закат, мы решили украсить наше трехмесячное знакомство неделей относительно полной свободы. Мне было легко в последние дни. Даже пусто. Пустовато. Какая-то неясной природы неотягощенность. Дина смогла разогнать полуторагодовалые тучи, застоявшиеся в моей душе. Я больше не принадлежал их сосущей под ложечкой наплывающей темноте. Хорошо меня чувствуя, она понемногу отменяла понятные в недавно сошедшейся паре табу. Мне нравилось иметь с нею дело. Молча.
В лесу стало легче, доступнее, безнадежней. В темной палатке среди шумящих под дождем не то ветром деревьев мы опускались в руки друг друга, как в саван, как в вечный ил, как в ночной туман. В тесном палаточном раю она вилась надо мной в тусклом свете фонарика, рано или поздно опрокидываемого или закапываемого под одеждой.
«Пустой аквариум, – думал я. – Как это по-иному… в себя пускать… то – рыбка, а то – аквариум…»
– Почему это ты? Давай это будешь не ты?.. – заводил я ее.
Потом она лежала рядом, остывая на холодке.
– Я что-нибудь произнес?
– «Все, кроме меня, арестованы».
– Дина, ты мой друг?
– Дружба – это возрастное.
Я вдруг принялся говорить о том, как хорошо изменится жизнь, когда я стану писателем, как она будет иногда ко мне приходить, рассказывать истории из студенческой жизни, я их буду записывать, перерабатывать…
«Надо испить чашу до дна,
напитков много, чаша одна», –
слова из моего утреннего сна вполне можно было принять за конец моей бессвязной речи.
То, что считаешь жизнью, оказывается эпизодом. Наоборот, из небольшого фрагмента разворачивается бесконечное полотно.
Мы стояли с Диной на склоне над лесным, блестевшим внизу озером. Здесь, на середине возвышенности, деревья, отступая, освобождали небольшую террасу. Противоположный склон маячил вдали за еловыми ветками. Разглядывая озеро, лежавшее, казалось, не ровно, а как приподнятое за дальний край зеркало, обводя глазом сырые, в наклоне, стволы елей, я почувствовал, что уже не пуст, что наполнен, что моя идея-фикс о влезании в мозги ближнего – всего лишь частный случай, что вот сейчас, здесь, над озером, в свободно стоящих деревьях, рядом с малознакомой женщиной, можно влезть в мозги природы, и надо пожертвовать генами. Я уже знал, как выйти из главного тупика, только никак не мог этого сделать, а вместо этого чувствовал все продолжавшееся настоящее (переходящее там, впереди, в неизбежное будущее) и тошноту, такую же, как когда-то дома у классной, поделившейся со мной подозрением насчет Марго.
– Что с тобой? – испугалась Дина. – Присядь. Приляг.
Она говорила мне что-то тихонько, и по ее глазам я видел, что со мной все хуже. У висков уже стоял болевой фронт, не позволяющий отключиться…









