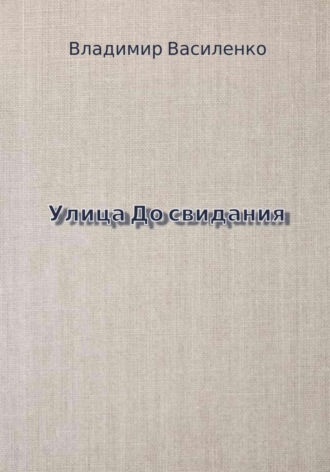
Полная версия
Улица До свидания
Расставание шесть лет назад было столь долгожданным, что и мы и она опомниться не могли от радости. Она была у нас только однажды, на новоселье. Мы с Мариной тоже старались не надоедать своим присутствием, ограничиваясь ежедневными моими звонками. Когда же звонила она и трубку снимала Марина, дело быстро кончалось фразой: «Я хочу слышать его голос»… Понемногу стало ясно: одиночество действительно воспринимается матерью как награда за годы совместного существования бок о бок с невестками… Думая обо всем этом, я стираю в порошке ее исподнее, гадая, вытяну я ее на прежний уровень или это уже начало плавного, затяжного конца со всеми его прелестями…
Хорошо еще, что работаю я теперь «в свободном полете». Случись все это полгода назад, что б я делал?..
Встаем теперь поздно, стягиваю ее с постели, тащу в туалет, умываться: чуть ползет, подтаскивая ногу. Пичкаю таблетками, растираю, одеваю, кормлю. За день хорошо если пару раз слезет со стула – в туалет: главная цель всех жизненных перемещений… И это оскудение словарного запаса (господи, только бы временно и не глубоко!):
– А где… бумажка? Бумажка, когда газеты… (Речь – о жировке по квартплате, которую бросают в почтовый ящик).
Два дня занимал себя простыми вещами: перетягивал телефонный провод, менял замок. Технарем никогда не был, «простые дела» всегда стоили пота. В конце концов, новый, с диском, едущим как по маслу, телефон оказался на низеньком табурете у мамкиного изголовья и с крупными цифрами моего номера на стене, а новый же замок теперь мог бы без усилий открыть и первоклассник. Всё, системы оповещения и доступа приведены в полную боевую готовность. Квартира убрана, всё отмыто-оттерто, весь хлам выброшен, включая четыре пакета с пером для подушек (всё! проект закрыт!). Если б только это помогало…
– Доедай. Или ты думаешь, для бабы Липы бесплатно? – наклоняюсь к ней, чтобы лучше слышала. – «Для бабы Липы? А-а-а, ну, для бабы Липы бесплатно…» Я, что ли, с базара тащил, чтоб выкинуть?
Не реагирует. Худо дело.
На улице невольно теперь обращаю внимание на всех старушек. «Вот если б моя хотя бы так ковыляла (в первый год жизни дочери не верилось, что когда-нибудь она пойдет так же, как топающие навстречу малыши)… А вот – юная, прихрамывающая девица с кавалером… Интересно, он с ней познакомился до того как или…»
Перед сном смотрим фильм «Единожды солгав». Психиатр художнику: «Я могу тебе дать эту таблетку, и ты станешь счастливым. А могу – вот эту, и ты не будешь знать, куда деваться…»
– Я уже не вылезу…
– Ну, что. Давай?.. – показываю на себе: ладонью по шее. – Чего тянуть?.. А?..
Впервые вижу в ее глазах то что следует (в подобном месте) – обиду.
Ночью, только заснул, зовет…
– Мы же только что были, – снова тяну ее по маршруту №1.
– А почему я опять хочу?
– Потому что ты… – не выдерживаю я…
– …дура, – подхватывает она, и я наконец узнаю́ свою мать.
***
– Ну! Что твой Мухтар учудил. Пойдем покажу. Разбуркивайся.
Пока Даня доплетется до крыльца, пока спустится, я еще десять раз встану. Вылеживая до последнего, слушаю жужжащую по комнате муху. Почему мухи всегда по одной на комнату? Нет, чтоб ни одной… или тогда уже две… Выползаю на крыльцо…
– Пойдем-пойдем, – Даня зовет снизу.
Открываем дверь в сарай, что в летней кухне, и дядя Даня показывает палкой в угол. Выношу на свет два пустых яйца, две практически целые яичные скорлупы с дырками с острого края.
– Ну?.. Это я заметил, что Принцесса дня три уже как не несется. Дай, думаю, прослежу. Сижу на скамейке в тенечке. Идет, голубушка… пролезла где-то в щель и прямо здесь шагает… А этот (ты же знаешь, как он их гоняет) не трогает. Как нет его. Что, думаю, за чудо! Так, так… Тихонько, тихонько, пошла-а-а… в сара-а-ай… потом, какое-то время спустя, обра-а-атно… И, главное, не кудахчет. Там, в курином, так громче всех орет, как снесется. А тут тихо так, топ-топ… И этот опять не гоняет… Что ж, думаю, такое!.. Открываю, а там два этих, пустых. Ты поищи, поищи, там где-то должно и целое быть, свежее.
Найдя, я, перепачканный угольной пылью, выношу на свет целое яйцо, и Мухтар отводит глаза под моим взглядом. Я пытаюсь представить, как он это делает, и не могу…
Такому псу надо больше уделять внимания. Что мы уже выучили? «Сидеть», «лежать», «стоять», «лапу», «голос»… С «рядом» – проблемы, на прогулке он после сидения на цепи так прет, что какое там «рядом»! Надо прямо здесь, во дворе попробовать, решаю я… Очень скоро наше занудное хождение с ним по дорожке вокруг дома превращается в «прятки». Снятый с цепи, он слушается, никуда не рвется, и в знак поощрения я решаю побегать с ним… от него… Убежав, выглядываю из-за угла дома, не из-за того, откуда он ожидает, и он, как ребенок: заметит и, подпрыгивая от радости, несется ко мне! Я закрываю калитку, отделяющую палисад от двора, и он на полном ходу ее перемахивает! Та-а-к, усложняем задачу. Теперь калитка возникает прямо перед его носом, и, не успевая ничего сообразить, он тормозит всеми четырьмя лапами. Отойти и разбежаться по новой – такое ему уже не по силам. Вот так-то, Мухтарушка… вот мы и установили твой предел… И вдруг!.. Он берет калитку с места! Оцарапывая лапы, рискуя, но не желая отступать!.. Мы празднуем победу кругом почета вокруг дома, и вот чем все это кончается: как с цепи сорвавшись, он начинает носиться кругами по дальнему, большому двору – прямо по помидорам… Кругами, поднимая столб пыли… В ужасе я слышу, как кричит все это узревшая Леля, и ничего не могу сделать… Разве что, погнавшись за ним, натоптать вдвое больше…
Неужели так будет всегда: только радость, и тут же – подлянка?!
В оседающей пыли я понимаю: единственно правильное – нам с ним немедленно убираться с глаз. Заслышав звон «упряжки» (поводка), он бежит мне, сбегающему с крыльца, навстречу, дрожа, дает мне щелкнуть карабином на ошейнике… мы уносимся прочь со двора!..
Приходя в себя уже за переездом, продолжаем бежать, теперь спокойно, разглядывая пейзаж… Справа – всего лишь насыпь с рельсами. Зато слева разворачивается с верхотуры панорама балки, разделяющей город на старый и новый: десятки двориков, домиков, съезжающих с двух сторон к камышовому раю, устремленному вдаль, к реке. Мухтар высматривает на бегу еле живые там, глубоко под нами внизу, отдельные серые точки: пасущиеся в балке, навязанные, каждая на свой кол, козы. Не дают ему покоя. Думают ли животные?.. Убери из потока сознания слова – вот тебе и животное. Все то же самое – внимание, память, замыслы. Только без слов.
Спускаемся в балку по дальнему склону, до которого доплелись уже шагом. Сгущающаяся сырость. Приближающаяся стена камышей с кружащими перед ней чернокрылыми «цыганками». Сквозь стену ведет кладка – брошенный прямо на хлюпкое узкий штакет. Осторожно перебирая лапами и ногами, продвигаемся… Штакетина трескает подо мной… ухожу по колено в грязь, стараясь не упустить поводок с танцующим на штакете псом. С звучным чавком извлекаю босую, ноющую в колене ногу из грязи. Вот за это влетит… уже точно влетит… Как в одном сандалии идти? Как возвращаться?.. Уговаривая пса, чтоб не вертелся (ему тоже не сладко на этом штакете), в испуге шарю рукой в илистой бездне… ура… сандалий в руке… На что-то все это похоже, на что-то, таящееся в глубине жизни, поджидающее, подкарауливающее: провал с замиранием сердца, ужас и – избавление, на грани чуда, с невозможностью осознать необходимость и значение всей этой пережитой «воздушной ямы»…
Подвожу пса к тоннелю, из которого под насыпью вытекает ручей.
– Мухтар, голос… – по задумке громко приказать нельзя, поэтому приходится повторять… – Голос…
– Гав!
– Гав! – пес вздрагивает и приседает от лая врага, спрятавшегося в тоннеле, невидимого, недоступного нюху.
Повторяю аттракцион в награду себе за пережитое там, на штакете… Еще раз… Еще…
***
Жизнь сводится к простым вещам: за чем-то встать, что-то достать, принести. Так же и самые большие желания, самые заветные мечты – при ближайшем рассмотрении словно тают на глазах: в конце концов, оказывается, мы хотим не власти, богатства, бессмертия, а – удобно лечь, ощутить во рту некий тонкий вкус, головой дотянуться до чьей-то руки. Да, власть, богатство увеличивают количество всего этого, но опять-таки – этого, одного и того же, безысходного в своей окончательной простоте.
– Какие сегодня фрикадельки были вкусные…
Я вспомнил ее вчерашнее, когда она уснула, лицо: установившееся на нем выражение, как у дряхлого Брежнева, широкий рот углами книзу, маска натянутости. Так уснула и так спала – с усилием на лице… Сегодня приходила Марина, у которой и со своей матерью проблемы… И снова уже укладываемся. Сколько я уже здесь?.. Вдруг доходит: если ей лечь головой в другую сторону, на другой бок, на котором одном она только и может уснуть, не надо будет переворачивать ее лицом к стене, и, ложась так, она понемногу научится втаскивать на кровать и ноги. Сама…
Утром меня прорвало:
– Ты что, парализованная? Или ты лежачая, или ходячая! Ходячая – ходи! Что это за: «Убери яблоки»… Встань и убери! Что это за: «Запах не нравится»? Всю жизнь нравился, а теперь не нравится! Я буду тянуть, варить, кормить, стирать, дезинфицировать, а ты будешь зарастать и упираться?! Ты вот сидишь, ты пятно на простыни видишь? Возьми намыль губку, затри! Значит, так: список, что тебе научиться делать. Лекарства все пить самой – раз. Встать ночью – самой. Лечь – самой. Одеться утром. Гигиена, полотенце!.. Что ты на меня так смотришь: голова долу, в глазах туман? Ты что, не признаёшь изменений? По-твоему, я тут впустую сижу, что ли? Разве можно отрицать очевидное: ты ходишь! Сама! Ну, на выборы в воскресенье пойдем?
– Да.
Впервые вроде как отпустило в голове. Камень, сидевший в затылке все эти дни, рассосался… Вообще, я в эти дни понемногу сам стал зарастать. Духом старости и болезни. Трудно порой лишний раз шевельнуться, вернулись боли в спине, накрыло волной вечного невезения моей матери (ни разу, например, за все дни не открыл коробочку с лекарствами сразу с нужного конца: все время открываю и – дно, перекрытое свернутой инструкцией). Даже кряхтеть стал, как она. А уж с памятью… В магазине сдачу взял, а колбасу нет, кричали вслед. Поехал на работу, забыл побриться. По дороге обнаружил в автобусе на полу бумажник. Мой. Назначил встречу, сам приехал не на ту улицу, бегал искал. Нашел. То, что отдать, дома забыл. Марина оставила суп на плите остывать, чтоб доели назавтра, сказала: остынет – в холодильник поставь. Не поставил. Пришлось выливать…
Фигура мамки, шаркающей по квартире: короткая, конусом, рубашонка, тонкие ножки под кубышкою тела… А сам-то я? В зеркале: один к одному… Ночью появились фантомы: вскакиваю, четко услышав сквозь сон свое имя, иду в комнату – мамка спит…
Не выдержав, впервые за четыре месяца беру пиво (после осенней болезни как-то отвернуло от алкоголя), распластываю на столе какую-то, неизвестного вида, рыбу. По телеку ретро-концерт Кристалинской. Мать подпевает. Слава богу. Впервые. Вслед за концертом – мыльная опера. Расслабленный пивом, неожиданно для себя:
– Я посмотрю это. Но только если ты мне объяснишь, что там к чему.
– Да иди ты! – не может поверить в то, что я стану смотреть вместе с ней сериал.
Слушаю: кто кого целует… беременна… он в этой группе, она в той…
– А как зовут героиню?
Мало-помалу увлекшись, мать объясняет мне хитросплетения. Я слушаю… начинаю вместе с ней обсуждать… она расцветает, говорит, говорит… я слушаю… понемногу догадываясь о том, что со мной сейчас общается не только мать, но еще кто-то свыше, запросто объясняясь со мной на своем языке, который я понимаю, хоть и по-своему. Я слышу, как этот «кто-то» говорит мне: наконец-то… наконец-то ты делаешь то, что нужно… пойми… это всего лишь улица До свидания… всего лишь… не более… Мать смеется от моих комментариев происходящего на экране. Пытается ухватить то, что я ей объясняю про мой, последней модели, мобильник. Все возвращается. Все. Все как всегда. Как обычно. Мы вместе.
Перед сном, после фильма:
– Смотри, как ты уже ходишь!..
– Да!.. А спина!.. – хнык… один нескончаемый хнык со слезами.
***
Хлоп входной двери вдалеке… Скрип, долетающий через комнаты после хлопа… Скри-и-ип… Хлоп!.. Комнатная прохлада…
Развалившийся на солнце Мухтар. Подкрадываясь, щекочу травинкой в носу. Улыбается, приоткрывая глаз, снова жмурясь. Чихает. Покачиваясь со сна, встает, сверля меня глазами, тянется, шагая, зная, что я не уйду, что я у него в лапах… ах, вот что! – смеясь, отбегаю… Обескураженный, стоит, отвернувшись… Дальше цепь не пускает…
– Чтобы волосы лежали как следует, их надо несколько раз утром расчесывать, – Даня, – если волосы не расчесывать, они лежать не будут. Несколько раз, расческой и подолгу.
Чему там лежать? Особенно после этого, тем же Даней наученного. Полпарикмахерской сбежалось: «Мальчик, повтори, повтори!..» – на это мое:
– Полька в комбинации с полубоксом с плавным переходом.
«Мальчик, мальчик, как тебя стричь? – Полька в комбинации с полубоксом с плавным переходом»…
Когда в начале лета впервые собирались к зубному, я боялся. Боялся, что кончится, как всегда… Как всегда кончаются все эти тю-тю-тю да ня-ня-ня… Однажды уже маячило мороженое сколько захочу и чистое дыхание через нос на всю жизнь, а кончилось… У одной тетки на коленях сидел, три другие держали, а добрый доктор Айболит сверкающим инструментом выворачивал носоглотку. На сей раз речь, вроде, всего лишь об исправлении прикуса… Знаю я их прикус: сперва все зубы просверлят до самых мозгов, а после: «Какой спокойный мальчик, ни разу не вскрикнул!» Только идти все равно надо. Тетя Леля – танк: решила меня «выздоровить» – значит, «выздоровит». Умру здоровым. По дороге я, помню, спросил, чтоб хоть как-то потянуть время:
– Может, зайдем в «Жовтневый»?..
– На обратном пути!..
Теперь, к концу лета, я полноправный член клуба «протезников». Вся разница: у моих стариков пластинки – с зубами, у меня – с проволокой. Я уже к ней привык, не чувствую. Это – один из последних походов в это лето на Гоголя. Уже давно ничего не сверлят и не ковыряют, максимум – заставят подержать во рту полный черпак гипса, и то вряд ли. Теперь и в «Жовтневый» – не на обратном пути. Тетя Леля зачем-то берет шоколад. Мне ж нельзя! Что, опять какой-то подвох?..
Гоголя не так далеко, мы всегда ходили пешком. Но это уже город. Большие дома. В кабинете со мной почти ничего не делают. И все равно выхожу на крыльцо с облегчением. Леля, беря меня за руку, ведет зачем-то во двор того же дома. Поднимаемся. Я вспоминаю: где-то на Гоголя у нас дальние родственники. Или не дальние.
Мы сидим за столом, нам наливают чаю. Седой дед как будто молча что-то все время вспоминает, а бабка, постоянно трогая свои три волосины, говорит без пауз и выражения, но так, что мне почему-то кажется: они с Лелей общаются совсем на другую тему… Улучив момент, я разглядываю чуть постарше меня девчонку напротив. Когда не разглядываю, чувствую: она разглядывает меня. Из рассказа хозяйки я понимаю, что они тут так и живут, втроем.
– А где ее родители? А они нам кто, дальние или ближние?
Во дела, мороженое мне можно, а…
Последнее впечатление того лета: похороны на поселке. Толпа стариков, в основном бабок, море военных, плывущий над головами по главной улице гроб, весь в знаменах, раскаты оркестра. В гробу, в кузове – парень с соседней улицы, оказавшийся в Чехословакии в том самом танке, о каком сообщали в «Последних известиях»…
«Последние известия»… В определенные часы утром и вечером дядя Даня в своей капроновой с дырочками шляпе (эти капельки пота у него на лбу под ее ободком) всегда спешит в дом, подтягивая на ступеньках крыльца ногу и как можно быстрее переступая порог:
– Сейчас будут «Последние известия».
Ну, хорошо, вечером, перед сном – я согласен. Но утром – какие ж они «последние»?
***
Минут через двадцать после того как улегся, сводив ее посреди ночи в туалет, задремав, снова слышу:
– Ро-о-одя…
Подхожу в темноте: вставать, что ли, не собирается?
– Поправь подушку.
– И ты из-за этого меня звала? – поворачиваюсь и ухожу.
Окончательно перебитый сон. Лежа в соседней комнате, слушая эти погромыхивания стула, за какой она, лежа, держится рукой, я представляю: вот бы мать там встала, сама бы пошла в туалет, потом сама бы легла… Заурядные, обычные действия. Насколько они невозможны. Это называется: время.
Очнувшись утром, вспомнил: ночью точно слышал, как мать ходила в туалет, причем дважды. Представил, как она, побоявшись меня будить, лежит сейчас на боку со свешенными на пол ногами, одеяло сползло… Мы с Мариной придумали ставить низенькую скамеечку у кровати, чтобы она училась поднимать на кровать ноги в два приема: сперва на скамеечку, потом на кровать. Но до сих пор и это не удавалось (как говаривал физрук в школе после моего соскока с брусьев: «Схема есть, но пока – два»). Высунувшись из двери в комнату, увидал: лежит на кровати вся, целиком. Вот она, радость!
Нет, явно, явно приходит в себя!
После утреннего моциона натираемся. Подставляет по очереди ноги:
– И там еще… где у меня ладошки на ногах…
– Уши на попе.
Положительно, кто-то меня там, наверху, услышал.
Завтракаем.
– Вот здесь должен был оставаться еще кусочек селедочки, ты не брала? – тычу вилкой в пустую тарелку.
– Нет, – смеется.
– Ну, ладно…
Уплетает колбасу, яйца, сыр.
– Вот здесь, селедочки. Не брала, нет?
– Нет.
– Ну, ладно…
Пожалуй, надо еще подрезать колбаски. А таблетки и впрямь помогают. Что-то с мозгами, определенно, было.
– От тут от лежал, не брала? Нет?
– Нет.
– Ну, ладно…
А соленого надо поменьше.
– Когда я уезжала в командировку, Гарик тебе готовил. А когда возвращалась, спрашивала: «Ну, хорошо тебе папа готовил?» Ты всегда отвечал: «Хорошо, только каша с камушками». Он манку варил и плохо размешивал. С камушками… – она шмыгнула носом, доедая.
– Да ты пару раз всего-то и ездила.
– Не-е-ет, я много ездила. Постоянно… Кого посылать? – девчонку… Что ты… Один раз отправили в Лисичанск. Смотреть, как стекло варят. От Донецка еще дальше ехать. Приезжаю, уже вечереет. Завод закрыт. Подхожу к общежитию. Там дядька внизу сидит, в окошечке. Иди, говорит, в частный сектор, здесь мужское. А женское? А женского нет. Дяденька, говорю, дайте я у вас там, за стеклом на лавочке переночую. Какое за стеклом, машет на меня, сейчас парни пойдут, ты что, девка, беги отсюда скорей. Адрес дал. Прихожу к бабке. Три дня у нее жила. В последний день, мне уезжать, заходит к ней парень. Бандит, сразу видно. Что-то они за занавеской шушукаются, и он на меня оттуда поглядывает. Ушел. Я за вещи: мне, говорю, все равно поезда ждать, так на вокзале и подожду!.. Она: чего это ты будешь на вокзале ждать, подождешь у меня, сейчас я тебя тут покормлю, посидим… За все дни слова со мной не сказала, а тут – посидим… Я все свое схватила, в чемодан покидала и – бегом!.. И как я их увидала?.. Идут. Вчетвером. Все – молодые парни. А тут на улице туалет общественный, я туда – шмыг!.. А они мимо прошли, к ее дому, меня не заметили. Я из этого туалета до вокзала так бежала! Как только не умерла…
Она встала, прошаркала к окну.
– Ты сейчас ходишь точно, как Брежнев в фильме.
– Как кто?..
Понимаю, что не слышит, но повторять вот так, по два раза все подряд, с утра до вечера…
На выборы нам, естественно, не дойти, а вот к почтовому ящику спускаться – надо потихоньку начинать. Кряхтит, подтягивается на перилах… Однако дело сделано. Четыре этажа туда-сюда – не шутка!
Ближе к вечеру приносят ящик с участка, мать голосует. Воодушевленная, размораживает сама холодильник. Я не мешаю. Лежа в своей комнате, слушаю. Какой удивительно тихой стала наша квартира… В этом доме, где сорок пять лет назад три квартиры выделили инженерам и все остальные – шоферам и литейщикам. Чего только эти стены не слышали… И вот – тишина.
***
– Леля! Леля!
– Чего?!
– Лель… а где мочалка?
Тетя Леля, «бросив все», идет мимо своих роз к нам, к душевой, по пути закипая.
– А это что?! Собака?! Повылазило?! – сует нам предательницу-мочалку, висевшую, оказывается, на гвозде не внутри, а снаружи…
«Летняя» водичка из бака скудными струйками стекает на рябую Данину спину, которую я тру, отвернув «фартук» летнего душа. Летнего. Как будто есть зимний. Зимой Дане как-то удается доковылять до бани. Раз в месяц. Пришаркивая, он поворачивается: седина внизу, седей некуда…
Уже два года Муся не улетает со мной после лета «на север» (сразу после тех похорон на поселке я с удивлением узнал, что домой полечу без нее). Официальная версия: Леля одна с двумя инвалидами уже не тянет. Я догадываюсь: есть еще кое-что. Знать бы, что. Мухтару теперь – третий год, собачья молодость. В школе меня, как говорят родители, «наконец прорвало», теперь я круглый отличник и председатель совета отряда (отряд – это класс). Пластинку во рту уже не ношу. На самолет меня сажают: там родители, здесь Леля. Мариванна слегла. Абрикосу под «моим» окном, ту, со стволом, параллельным земле, разбило молнией. В прошлом году мне купили велосипед. Я больше не гадаю, кто красивее: Тамара или Сашечка.
Когда мы с Лелей в прошлом году вели по улице мою взрослую «Украину» из магазина, уличные мои дружки, братья Крамаренки, молча стояли у калитки со своими «Орленками» и смотрели, а меня морозило по спине: как я буду ездить на такой громадине. После этого две недели сосед Коля Ахромий, добрая душа, всего-то годом меня старше, бегал со мной и моей «Украиной» по улице, держа сперва за руль, потом только за багажник. Равновесие кое-как было достигнуто, только трудно при этом было еще и крутить педали. Наконец настал день, когда я, спустившись «без педалей» вниз по улице на своем гиганте, решился преодолеть улицу в горку. Вторник, утро, во дворах ни души и у каждой калитки выставлен мусор (день приезда мусорки). Обливаясь потом, я кое-как докрутил неприподъемные педали до Ахромиевского двора, силы меня оставили, колесо повело вбок, и я свалился в соседский бак с очистками. Коля, оказывается, наблюдавший все это со своей шелковицы, слез, вытащил меня из мусора, отряхнул и отечески охлопал по спине, как бы уже на законных основаниях приглашая в славную семью велосипедистов. Потом была война моих бабок со всей улицей («Носится на своей страхолюдине, а тут кругом – дети!»), потом – проблемы с ниппельными резинками…
Забирая сейчас на своей «Украине» в горку, мимо нашего двора, последнего перед линией (железной дорогой), оглядываясь, я разглядел позади, в начале улицы, направлявшихся сюда бабку с девицей в голубом платье. Свернув за крайним двором на боковую улочку, я какое-то время еще крутил педали, потом развернулся и стал. Сердце в груди отсчитывало секунды. Пора!.. Разогнавшись до сумасшедшего хода (ветер свистел в ушах), я на полном лету заложил вираж с боковой на нашу, краем глаза отмечая голубое пятно уже неподалеку от нашей калитки, и от этого моего полета все в душе у меня запело, небесного цвета шар раздулся у меня в груди и под это пение и сквозь это небесное я узрел, как посреди виража ноги мои вместе со всей «Украиной» уходят из-под меня вправо, вбок и как слева летит на меня земля!..
– Уби-и-илось! Дитятко уби-и-илось! – сидевшие на бревне у двора соседские бабки, вскочив, уже бежали ко мне.
Через минуту, с крест-накрест содранной через всю голую грудь и живот кожей, ведя навсегда искалеченный велик, я, хромая, прошел мимо презрительно взиравшей на меня девицы в нашу калитку.
Перемазанный йодом, спускаясь с крыльца, я вижу и слышу сидящих в беседке Мусю, Лелю и бабку, знакомым движением перебирающую три седых волосины на голове. Замолчав, мне дают понять, что в моей компании не нуждаются. Насвистывая, я хромаю за угол дома и, пройдя палисадом, завернув за второй угол, выплываю из тени на солнце. Подходя к ней, сидящей, прислонясь спиной к горячей кирпичной стенке, на бревнышке (все, что осталось от абрикосы), я, сбившись с мелодии, замолкаю…
– А-а, мальчик с проволокой… Родион, тебя как зовут? – спросила она, щурясь на солнце и игнорируя мои, залитые йодом, раны.
– Родион, – ответил я, не понимая, что не так.
Она засмеялась.
– Спишь еще с мишкой?
Я повернулся, чтоб уходить.
– Ты куда?..
Я остановился…
Через пять минут, сидя рядом с ней на бревне, я уже подсказывал ей по буквам мою фамилию, при этом мне казалось, что я младше своих тринадцати и что она всегда была в нашем доме.
– С «к», «р», и «ы» начинаются крылья, крыжовник, крыша, крыльцо… – перебирает она. – Значит, ты: Крылов… Крышкин… Крыльцов…
– Не-е-ет, – смеюсь я.
– Крыжовенко… Крынкин…
– Н-н…
– А что: Родион Крынкин!
Мы оба прыснули.









