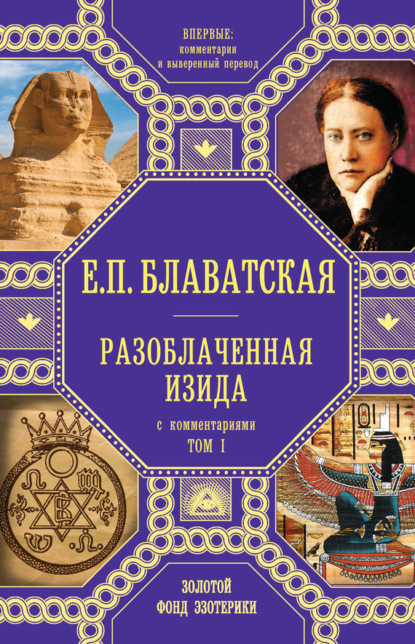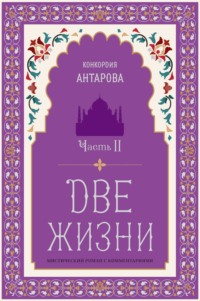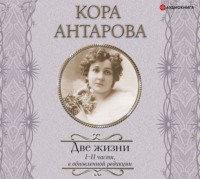Полная версия
Две жизни. Роман в четырех частях
Капитан улыбнулся, но чуть не выронил бумажник из рук, когда услышал просьбу прислать мне дерево завтра.
– Левушка, – сказал он, – я буду молчать обо всем. Но скажите мне, почему вы так чтите этого человека?
– Я не сумею вам объяснить этого сейчас. Но, если после игры Анны, вы повторите свой вопрос, мне будет легче объяснить вам мое благоговение. Это не одно преклонение перед ним. Это понимание целого пути его страданий и любви, претворенных им в свет для людей.
Уже смеркалось, когда мы подошли к дому. Вскоре мы втроем встретились за обеденным столом, и я снова ощутил, как мне недостает Иллофиллиона. Я был рассеян, отвечал на обращенные ко мне вопросы невпопад и все думал, где Иллофиллион, чем он занят и скоро ли они приедут с Анной.
После обеда мы прошли в зал, передвинули рояль, чтобы он стоял приблизительно так, как в зале у Анны, и поставили белую сирень с таким расчетом, чтобы она пианистке не мешала, но чтобы вместе с тем она могла ею любоваться. Принесли еще немного роз; капитан с князем хлопотали, устраивая в другом конце зала чайный стол. Я ничего не хотел больше делать: я ждал Иллофиллиона, ждал Анну, ждал музыку с таким напряжением, что не мог ни минуты оставаться спокойным на одном месте.
Наконец раздался стук колес, и я понесся по комнатам, как пудель, почуявший любимого хозяина, грозя что-либо сокрушить на своем бегу.
Едва я увидел Иллофиллиона, я повис на его шее, забыв все и вся. Он засмеялся, прижал меня к себе ласково, но сейчас же отвел мои руки, поставив меня перед закутанной в черный плащ Анной.
– Твоя первая обязанность была приветствовать гостью, – тихо сказал он. Но глаза его были ласковы, лицо улыбалось, и выговор не звучал сурово.
Я принял у Анны плащ, который уже снимал с нее ее отец, поцеловал ей обе руки и отошел в сторону, чтобы дать возможность поздороваться с ней князю и капитану.
Князь сиял и волновался, благодарил ее за оказанную ему честь, а капитан, бывший более, чем когда-либо, в своей тигровой шкуре, рыцарски поклонился ей.
Анна отказалась от чая, сказала, что съест грушу, немного отдохнет и будет играть.
На ней было платье темно-оранжевого матового цвета, на груди крупным алмазом было приколото несколько наших фиалок, и косы лежали по плечам.
Я вздрогнул. На одном из купленных мной блюд красовалась женщина в оранжевом хитоне с такими же косами… Что же я наделал? Не оскорбится ли Ананда?
Я так расстроился, что пришел в себя только от звуков передвигаемого стула у рояля.
Анна села. Снова лицо ее стало не ее обычным лицом. Снова из глаз полился лучами свет, на щеках заиграл румянец, алые губы приоткрылись, обнажая ряд мелких белых зубов.
Первые же звуки «Лунной сонаты» увели меня от земли и всего окружающего.
Я понял, что по-настоящему никогда не знал этой вещи, хотя тысячу раз слышал ее. Что она сделала с нею? Откуда лились эти звуки? Это не рояль пел. Это жизнь, надежды, любовь, мука, зов рвались в зал, разрывая меня всего и обнажая боль и радость, что скрывались в людях под их одеждами, под их словами, под их лицемерием. Звуки кончились, но тишина не нарушалась. Я плакал и не мог видеть никого и ничего.
Не дав нам пережить до конца этой сонаты, но увидя впечатление, произведенное ею, Анна стала играть переложение Листа на песни Шуберта.
Я старался взять себя в руки, почувствовав на себе взгляд Иллофиллиона. Лицо его было бледно, строго, точно ему пришлось излить из своего сердца немало душевных сил. Его взгляд как бы приказывал мне забыть о себе и думать о капитане.
Я отер глаза и стал искать взглядом капитана. Я два раза посмотрел на какого-то чужого человека, который сидел рядом с Иллофиллионом, и, лишь взглянув на него в третий раз, понял, что это капитан.
Бледное, как у покойника, лицо с заострившимися чертами; глаза, несколько минут назад сверкавшие золотыми искрами энергии и воли, потухли. Он безжизненно сидел как истукан и чем-то напомнил мне Иллофиллиона, который спал когда-то в вагоне, сидя с открытыми глазами, чем привел меня в изумление. Я готов был броситься к капитану; мне казалось, что он упадет. Но глаза Иллофиллиона снова устремились на меня, и я остался на месте…
И снова музыка увела меня от земли, снова все исчезло для меня. Я жил в каком-то другом месте; я точно видел рядом с капитаном мощную фигуру Ананды, рука которого лежала на коротко остриженной голове англичанина. Капитан, коленопреклоненный, в муке протягивал руки к какому-то яркому свету, имевшему очертание высокой фигуры. Фигура обрисовывалась все яснее, и я узнал в ней Флорентийца… Я был близок к обмороку. Музыка замолкла. Я едва перевел дыхание, едва осознал, где я, как раздались снова звуки, и внезапно полилась песня.
Контральто Анны напоминало голос мальчика-альта или юного тенора. Нечто особенное было в этом инструментальном голосе.
То была песня любви, восточный колорит которой то рассказывал о страданиях разлуки, то уносил в ликование радости.
Эта песнь кончилась. И началась другая – песня о любви к родине, песня самоотвержения и подвига. А я все не мог понять, как у стройной, хрупкой женщины может быть голос такой силы, глубокий, низкий? Неужели земное грешное существо может петь с таким вдохновением, как это мог бы делать только ангел?
Песня смолкла, Анна встала.
– Нет, Анна, дитя мое, не отпускай нас из зала в состоянии такого волнения, с сознанием своих слабостей и убожества. Ты видишь, мы все плачем. Спой нам несколько греческих песен, которые ты поешь так дивно. Но верни нас на землю, иначе мы не проживем до завтра, – услышал я голос Строганова, который старался улыбнуться, но, видимо, едва владел собой.
Анна обвела нас всех глазами; на лице ее засветилась счастливая улыбка; она снова опустилась на стул и запела народную греческую песню, песню любовного мечтания девушки, обожающей родину, семью и милого.
Я взглянул на Иллофиллиона. О, как я переживал его детскую жизнь! Я точно сам лежал ночью у моря, среди растерзанных тел его родных. Мне захотелось закричать Анне, чтобы она спела что-нибудь другое. Я уже было поднялся, но встретил взгляд Иллофиллиона, такой добрый, такой светлый. И такой могучей силой веяло от него, что я в первый раз осознал величие духа того человека, который жил рядом со мной, возился с моими немощами – и не тяготился мною, таким слабым, беспомощным невеждой, а радостно нес мне и каждому свою помощь.
Анна запела греческую колыбельную. О, Господи, вся душа замирала от нежности и обаяния, с которыми она укачивала малютку… И эта женщина – не мать, не жена?!
«Она и мать, и жена, и друг, но всем, без личного выбора, потому что ее ступень личной жизни уже миновала. И высшее счастье человека не в жизни личной, но в жизни освобожденной», – точно прогремел мне в ухо голос Ананды.
Я встал, чтобы посмотреть, где же сам Ананда, решив, что он приехал внезапно, раньше срока. Но Иллофиллион был уже возле меня, сжимал мою руку и вел меня благодарить Анну.
Очевидно, хозяин ее уже поблагодарил, так как хлопотал у чайного стола, я, должно быть, половиворонил немало времени.
Когда мы подошли к Анне, возле нее стоял капитан. Но это был не тот капитан, которого я хорошо знал, и не тот, которого я видел подобным истукану несколько минут тому назад. Это был незнакомый мне человек, с бледным лицом, с сияющими, золотыми, кроткими глазами.
– Я сегодня не только понял, что такое женщины и искусство, я впервые понял, что такое жизнь. Мне казалось, что ваша музыка заставила мой дух отделиться от тела, и – на одно мгновение – я точно увидел незнакомого мне великого мудреца, который вел меня по дорожке света и сказал мне: «Иди со мной, ты мой. Помни об этом и иди».
Вот что сделали со мной ваши звуки. Я больше уже никогда не смогу жить прежней жизнью; я должен теперь найти того мудреца, которого я так ясно видел, – говорил капитан. – И без этого я не успокоюсь.
И голоса его я тоже не узнал. Это был тихий, задушевный голос человека, который или встал с одра смерти и благодарил за спасенную жизнь, или в храме обручился только что с чистой девушкой и благоговеет перед началом новой жизни.
Я уже готов был вырваться из рук Иллофиллиона, броситься на шею капитану и сказать ему, что это ведь Флорентийца он видел, как почувствовал себя скованным взглядом Иллофиллиона.
– И вы его найдете, – услышал я тихий голос, почти шепот Анны, над рукой которой склонился капитан.
Иллофиллион оставил меня, подал руку Анне и повел ее к столу. Мы обменялись взглядом с капитаном, невольно улыбнулись друг другу – всякий по-своему понимал свою улыбку – и тоже пошли к столу.
Разговор шел только между Анной и Строгановым. Мы с капитаном не сводили глаз с Анны и молча тонули в той красоте, которая исходила от нее во всем, что бы она ни делала, и которой она окутала нас в своей музыке.
Вскоре Строгановы уехали; дом точно сразу опустел и погас. Все мы разошлись по своим комнатам, не имея сил вынести будничные слова и мысли, и стараясь сохранить в себе тот высший мир чувств и сил, в который перенесли нас звуки музыки Анны.
Глава 20
Приезд Ананды и еще раз музыка
Против обыкновения в эту ночь я спал плохо, просыпался в беспокойстве много раз, и все мне казалось, что я слышу какие-то голоса в комнате Иллофиллиона. Но я не отдавал себе отчет, чьи это голоса; я дремал, и все путалось в моих представлениях. То мне казалось, что музыка Анны прерывается воем бури на пароходе, то мне чудился грохот поезда, когда мы вышли с Флорентийцем на площадку, и я с ужасом думал, что мы будем прыгать с него на всем ходу, то грезилась нежно ласкающая меня рука матери, которую я не помнил…
Внезапно я проснулся от звука открывшейся из комнаты Иллофиллиона двери, и в ней появился капитан, пожимавший ему руку. Я понял, что голоса, слышанные мной, были реальностью, а не померещились мне, и что оба мои друга совсем не спали, а проговорили всю ночь.
Лица капитана я не видел, а лицо Иллофиллиона было очень серьезно, светло и спокойно. Печать непоколебимой воли и верности принятому однажды решению была на нем; я уже много раз видел это выражение на его лице и хорошо его знал. Как всегда, бессонная ночь не оставила на нем никакого признака утомления.
Я привстал, и как раз в эту минуту капитан осторожно закрыл дверь и повернулся ко мне лицом. Я чуть не вскрикнул, так он был бледен. Складки покрывали его лоб, глаза ввалились, и выражение такой скорби было в них, как будто он только что похоронил кого-то самого любимого. Он казался постаревшим.
Я вспомнил, как я сидел после разлуки с братом у камина в его комнате в К., чувствуя себя убитым и одиноким. Я не знал, что или кого потерял сейчас капитан, но все мое сердце устремилось к нему; я протянул к нему руки, едва сдерживая набегавшие слезы любви и сострадания.
Увидев, что я не сплю, он подошел ко мне, присел на мой диван и крепко пожал протянутые ему руки.
– Раз ты не спишь, мой друг, одевайся и выходи позавтракать со мной. У меня к тебе будет большая просьба, – сказал он, вставая, и, не глядя на меня, вышел из комнаты.
Я быстро оделся, постарался собрать все свои силы и внимание и пошел к капитану.
Он уже переоделся в свой белый форменный китель и, освеженный душем, казался мне менее постаревшим и усталым.
Верзила подал нам кофе и горячие булочки с орехами и положил перед капитаном газеты и почту. Мы остались вдвоем, сидя перед дымящимися чашками, молча думая каждый о своем.
Я все не мог понять, зачем столько должен страдать человек. Капитан – неделю назад бывший образцом энергии и счастья – сейчас находился в глубокой печали и тоске, которые прибавили ему точно десяток лет за одну ночь. Почему? Зачем? Кому это надо? Разве это называется легче и проще идти свой день?
– Левушка, – прервал мои мысли капитан. – Вот в этом футляре – кольцо, – и он положил его на салфетку. – Оно предназначалось мною для другой цели, для других уст и рук. Но… то был «я» вчерашнего дня. Сегодня тот «я» умер. А тот, который хочет возродиться из пепла – причем я вовсе не утверждаю, что он действительно возродится, – просит тебя: вложи в кольцо салфетку и положи его возле торта, который ты заказал Ананде. Но отнюдь не говори, кто его передал. Если спросят, скажи, что знаешь, но сказать не можешь.
Теперь я побегу, друг. Дел масса. Иллофиллион обещал, что вечером, после обеда, ты приведешь меня к Ананде.
Я взял футляр с кольцом, простился с капитаном и, не притронувшись к еде, как и он, вернулся к себе. Я сел на стул, держа футляр в руках, и несомненно впал бы в свое ловиворонное состояние, если бы голос Иллофиллиона не привел меня в себя.
– Левушка, верзила жалуется, что ты ничего не ел. Это действительно довольно серьезно, – улыбнулся он, – так как ты во всех случаях жизни не терял способности поесть. Что это у тебя в руках?
– Это, Лоллион, чужая тайна, и я не могу вам ее открыть. Но чтобы не иметь от вас целой серии тайн, я расскажу вам о своих тайнах. Не знаю, что бы я дал, чтобы не держать вот этого предмета в руках, – поднимая футляр, сказал я. – Целая перевернутая жизнь – чудится мне – заключена в этой вещи, которой я не видел, хотя и знаю, что это, – чуть не плача, говорил я Иллофиллиону.
– Хорошо, друг. Пойдем в город, но сначала к княгине, – возьми аптечку. Потом мы зайдем к Жанне. Сегодня праздник, магазин закрыт; она просила нас прийти к ней завтракать. Мне придется там тебя покинуть и возложить на тебя трудную и печальную задачу: привести Жанну в равновесие. Она подпала под влияние старой Строгановой, и это может окончиться очень печально для нее. Ты больше всех можешь помочь ей, как и капитану, своей непосредственной любящей душой.
Я тяжело вздохнул, убрал футляр с кольцом, взял медикаменты и пошел за Иллофиллионом к княгине.
– Ты вздыхаешь и печалишься, потому что тебе тяжела ноша, которую я взвалил тебе на плечи? – спросил Иллофиллион.
– Ах, Лоллион. Если бы я должен был умереть сию минуту за вас – я бы это сделал с радостью. Но и с Жанной, и особенно с капитаном, – я бессилен и беспомощен, – проговорил я, с трудом побеждая слезы. – Но ноша ваша мне не тяжела, а радостна.
Иллофиллион не успел ничего ответить мне, так как навстречу нам шел сияющий князь. Лицо его говорило о таком счастье, что – после скорбного лица капитана и обуреваемый своим собственным внутренним разладом – я даже остолбенел. Что должно было случиться с ним, чтобы он мог так светиться?
– После вчерашней музыки, доктор Иллофиллион, я никак не могу спуститься на землю. Я провел ночь в саду и только к утру пришел в себя. Я теперь понял, как я должен идти по жизни дальше. Так недавно я считал свою жизнь загубленной, себя – потерянным, всего боялся. А теперь я обрел полное равновесие, весь мой страх пропал. Даже если бы у княгини было не один, а пять сыновей – и все злые барбосы, – и тогда бы я не мог уже бояться, так как само понятие страха улетучилось из меня сегодня ночью, и думаю, навсегда.
Если бы вы спросили, как это случилось, я не смог бы вам точно объяснить. Но я могу поклясться, что вечером во время музыки я видел вас светящимся, как гигантский столб огня. И искра вашего огня задела меня, доктор Иллофиллион. Вот она-то и потрясла меня так, что я будто вырвался из тисков тоски и страха, освободился от тяжести. Мне легко сейчас, и жизнь каждого человека кажется очень важной и нужной.
И ко всему этому – княгиня сегодня стала говорить совсем отчетливо, пила чай сидя и держала чашку без моей помощи.
Мы вошли к княгине. Дряблое лицо ее было оживленным; она приветствовала нас и сама выпила пенящееся красное лекарство, которое ей до сих пор вливал в рот каждый раз Иллофиллион.
Иллофиллион разрешил княгине посидеть в кресле два часа и позволил князю поговорить с ней немного о ее делах.
Мы вернулись к себе, переоделись и вышли на улицу, где было уже жарко.
– Ну, рассказывай теперь свои тайны, Левушка. В пять часов мы с тобой будем встречать Ананду. А до этого времени у меня сто дел.
– Лоллион, если вы оставите меня одного на завтраке у Жанны, то давайте в три с половиной часа встретимся в комнате Ананды. Там я не только расскажу, но и покажу вам свои тайны.
– Хорошо, но тогда иди к Жанне один, а я употреблю все это время на дела. Кстати, надо еще купить фруктов для Ананды.
– Это не надо делать. Вообще, не заботьтесь о материальной стороне встречи, – сказал я, густо краснея.
– Ах, так это и есть твои тайны? – засмеялся Иллофиллион.
– Да, да. Там переговорим. Здесь нам придется расстаться, мне надо свернуть сюда.
– Хорошо, Левушка. Только не забудь принести цветов Жанне и постарайся пробраться к ней в душу и брось туда же цветочек любви и мира. Не о своем бессилии думай, а только о Флорентийце. Тогда твой разговор принесет Жанне утешение.
Мы расстались; я купил несколько роз, потом зашел к кондитеру, чтобы напомнить ему о своем заказе и передать деньги для антиквара.
Кондитер показал мне вымытые и протертые блюда, которые сверкали одно – красками, другое – искрами от нежно-голубого и желтого до алого и фиолетового. Рядом стоял такой же венецианский кувшин необычайной формы, с тремя кружками на подносе. Случайно упавший луч солнца переливался в них, как в гранях бриллианта.
– Эта прислала моя друг с блюда. Вместе – дешево отдаст. Можно наливать красно питье – карош будет, – сказал хозяин, любуясь не меньше меня чудесными вещами.
Я согласился купить и кувшин с кружками, решив, что «семь бед – один ответ», – попросил не опоздать к трем часам и пошел к Жанне.
Было еще рано, когда Жанна отворила мне сама дверь, очевидно, не ожидая, что это я уже явился к завтраку. На мои извинения, что я пришел раньше срока, она подпрыгнула от удовольствия и повела меня наверх в свою комнату.
Везде был теперь образцовый порядок, и Жанна объявила мне, что встала с рассветом, чтобы Иллофиллион нашел в ее жилище такую чистоту, какой и во дворце не бывает.
Я пошутил, что, очевидно, по ее мнению, для меня было бы довольно и кухонной чистоты, и тут же сказал, что за это различие в приеме Иллофиллиона и меня она и наказана. Все плоды ее усердия в наведении порядка достанутся мне, так как Иллофиллиона отозвали серьезные дела; он приносит ей свои извинения, что не сможет прийти к ней на завтрак.
Сначала Жанна точно опечалилась, но через минуту захлопала в ладоши, еще раз подпрыгнула и сказала:
– Вот, наконец, теперь обо всем переговорим. Вы знаете, Левушка, не все так гладко у меня, как кажется на вид. Конечно, дела идут отлично, и Строганов очень добр. Но в семье их такой раскол.
– Но какое отношение к вам имеют их семейные дела? – спросил я.
– Ну, так нельзя говорить. Мадам Строганова просила меня постараться, чтобы ее муж пристроил к нашему магазину комнату, где можно было бы посидеть, выпить чашку кофе, привести кого-нибудь из друзей. Я так поняла, что ей хочется, чтобы Браццано мог приезжать сюда. А Анна и старик категорически запретили даже ей самой сюда являться, не только Браццано. Она же старается завербовать меня на свою сторону. И этот турок, такой страшный, тоже расточает мне немало любезностей.
– Только этого недоставало, – вскричал я с негодованием. – Как можете вы думать о такой низости? Неужели я ошибся в вас? И вы – злое, легкомысленное существо, неспособное оценить всей доброты и благородства, расточаемых вам? Как можете вы входить теперь в какие бы то ни было отношения со старухой? Мне непонятно, как мог Строганов жениться на ней, но мне понятно, что зависть к собственной дочери заставляет ее вести себя бесчестно. Но вы, вы, для которой Иллофиллион и Анна с отцом сделали так много?
Я был вне себя, огорчен, расстроен и не мог собрать ни мыслей, ни самообладания.
– Левушка, я понимаю, что здесь что-то не так. Но разве так плохо, если Анна выйдет замуж за этого турка?
– А сами вы вышли бы за него? – спросил я.
– Не знаю. Он противный, конечно. Но, может быть, и вышла бы.
– Ах, вот как! Значит, вы уже не та Жанна, которая хотела в мужья только Мишеля Моранье? Значит, теперь, если бы родители вас упрашивали, вы променяли бы свою любовь на адскую физиономию турка и его миллионы? – возмутился я.
– Не знаю, Левушка, не знаю. Даже не знаю, что со мной. Я так изменилась, так много страдала.
– О нет. Вы очень мало страдали, Жанна, если так скоро все забыли. Напрасно жизнь послала вам Иллофиллиона, капитана, Строганова, князя, которые опоясали вас, как кольцом, своей защитой и добротой. Напрасно они спасли вас и ваших детей от лихорадки и голодной смерти на пароходе. Было бы лучше умереть в нищете, но в высокой чести, чем жить в таких гнусных мыслях! – продолжал я кричать вне себя.
Жанна сидела неподвижно, вытаращив на меня глаза.
– Левушка, я все, все сделаю, как вы хотите. Только, знаете, – этот турок… Как только я его вижу, – ну, точно тяжесть какая-то наваливается на меня. Я становлюсь ленивой, глаза точно спят, ноги еле двигаются, и я готова слушаться его во всем. Сейчас с меня точно упали какие-то тяжелые сны, я легко дышу. Ах, зачем, зачем вы меня забросили, Левушка? – вздрагивая, сказала Жанна.
– Стыдитесь говорить такие слова. Кто вас забросил? Все мы возле вас, а Анна разделяет ваш труд, проводя с вами по шесть часов в день неразлучно. Бог мой, да когда же вы успеваете видеться с турком? И где вы его видите?
Жанна испуганно оглянулась и тихо сказала, что Строганова старается всегда устроить так, чтобы она встретила у нее турка. Даже просила Жанну передать ему, в его контору, письмо. И что только случайный приезд мужа домой не дал ей возможности вручить Жанне это письмо.
Я был в отчаянии. Но все же понимал, что только мое самообладание может помочь мне растолковать Жанне всю низость ее поведения и все ее предательство.
Воспользовавшись моим молчанием, Жанна выпорхнула из комнаты. Я же углубился в мысли о Флорентийце, моля его меня услышать и помочь мне. Образ моего друга, спасшего мне несколько раз жизнь за это короткое время, точно влил в меня успокоение. Мысли мои прояснились. Я почувствовал в себе уверенность и силу бороться за спокойствие и счастье Анны и ее отца.
– Левушка, скоро будет завтрак. Не хотите ли повидать в саду детей? – входя, сказала Жанна.
– О нет, Жанна. Если вы действительно полны чувством дружбы ко мне, как вы это неоднократно говорили, то мы должны договориться с вами о том, как вы будете вести себя в дальнейшем. Я не могу сесть за стол в вашем доме, если не буду уверен, что вы не носите в себе мыслей предательства и неблагодарности.
– Ах, боже мой! Вот какая я незадачливая! Я так обрадовалась, что проведу с вами часок без помехи, а теперь готова плакать, что доктор Иллофиллион не приедет.
– Если бы доктор Иллофиллион услышал половину того, что вы сказали мне сегодня, он, по всей вероятности, посадил бы вас на пароход и отправил из Константинополя. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, чтобы вы взглянули в свое сердце. Нет ли там зависти и ревности к Анне? Почему, понимая всю ее высоту, вы решаетесь принять сторону такого низменного существа, как этот турок Браццано?
– Я вовсе не завидую и не ревную. Мне никогда не захотелось бы, чтобы на меня смотрели не как на живую, горячую женщину, а как на изваяние, – возбужденно ответила мне Жанна. – Я, конечно, признаю все превосходные качества Анны. Но мы такие разные, что о дружбе между нами не может быть и речи. Но я, конечно, всецело чувствую себя обязанной ее отцу и понимаю мой долг…
– Какой долг вы можете понимать, – перебил я Жанну, – если у вас нет чувства простого уважения к чужой жизни, к чужой душе? Конечно, можно быть грубым и малокультурным существом и не различать ничего, кроме своих эгоистичных чувств. Неужели вы именно таковы? Неужели вы все свои слезы, все муки на пароходе забыли, как только почувствовали почву под ногами?
– Нет, Левушка. Я сейчас начинаю отдавать себе отчет, что какая-то сила, – помимо моей воли, – заставляет меня повиноваться турку. Я понимаю, что он ужасен, хочу защитить от него Анну и вовсе сейчас не хочу, чтобы он был мужем Анны. Но что-то находит на меня, мозг мой затуманивается, и я ему повинуюсь нехотя.
– Найдутся люди сильнее вас и защитят Анну от всех интриг против нее. Речь не о ней, а только о вас одной. Все зло, которое вы думаете причинить ей, ляжет только на вас одну, милая, бедная Жанна. Оглянитесь вокруг. Кто и что есть у вас в мире, кроме горсточки этих спасших вас людей? Если они отвернутся от вас, что вас ждет? И как вы можете жить с таким раздвоением внутри? Вы лицемерно обнимаете Анну и плетете вокруг нее паутину предательства.
Жанна молчала и о чем-то напряженно думала. Я же снова призывал всем сердцем своего далекого друга.
– Левушка, я понимаю все, но поймите и вы. Как только я вижу этого турка, я немею, каменею и ухожу всегда с какой-то навязчивой мыслью, что я должна его привести к Анне так, чтобы никто этого не знал и чтобы она была одна. Сейчас я ни за что этого не сделаю, но как только его вижу – я обо всем забываю и живу только этой мыслью.