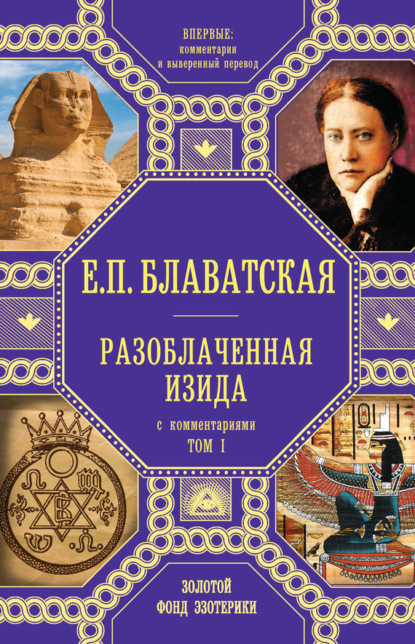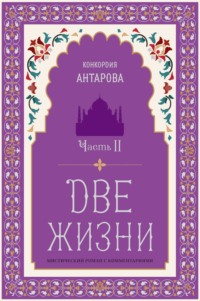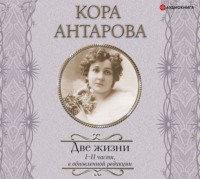Полная версия
Две жизни. Роман в четырех частях
Голоса сразу смолкли, и все глаза уставились на турка, желавшего провозгласить тост.
После довольно пространного прославления родителей – должно быть, так полагалось по восточному обычаю, но мне это показалось фальшивым – он перешел к виновнице торжества – младшей дочери. Речь свою он произносил на французском языке, заявляя, что выбирает его потому, что за столом есть люди, понимающие только этот язык. Он сказал это самым невинным тоном, будто бы выполняя элементарное требование вежливости, но что-то в его глазах, лице и всей фигуре было так едко и оскорбительно насмешливо, что кровь ударила мне в голову. Я не сомневался, что он внутренне издевался над Жанной, хотя формально все выглядело пристойно.
Анна, сидевшая раньше, опустив глаза, вдруг взглянула на меня своим бездонным взглядом, точно уверяя меня в суете и ненужности всего окружающего. Мне стоило усилий снова вслушаться в речь оратора. Голос его был ясным, повелительным, речь – правильной; необычайно четко он выговаривал все буквы до последней.
Наблюдая за самим оратором, я потерял нить его речи и собрался с мыслями только к завершению его длинного тоста, в котором, очевидно, и была вся соль.
– Вот перед нами не только жемчужина Босфора, которая могла бы украшать любой гарем, любой дворец, но женщина, для красоты и талантов которой всей земли мало. И что же мы видим? Женщина эта хочет самостоятельно трудиться, колоть свои прелестные пальцы иглой и булавками. Стыдно нам, мужчинам Константинополя, не сумевшим завоевать сердце красавицы, которая прелестней всех красавиц мира.
Но если уж нам это до сих пор не удалось, то мы объявляем себя ревнивыми телохранителями и не потерпим, чтобы кто-либо, не турок, отнял у нас наше сокровище. Я предлагаю тост за вечно женственное, за красоту, за страсть, за женщину, как украшение и добавление к жизни мужчины, а не как за работницу. Царственной красоте и царственное место в жизни, – закончил он. Он чокнулся бокалом со Строгановым и прошел вокруг стола к месту Анны.
Я не слышал, что сказала Анна Иллофиллиону, но видел ее молящий взгляд и его ответную улыбку и кивок головой.
Турок приблизился к нам. Все гости вставали со своих мест, чокаясь с Анной и хозяевами. На лице турка было выражение адской дерзости, злобы, ревности, как будто он на что-то решился, что-то поставил на карту, хотя бы это вызывало скандал.
Я задрожал: какой-то ужас вселила в меня эта адская физиономия.
Вдруг, шагах в трех-четырех от нас, турок весь побледнел, так, что даже губы его стали белыми. Он слегка пошатнулся, как будто порываясь идти вперед, а перед ним была непроходимая преграда. Он снова пошатнулся, схватился рукой за сердце. К нему бросились на помощь. Но он уже оправился, старался улыбнуться, но видно было, что он сам не понимает, что с ним происходит.
Когда он схватился за сердце, он выронил из руки браслет, как мне показалось, из розовых кораллов. Но, как после мне сказал Иллофиллион, браслет был из розовых жемчужин и розовых же бриллиантов – вещь неоценимой стоимости.
Очевидно, он хотел, тайно для всех, надеть эту драгоценность на руку Анны, а его внезапный приступ выдал его желание. Кто-то подал ему браслет, он с досадой положил его в карман и пошел к Анне, хотя шел теперь еле волоча ноги, сгорбившись и сразу став старым, почти безобразным.
Он с трудом чокнулся с Анной, поднявшейся к нему навстречу, не сказал ей ни слова, хотя глаза его готовы были выскочить из орбит, и, резко повернувшись, пошел обратно на свое место.
Я неотступно наблюдал за ним. Мне было странно, что, еле волоча ноги в нашу сторону, он имел силы так резко повернуться и пойти обратно. И еще более странно было его поведение дальше. Чем ближе он подходил к своему месту, тем легче и увереннее он шел. И, опускаясь на стул возле хозяина дома, он уже весело подшучивал над собой, говоря, что у него, должно быть, начинается грудная жаба.
Еще я не смог отдать себе отчета в том, что произошло, как снова шум и смех гостей был прерван звоном по бокалу; и на этот раз поднялся хозяин дома, очевидно, желая сказать ответный тост.
– Прежде всего я благодарю моего гостя за столь высокое прославление родителей «перла», хотя считаю себя совершенно недостойным таких похвал и вижу в тосте моего гостя обычай восточной вежливости. Что же касается тех граней между чистокровными турками и европейцами, между трудящимися и живущими за счет других, то… – он смешно подмигнул и продолжал: – Вот он, наш знаменитый оратор, считает себя турком. Имя его Альфонсо. Есть ли такое турецкое имя? А фамилия его – да-Браццано. Возможна ли такая турецкая фамилия?
Кругом раздался смех.
– Фамилия его говорит и об испанцах, и о маврах, и об итальянцах, – о ком хотите, только не о турках. А вот психология и воспитание нашего друга могут быть глубоко турецкими. Это уж дело его вкуса и склонностей.
В моей обрусевшей семье все трудятся. И если завтра я закрою глаза, то все члены моей большой семьи смогут твердо стоять на своих ногах и быть полностью независимыми материально.
Сегодняшний день я считаю самым счастливым, так как моя младшая дочь, единственный совершеннолетний член семьи, не имевший раньше самостоятельного труда, становится независимой хозяйкой большого дела. Я приветствую в ее лице всех трудящихся, образованных женщин. Женщин – не игрушек, а друзей своих мужей и детей. Да здравствует счастье труда, единственное верное счастье человека!
И Строганов точно так же, как турок, пошел вокруг длиннейшего стола к Анне, по дороге поцеловав руку своей жене. Я заметил в лице Строганова сильное волнение, когда он склонялся к своей жене, чокался с да-Браццано и со своим младшим сыном, пользовавшимся исключительной любовью матери.
На вид это был красивый юноша, с пепельными волосами, черными глазами и оливковой кожей, как у матери. Но было что-то животное, отталкивающее в этой красивой внешности. Было ясно, что для него образцом хорошего тона служил турок, который с ним был особенно внимательным и ласковым. Юноша был, очевидно, избалованным и изнеженным, испорченным баловством матери, и к тому же чрезвычайно высокомерным.
Я превратился в «Левушку – лови ворон», забыл все на свете и вдруг увидел за спиной юноши какое-то уродливое серое существо. Точно это был он же и не он, а его портрет лет через двадцать. По лбу и по всему лицу существа шли морщины. На руках торчали какие-то шишки, глаза из глубоких впадин сверкали, точно раскаленные угли. Рот злобно кривился.
Я не мог ни отделить этой второй фигуры от юноши, ни слить их воедино. Я поднял руку, готовясь закричать ему: «Берегитесь, прогоните злодея сзади вас», как рука моя очутилась во власти другой руки, и я услышал голос Строганова:
– Ну, и кого же сейчас точат ваши писательские шила? А, мой меньшой вас занимает. Ну, этот еще не трудится. Маменька его будит утром, собственноручно подавая в постельку шоколад. Меньших обычно считают младенцами, хотя бы они уже перещеголяли стариков своим опытом.
Обнимемся, Левушка. Я вижу, вы моей царственной розе Босфора по сердцу пришлись, а это бывает редко.
Я едва мог ответить на его объятие и то только потому, что Иллофиллион, подошедший к Жанне, сжал мою руку и шепнул: «Думай о Флорентийце».
Все снова сели, и когда подали торты и мороженое, заказанные нами, за столом раздались возгласы удовольствия. Вероятно, хозяин кондитерской хорошо знал вкусы константинопольской публики.
Анна, тихо говорившая с Иллофиллионом, повернулась ко мне, и ее черные глаза пристально посмотрели на меня.
– Ах, Анна, как я несчастен. Хоть бы скорее кончился этот бесконечный обед. И зачем это людям есть так много. Мне положительно кажется, что с самого приезда в Константинополь я только и делаю, что ем да сплю. Да еще к тому же наблюдаю, как схожу с ума, – жалобно сказал я.
Ее нежная рука погладила мою лежавшую на колене руку, и она ласково сказала:
– Левушка, придите в себя. Я всем сердцем вам сочувствую. Мне так хотелось бы чем-нибудь быть вам полезной. Смотрите на меня как на самую близкую, любящую сестру.
Голос ее был так нежен, столько доброты лилось из ее глаз ко мне, что я чувствовал, что вот-вот не выдержу. К моему горлу уже подступало рыдание, как вдруг я заметил приблизившуюся ко мне руку Иллофиллиона и на салфетке увидел пилюлю Али. Я схватил пилюлю как спасительный круг, быстро проглотил ее и, к моему облегчению, услышал шум отодвигаемых стульев.
Гости разбрелись по балконам и гостиным, где был приготовлен черный кофе по-турецки.
Я молил Иллофиллиона не оставлять меня одного и поскорее уехать домой. Мы вместе с князем вышли на балкон, где уже сверкало алмазами звезд темное небо и, казалось, что прошел дождь, так как кое-где на деревьях дрожали капли воды и особенно сильно благоухали цветы.
– Вот она, южная благоуханная ночь. Но если ты думаешь, что видишь капли дождя, то ошибаешься. Это Строганов приказал полить деревья, цветы и дорожки, чтобы не было так душно. Ты хочешь уехать. А разве ты не хочешь послушать игру и пение Анны? Не будь эгоистичен, – сказал, понизив голос, Иллофиллион. – Ты ведь понимаешь, что без нас Анне будет тяжелее здесь сегодня. Неужели ты не понял, что великая сила чистой любви и воли помогла мне защитить ее от этого адского турка.
– У меня к вам очень большая просьба, доктор Иллофиллион, – сказал внезапно все время задумчиво молчавший князь.
– Я буду более чем рад служить вам, князь, – очень живо ответил Иллофиллион.
– Видите ли, я все время ищу какой-либо возможности отплатить вам за вашу доброту ко мне и моей жене. Но все способы, которые я перебираю в своем уме, мне кажутся вульгарными. Но вот как будто я нашел один, хотя и в данном случае более, чем где-либо, можно упрекнуть меня в эгоизме. К вам должен приехать друг. Вряд ли ему будет приятна суета отеля. В моем же большом и пустом доме есть две комнаты с совершенно отдельным входом.
Рядом с этими комнатами пустуют еще три. Я уже договорился со Строгановым и могу начать их отделывать. Через два дня все будет готово, меблировано, и я куплю отличный рояль, чтобы и ваш друг, и Анна могли на нем играть в моем доме, если им это захочется.
Для спутника вашего друга есть комната в бельэтаже, имеющая сообщение со всем домом и, по особой лестнице, с комнатами, предназначенными для Ананды и для вас с Левушкой. Как видите, я уже все обдумал. Не откажите мне перед скорой разлукой в счастье иметь вас своими гостями!
Голос князя был тихий, почти умоляющий. Иллофиллион близко подошел к нему, подал ему руку и сказал:
– В какой бы форме я ни принес вам своей благодарности, наиболее важным будет упомянуть, что редко помощь от людей приходит так кстати и вовремя, как ваше предложение нам. Мы с Левушкой устали от суеты отеля, а наш друг уже давно нуждается в отдыхе. Я благодарю вас от лица всех нас. Мы будем очень рады пожить в вашем тихом доме, так как задержимся здесь, вероятно, еще около месяца.
– Какое это счастье для меня! – воскликнул князь.
На пороге балкона появилась женская фигура, и я узнал Жанну, звавшую нас пить кофе. Что-то меня в ней поразило, и я только при свете огня понял, что она переоделась в другое платье. На мой вопрос, зачем она это сделала, она сказала мне, что в Константинополе такая традиция, чтобы на парадных обедах дамы к кофе меняли туалеты.
Действительно, я увидел Строганову в легком платье сиреневого цвета, что шло к ее волосам, но составляло резкий контраст с ее кожей. Быть может, это было и хорошо, но мне не понравилось.
Я стал искать глазами Анну, мысленно решая, в платье какого цвета я хотел ее видеть. И ни в чем, кроме белого, мне не хотелось рисовать в своем воображении ее чарующую фигуру.
Как же я обрадовался, когда увидел ее в том же самом туалете. Осмотрев платье Жанны, со множеством мелких оборочек ярко-зеленого цвета, я вдруг сказал ей:
– Я не парижанин, а всего лишь не бывавший в свете мальчишка. Но на вашем месте я ни в коем случае не оделся бы в это вульгарное платье. Первый ваш туалет был скромен и мил, он был только рамкой для вас. Что же касается этой зелени, то она убила вас и кричит о дурном вкусе. Ради бога, не делайте шляп в таком же стиле. Вы разгоните высший свет и соберете в свой магазин базар.
– Это потому, – чуть не плача говорила Жанна, – что первое платье я выбрала сама, а второе мне подарила мадам Строганова.
К нам подошли князь и Иллофиллион, и мы сели в уголке пить кофе. На диване за центральным столом сидела Анна, а возле нее на кресле – зловещий да-Браццано.
Он, не сводя с нее глаз, что-то ей говорил. Лицо ее было холодно, точно маска легла на него, закрыв все возможности читать душевные ее движения. Только раз глаза ее поднялись, обвели комнату и с мольбой остановились на отце. Он сейчас же отошел от своего кружка и сел на диване рядом с нею.
– Ну, друг доченька, хочу выпить чашку кофе, налитую твоими милыми ручками, – улыбаясь, сказал он ей.
Анна встала, чтобы налить ему кофе, и я снова увидел в глазах турка бешенство и ненависть. Но он улыбался и глотал свой кофе, вполне владея собой.
– Лоллион, я просил вас не оставлять меня. Но я сейчас крепок, как если бы сам Али был тут, а не только его пилюля во мне. Мне кажется, если этот сатана будет находиться возле Анны, она петь не сможет. Неужели вы не можете его так скрючить, чтобы он вовсе убрался, – шептал я.
Иллофиллион засмеялся и сказал, что верит в мои силы и самообладание, и подойдет к столу Анны. Но просит меня, как только начнется музыка, сесть непременно рядом с ним, где он займет мне место. Лучше всего же будет, чтобы я сразу подошел к нему, как только начнутся разговоры о пении. Поговорив еще немного с князем и Жанной, он перешел к столу Анны, куда, как к магниту, стали собираться мужчины.
Последовало снова долгое кофепитие.
– Знаете, князь, я бы не смог жить на Востоке, – сказал я князю. – Однажды я был на настоящем восточном свадебном пиру. Там все присутствующие были разделены на мужскую и женскую половины. Я видел, конечно, только пир мужчин. Они ели руками, ели до отвала, до седьмого пота, под унылую восточную музыку. Это было варварским, хотя и красочным, действом. Здесь же все выглядит цивилизованным, – но все так же точно объедаются до пота. Только вытирают его не сальными руками и рукавами, а душистыми носовыми платками.
Ну, скажите, разве не варварство так уставать от еды. Дойти до такого изнеможения, как эта группа людей, сидящая против нас, – кивнул я на нескольких гостей, сидевших в полном отупении на диване и креслах в противоположном от нас углу и тяжко переваривавших пищу.
Тут раздались просьбы о том, чтобы послушать пение и музыку. Многие просили спеть Браццано; он ломался и, воображая себя героем, отвечал, что не особенно здоров, но попробует все же. «Лучше тебе и не пробовать», – ехидно думал я и решил во что бы то ни стало умолить Иллофиллиона дать ему какую-нибудь каплю лекарства, чтобы он охрип и, что называется, «дал петуха».
Обуреваемый этим желанием, я забыл все на свете правила вежливости, бросил своих друзей и побежал к Иллофиллиону. Схватив его за руку, я стал его умолять помочь турецкому бретёру осрамиться.
– Какой ты еще мальчишка, Левушка, – смеялся надо мной Иллофиллион.
– Лоллион, миленький, добрый, хороший, не дайте этому злодею мучить Анну. Наверное, у него и голос такой, что ему только куплеты сатаны петь, – шептал я.
– Уймись, Левушка, – очень серьезно сказал мне Иллофиллион. – Наблюдай и вглядывайся во все. Запомни все, что сегодня видишь и слышишь. Многое поймешь гораздо позже. Для Анны и некоторых других сейчас идут такие минуты, которые решат всю их дальнейшую жизнь. Будь серьезен и не шали как мальчик.
Он почти сурово поглядел на меня.
Вся толпа гостей, предводительствуемая хозяином, двинулась в большой вестибюль, не тот, через который мы вошли, а в середине дома. Там по широкой, красивой лестнице мы спустились вниз, в большой круглый концертный зал, принадлежавший Анне. Ах, какая это была чудесная комната! Там были мозаичные деревянные полы и стены, посредине рояль, вдоль стен небольшие кресла, две-три вазы на постаментах и несколько картин и мраморных фигур.
Когда Анна подошла к роялю, я забыл все. На ее лице играла улыбка, глаза сверкали, на щеках горел румянец. Это была не та Анна, которую я неоднократно видел. Это была фея, существо неземное. И если до сих пор мне казалась Анна особенной, не такой, как все, кто ее окружает, то теперь я понял, что по земле еще ходят неземные существа, низводящие небо на землю.
Она заиграла. Я сразу узнал сонату Бетховена.
Но до сих пор я не понимаю, как не только я, но и все мы могли вынести эту музыку. Что-то безумно захватывающее было в ней. Казалось, сверхъестественная сила вселилась в Анну. Чередование страсти, какого-то зова в неведомое, недосягаемое, а потом вдруг озарение, и вновь вопросы, и голос неизбежной судьбы…
Я плакал, закрыв лицо руками, и слышал, как плакал возле меня князь. «Вот он, серый день, претворенный в сияющий храм», – думал я.
Звуки смолкли. И никто не прерывал молчания. Иллофиллион сжал мне руку, точно призывая к самообладанию. И было время.
– Ну, всегда ты, Анна, расстроишь всех своей игрой и испортишь праздник, – раздался неприятный, слегка гнусавый и капризный голос ее младшего брата. – Сыграла бы лучше Шопена, показала бы весь блеск своей игры. А то навела туману своим Бетховеном.
Мне так хотелось отколотить этого будущего бретёра.
– Если тебе не нравится, можешь уйти отсюда, чем много меня обяжешь, – сказал ему отец тихо, но такая гроза была в его лице, что невоспитанный мальчишка, как трусливый щенок, немедленно спрятался за маменькину спину. Та погрозила кокетливо пальчиком, улыбаясь ему, как нашалившему пятилетнему пупсу.
Но этот пошлый эпизод не смог испортить огромного впечатления, созданного Анной.
Под напором просьб она снова стала играть. Но больших вещей она уже не играла, и, казалось, какая-то частичка ее существа улетела вместе с первой сонатой. Того сверхъестественного вдохновения в ее игре уже не было.
Мне хотелось убить негодного мальчишку за его грубое вмешательство.
Анна встала и объявила, что ни играть, ни петь она больше не будет, но если есть желающие, она будет аккомпанировать.
Да-Браццано поднялся и сказал, что он не может не спеть под такой волшебный аккомпанемент.
Я взглянул на Иллофиллиона. Лицо его было сурово, ох как сурово – точно перед бурей на пароходе. Он посмотрел на Анну, точно посылал ей силы.
Турок поправил воротник, одернул жилет и заявил, что споет песнь, в которой выльет тайну своего сердца.
Воцарилось молчание. Он объявил, что будет петь серенаду Шуберта.
Я вздохнул, в ужасе взглянул на князя, потом на певца, который был похож скорее на тореадора, пылающего адским огнем, чем на нежного любовника, призывающего вникнуть в смысл песни соловья, молящей, трепетной, – и едва удержался от смеха.
Анна не нуждалась в нотах. Она взглянула на Иллофиллиона, брови ее чуть поднялись, руки нежно коснулись клавиш.
– «Песнь моя летит с мольбою…» – вдруг заревел здоровенный бас, точно пароходный гудок.
Я фыркнул, нагнулся, спрятался за Иллофиллионом. Когда же этот рев поднялся до высокой ноты, произошло нечто совершенно неожиданное. Ревевший точно бык бас вдруг превратился в тоненькую фистулу, такую поганенькую, что во всех углах зала сразу раздался смех… Мы с князем хохотали, не сдерживаясь. Анна с удивлением смотрела на певца; на лице ее не было усмешки, на нем отражалось лишь чувство недовольства и досады. Очевидно, в ней говорила больше всего оскорбленная артистичность.
– Нет, не могу, я болен сегодня, – сказал, пытаясь улыбнуться, певец. Ни на кого не глядя, он вышел из комнаты.
Хозяйка дома и ее любимый сын бросились за ним, остальные гости, сконфуженные, давясь от смеха, стали разъезжаться.
Мы вышли последними вместе с Анной, Строгановым, князем и Жанной. Сердечно попрощавшись с хозяевами, мы обещали зайти завтра в магазин к шести часам, чтобы узнать, как прошел первый рабочий день.
Глава 19
Мы в доме князя
Прошло еще два суетливых дня нашей гостиничной жизни, с ежедневными визитами к Жанне и князю и с путешествиями с капитаном по городу.
Несмотря на все хлопоты и неприятности, валившиеся на него со всех сторон, от которых он даже похудел и его желтые глаза стали огромными, этот милейший человек урывал два-три часа в день, чтобы показать мне достопримечательности города.
Я и позже встречал в жизни много добрых и внимательных людей. Вообще мне везло на счастливые встречи. Но такого сердечного, искреннего внимания от чужого человека я уже никогда больше не видел. Я, конечно, не говорю о моем друге Флорентийце и его близких друзьях, таких как Иллофиллион, Ананда, Али. Я говорю об обычных людях высокого культурного уровня.
Утром на третий день, едва мы сели завтракать, к нам вошел князь. Он объявил, что приехал с двумя слугами, которые поступают в наше полное распоряжение и помогут перевезти нас к нему домой.
Иллофиллион обрадовался этому известию, а я не мог понять своего состояния. Мне точно не хотелось ехать в новое помещение. То мне думалось, что именно в этом переезде причины нашей задержки в Константинополе, то казалось, что капитану будет труднее забегать ко мне в удаленную от центра часть города. Конечно, корень моего недовольства лежал в том, что проще всего я чувствовал себя с капитаном; я как-то отдыхал в его присутствии и боялся, что буду разлучен с ним.
Как раз в минуту моих сомнений вошел капитан. Узнав, что мы сейчас переезжаем к князю, он, видимо, огорчился.
Не успел я отдать себе в этом отчет, отправляясь собирать вещи для переезда, как услышал голос князя:
– Я очень хочу обратиться к вам, капитан, с просьбой, но не знаю, как вы ее примете. Наши общие друзья переезжают ко мне. Если вы пожелаете, рядом с комнатой Левушки есть отличная пустая комната. Меблировать ее ничего не стоит, и вечером вас ждало бы некоторое подобие семейной жизни, – улыбаясь, говорил князь.
– Я чрезвычайно благодарен вам, – ответил капитан. – Но друзья наши переезжают к вам, чтобы избавиться от суеты. А я – одна суета и беспокойство.
– Нисколько, капитан, – прервал его Иллофиллион. – Дом князя такой большой и удобный. При нем есть сад с беседками, и вообще, кому захочется уединения, тот его там всегда найдет. Кроме того, ведь вопрос вашего пребывания здесь – дни, а нашего – недели. И познакомиться с Анандой, поговорить и побыть с ним будет вам гораздо удобнее, если вы будете жить с нами. К тому же, – прибавил он с юмористическим, столь знакомым мне блеском глаз, – в доме князя есть рояль. Я постараюсь еще до приезда Ананды уговорить Анну поиграть нам как-нибудь вечером, чтобы отпраздновать наше скромное новоселье. А ведь Левушка уверял вас, что игра Анны раскроет вам понимание музыки и высокой общественной роли женщины, одаренной музыкальным талантом, – посмотрев на меня, закончил Иллофиллион.
Я густо покраснел, хотел упрекнуть моего друга за насмешку надо мной, но желание уговорить капитана переехать вместе с нами превозмогло все.
Я бросился ему на шею и, должно быть, так искренне, по-детски, умолял его принять великодушное предложение князя, тот, со своей стороны, еще раз его повторил, Иллофиллион тоже убеждал его усиленно, что в результате капитан развел руками, покачал головой и сказал:
– Ведь переезд в чужой семейный дом, да еще в таком близком соседстве с вами, доктор Иллофиллион, – это для меня род монастырского заключения! Я ведь так привык вести беспорядочную жизнь!
– Ну, капитан, если вы действительно интересуетесь нашей внутренней жизнью, как вы неоднократно говорили, и хотите подумать о многом, что давно складываете в запасники ума и сердца, а также поговорить с настоящим мудрецом, и ваши намерения серьезны, – несколько дней чистой жизни не составят для вас трагедии, – вставая, сказал твердо Иллофиллион.
– Конечно, доктор Иллофиллион, я не о трагедии воздержания думал, когда колебался. Я просто сознаю себя мало достойным того внимания, которое вы все мне оказываете!
– Ну, это уже пошли подробности! – закричал я. – Вы, главное дело, поскорее соглашайтесь, чтобы я мог идти собирать мои вещи. А то вы ведь не знаете молниеносных темпов Иллофиллиона. Не успею я уложить один-единственный костюм, как он явится, уже упаковав все свои вещи, и станет упрекать меня в ловиворонстве.
Все засмеялись, капитан джентльменски поклонился князю, благодаря и принимая его предложение, и обещая вечером, к семи часам, быть с матросом-верзилой на месте, в его доме.
Я с радостью побежал собирать свои вещи, что, с помощью слуг князя, очень скоро сделал. Мы расплатились в отеле и сели в коляску князя; слуги должны были доставить наши вещи в дом князя.
Мы сделали по городу большой крюк, так как Иллофиллион счел необходимым нанести визит синьорам Гальдони, у которых мы еще не были под предлогом моей болезни. Я был очень рад, что мы их не застали дома. Передав свои визитные карточки, мы приехали наконец в дом князя. Иллофиллион прошел прямо к княгине, попросив нас разместить его вещи, как нам заблагорассудится.