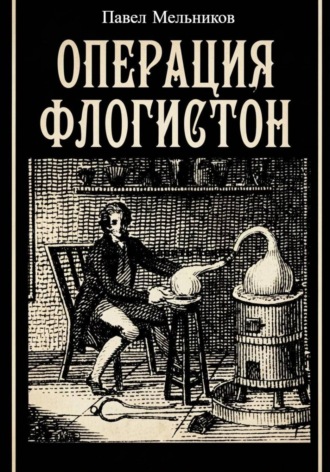
Полная версия
Операция Флогистон
К слову, поскольку более всего писем и прочей корреспонденции в уезде приходило в Боголюбово, то даже анахорет граф Данил Ильич не мог не завести с почтмейстером хорошего знакомства. Оба они нашли друг в друге интересного собеседника, особенно же объединила их любовь к шахматам. У Марка Антоновича вскоре вошло в привычку раз в месяц лично привозить мешки с корреспонденциями в усадьбу его сиятельства, а затем коротать вечер за партией в игру – и, разумеется, за приятной беседой. Данилу Ильичу гость его – по виду совсем не чета петербургским вельможам да генералам – отчего-то внушал странный необъяснимый вопрос, точно загадка, которую непременно хотелось разгадать. Что-то было в Марке Антоновиче такое, что изгнаннику иной раз чудилось, что сам он по сравнению с тем сущее дите. Например, удивительный старичок довольно скоро и легко понял всю самую суть политических идей своего собеседника, и, – судить по чуть заметному покачиванию головой, – не просто понял, а также нашел в них и некий изъян, о коем, впрочем, предпочел не говорить. В то время как сам Данил Ильич постичь заветные думы Марка Антоновича вовсе не сумел. К примеру, наш граф удивлялся: зачем, дескать, вы, любезнейший Марк Антонович, даете всем в долг, зная, что не вернут? А тот знай себе улыбается. Лучше, отвечает, довериться десяти обманщикам, чем не оделить доверием одного честного, вот так, мол, я мыслю, дорогой мой граф Данил Ильич… Что еще следует отметить, любимой темой Марку Антоновичу служили тонкости уездных обычаев, в которых он разбирался, наверное, как никто другой. Слушая его, бывало, Данил Ильич невольно жалел, что не узнал о всем том раньше, глядишь, и как-нибудь по-другому бы завершился тот его давешний вояж… Так что, вероятно, наш старичок впрямь был не прост, о чем можно предположить по его удивительной за уездной жизнью наблюдательности. Но все ж главными в нем качествами были – доброта да безотказность.
Чем помещики и решили воспользоваться к своей сугубой пользе.
Выбрав Марка Антоновича мировым посредником, они окружили его плотной «опекой», не выпуская из своей компании. Даже перед домом его днем и ночью дежурил караул, чтобы не пропустить ходатаев из крестьян. В результате, слыша аргументы только одной стороны и не находя душевных сил им отказать, Марк Антонович в каждом земельном разбирательстве – ныне тут и там вспыхивавших по всему уезду – неизменно принимал сторону помещиков. Отчего, во-первых, крестьяне наши начали совсем походить на тучу, копящую в себе грозовой заряд. А во-вторых, сам мировой посредник, чувствуя несправедливость своих решений, страшно казнился совестью, стал слабеть и чахнуть. И Бог весть, к чему б привели его угрызения…
…если бы однажды не явилась к нему Мария Даниловна (церберы у почтмейстерского дома, ясное дело, остановить ее сиятельство не осмелились). Вольнослушательница юридических курсов – с присущим ей напором – на раз-два убедила бедного Марка Антоновича взять себя в помощницы. И тут началось!
Теперь на разбирательство очередного спора старичок, чрезвычайно под взглядами помещиков конфузившись, являлся в сопровождении юной графинюшки – обескураживающей девичьей свежестью, стриженной диковинным образом, в очках и с томами законов подмышкой. Горячо споря и отстаивая свои доводы по букве юридической науки, поборница справедливости всякий раз доказывала правоту крестьян – в результате чего к тем во владения переходили где удобный выпас, где заливной луг, а где целое поле. Помещики, хоть скрипели зубами, но вынуждены были смиряться. В свою очередь, Марк Антонович, совсем было захиревший, воспрял духом, да и крестьяне наши, вспомнив свой тихий нрав, начали уж было успокаиваться.
Но как же, зададимся вопросом, на это все смотрел граф-родитель? Напомним, в эти же дни Данил Ильич все время посвящал раздумьям о происходящем в России, потому и не придавал сильного значения затеям Марии Даниловны. Вернее, не то что не придавал. Как мы говорили, для его сиятельства уже была радость, что графинюшка на какое-то время вернулась в усадьбу. Вместе с тем, отец не сомневался, что рано или поздно та натешится несерьезными этими забавами и выберет себе партию из весьма немалого числа блистательных кандидатов (каковые все знай слали в Боголюбово письма с признаниями в любви да официальными выражениями матримониальных намерений).
Почему, спрашивается, несерьезными? Перво-наперво, Железнобокий совершенно не одобрял новомодную эту причуду «l'amour du peuple». Как, впрочем, не любил он любую благотворительность, видя в оном явлении более вреда, чем пользы, и напротив уважая известную мудрость о рыбе и удочке. «Народничество» же понималось его сиятельством именно как форма благотворительности, т.е. дело, заведомо не решающее проблем своего предмета, а только служащее к душевной радости того, кто этим делом занимается.
Но главное даже не это. Проницательный взгляд Данила Ильича уловил перемену, случившуюся с наследницей за четыре года в столице. Если в детстве Мэри смотрела на дворню и на деревенских, как на равных, не понимая разницы между собой и ними, то теперь в ее взгляде это понимание присутствовало. И если, скажем, в прежние времена графская дочь запросто водилась со своими плебейскими сверстниками, то теперь она предпочитала таковому общению почитать что-нибудь из сочинений господ народных печальников. Вот и все «народолюбство», смекнул родитель, было сродни детским играм, только теперь наследница придумала вызов сама себе.
«Ну раз так, рассудил граф, пусть поиграется. Ибо юность на то и дается человекам, чтоб именно в эту пору подурить да набить шишки, дабы во взрослой жизни тверже стоять на ногах…»
И потом, какое же удовольствие было Данилу Ильичу, когда по семейной традиции отец с дочерью пили за завтраком чай. (Также за столом с ними присутствовал еще воспитанник Никиша. Но тот всегда скромно отмалчивался, так что был заметен не более приносивших чай и бисквиты лакеев). Ах, с каким воодушевлением рассказывала Мэри про защиту крестьянских интересов, а родитель не без гордости подмечал, как светятся умом глаза ее, как хорош цвет лица и как вся она полна жизнью. Благословенные то были минуты!
Возможно, его сиятельство обеспокоился бы тем обстоятельством, что ввиду обширности нашего края, графинюшка нередко возвращалась с тяжб в дальних деревнях и поместьях в часы поздние, и по нынешним временам небезопасные. Но возвращалась каждый раз ее сиятельство не одна, а в сопровождении какого-нибудь из уездных барчуков, натурально, возмечтавших о баснословно выгодной женитьбе. (Ну об этом Данил Ильич тем более не волновался: у здешней мелкотравчатой поросли своя порода, а у ее сиятельства – своя!)
Впрочем, верно не только из меркантильных видов увивались уездные женихи вокруг ее сиятельства, а может и совершенно не из-за них. Что есть, то есть, графская дочь являла барышню, какой сложно не увлечься; особенно ж хороши были улыбки и смех ее, кои она расточала с той легкой щедростью, как солнце в июльский день одаряет мир теплом и светом… Ай, что уж там, – не чета кисейным барышням, Мария Даниловна не была чужда флирта. Будучи с детства отчаянной сорвиголовой, дочь его сиятельства во многом сорвиголовой и осталась, все ей было интересно, все хотелось успеть и ничего не упустить. Само собой, игры эти не выходили за известные рамки, да и увлекало Мэри не столь мужское внимание per se, а возможность повеселиться, походу выявляя кто чего стоит. Когда парочка верхом на лошадях – а Мэри всегда скакала в мужской посадке на любимой огненногривой Молнии – достигала уже ворот усадьбы, то обыкновенно ее сиятельство выкидывала такую штуку. «Не изволите ли, сударь, – спрашивала с невинным видом, – немножко размяться?» – и каблучками в лошадиные бока. Разогнав Молнию как следует, озорница легко перемахивала пятисаженный овраг между усадебной изгородью и овсяным полем. Ох, куда нашим недорослям да обжорам до такого было! Судорожно дергая удила, те останавливались в нерешительности, а то, бывало, и из седла вывалясь в придорожные лопухи…
…В общем, родитель к похождениям любимицы относился без особых переживаний. Ну и зря, вестимо, ибо помещик-то помещику – рознь.
Когда Мария Даниловна вместе с добрейшим Марком Антоновичем отсудили в пользу крестьян шесть десятин сенокоса у нам уже знакомого Климента Ларионовича Сысоева в воздухе запахло грозой. Климент Ларионович признавать поражение не пожелал. Едва один из деревенских попробовал только подойти к лугу, самодур достал из кармана затрапезного халата двуствольный дерринджер и выстрелил! Несчастный упал замертво. Зато другие мужички бросились на злодея, себя не помня.
На беду Марк Антонович попытался остановить разъяренную гурьбу, вклинясь между ними и помещиком, ему и досталось. Кто-то – к несчастью то был кузнец Афонька, силу имевший что твой бык – сгоряча спутавши тщедушного старика с супостатом, так саданул ему кулачищем в висок, что божий одуванчик рухнул как подкошенный.
Мгновенная кончина Марка Антоновича, которого любил весь уезд, заставила крестьян остановиться в смятении. Воспользовавшись сей паузой, Сысоев пререзво побежал к себе в поместье, сразу закрыв крепкие ворота на засов.
Но что же Мария Даниловна? Видя картины смертоубийств, сначала первого, а затем второго, та повела себя как повела бы любая девица, будь она хоть разграфиней. То есть сперва совершенно оцепенела (хорошо в самом начале кто-то из мужиков успел подвинуть ее в сторону от схватки), а как пришла в себя, так давай кричать во весь голос. От крика ее и мужики очнулись. Рассудив, что бунтовать так бунтовать, Афонька махом перекинул голосившую барышню через полусаженное плечо, да и пошагал ровным ходом в деревню. Прочие же, не придумав ничего иного, хмуро последовали за ним.
А еще через час над окрестными селами зазвонили колокола, созывая крестьян на всеобщий сход.
Часть вторая
All or nothing!
IК вечеру в деревне Сысоевке собрались до полутысячи мужиков и самых отчаянных баб со всей округи. Было всем ясно, что с двумя смертями, мужицкой и дворянской, старым порядкам в уезде настал конец. Но если прежней жизни не будет, то какова будет жизнь новая?
Самые ожесточенные – они кучковались вокруг кузницы Афоньки – предлагали идти сжигать все дворянские гнезда без разбора. Их из всех мужиков было три-четыре дюжины, почти все бобыли да бездельники, не имевшие за душой копейки. Ставший во главе непримиримых Афонька вовсю распоряжался и хлопотал. В кузнице без остановки шла работа: точились топоры, ножи да косы – зловещие эти звуки плыли в воздухе над окрестностями, не предвещая ничего хорошего.
Основная масса, впрочем, от кузницы держалась подальше. Настоящим центром притяжения стала изба старосты, где за столом сели рядить наиболее уважаемые в наших деревнях патриархи семейств. Час, два и три, пока многочисленная толпа крестьян терпеливо ждала, думали старики о том, как поступить миру далее. И наконец надумали решение по-своему весьма хитроумное.
Когда уже к закату в Сысоевку примчался из города исправник Пантелеймон Григорьевич, потребовав немедля выдать убийцу и всем разойтись по домам, то было ему объявлено, что вести переговоры мир согласен только… с графом Овчинниковым.
– С ссыльным? С какой стати? – оторопел служивый, дергая сивый ус.
Дело в том, что Пантелеймон Григорьевич получил назначение в наш уезд только чуть более года назад. А до этого, сам происходя из крепостных, много лет тянул солдатскую лямку, за усердие выслужив офицерский чин прапорщика, дающий личное дворянство – в ознаменованье чего им была взята фамилия Офицеров. Карьера личного дворянина, обучившегося и грамоте, и прочим господским знаниям, быстро пошла в гору, и вот вышло так, что за неимением других желающих, бывший крепостной стал исправником в Залесском уезде. Что есть, то есть, никто особо не стремился становиться блюстителем в столь захолустной местности, где даже и помощников-то не полагалось ввиду тихой и бессобытийной до сонного одурения жизни. Пантелеймон Григорьевич же отказываться не стал, тем более, что производство в чин надворного советника давало дворянство уже полноценное, потомственное.
За год г-н Офицеров явил себя служителем закона на удивление честным и толковым, поэтому снискал всеобщее уважение. Если, скажем, поначалу помещики переживали, что исправником станет бывший мужик, то скоро все свое мнение переменили. Ни краж, ни иных злоумышлений никогда у нас не водилось, единственными же нарушениями закона случались пьяные бедокурства. Вот Пантелеймон Григорьевич (сам вина не терпевший) и закрыл немедля все кустарные винокурни, прозываемые почему-то у нас «ямами». После этого даже самые оголтелые куролесники волей-неволей в разум пришли, так что жизнь в уезде стала еще спокойнее, как тут, спрашивается, всем не нарадоваться. А еще нашим пришлась по сердцу редчайшая манера нового исправника не принимать мзды ни от кого и ни в каком виде. От этого и жил блюститель весьма скромно в домике при полицейской конторе, и не иначе по бедности так к пятому десятку и не оженившись.
Скажем также о господине Офицерове (ибо он в нашей истории появится еще не раз), что был тот медвежьей стати, все еще в расцвете сил, и что во всей его натуре чувствовались основательность и знание себе цены. Несообразием же в нем были только малюсенькие темные глазки-пуговки, странно смотревшиеся на большом с большими же чертами лице.
Разумеется, человеку у нас новому было весьма занятно: как так вышло, что граф Данил Ильич, хозяин богатейшей уездной усадьбы, оказался от остального общества наособицу? От бомонда служивый был наслышан про безумные взгляды ссыльного (в сильно, как водится, утрированном виде), но и только. Всей картины, проясняющей ситуацию, у него покамест не сложилось…
Зато уездные крестьяне прекрасно помнили, что его сиятельство – дочь коего ныне волею судьбы оказалась у них на положении заложницы, – старался помочь мужикам, за что был прозван «добрым барином».
– Покуды мы с Данилой Ильичом не обговорим, – твердили свое патриархи, – с места нам не сдвинуться! А мужицкая толпа за их спинами согласно вторила.
…В Боголюбово Пантелеймон Григорьевич прискакал уже к ночи. Услышав от уездного блюстителя те новости, которые он от него услышал, Данил Ильич на миг провалился в ступор… но именно на миг! Далее, попросив исправника присмотреть за порядком в усадьбе, граф собрался в два счета.
Уже через несколько минут Железнобокий скакал верхом на могучем вороной масти форобрэде Милорде, а оба кармана его сюртука оттягивали многозарядные пистолеты – выписанные из Америки изобретения г-на Самуила Кольта.
***
Ну а пока Данил Ильич преодолевает путь через рощи и луга от Боголюбово к Сысоевке, мы, раз явилась такая оказия, ввернем еще пару слов о здешнем уезде и его обитателях.
Видит Бог, много нами укоризненного было сказано про Залесский край. Мол, и глушь сиволапая, и народец невежественный. Все это, само собой, так… А только и в этаком не хватающем звезд с неба уголке найдется свое очарование. Найдется, поверь, читатель! Взять хоть местных людишек. Да, не спинозы, но ведь и не нехристи какие. А разговори-ка заурядного уездного обывателя, обнаружишь в нем за внешней грубостью да угрюмостью столько душевного огня, что куда там иссушенным манерностью столичным жителям. Или вот – природа наша, раскинувшаяся во всю первозданную ширь и мощь. Ей-ей, простор такой теперь только и сыщешь в местах, где человек не успел развить бурную деятельность, где не заведено больших городов и промыслов. Леса наши – не просто леса, нет. Непознанный мир, коий мы посещаем с благоговением и трепетом в душе. Только в лесу, скажем, встретясь помещик и крестьянин представали друг другу братьями во Христе, спокойно и на равных друг с другом разговаривая. Ибо в лесу с человека сходит все лишнее, чуждое, весь он тут на виду перед святой и нечистой силой. А из всех времен года самая-самая благодать у нас, пожалуй, именно как нынче в бабье лето. Самое лето, может, не так хорошо, как эти погожие раннеосенние деньки и ночки, в коих совмещено лучшее от того и другого времени. Эка же свежо на душе от прохладных хвойных воздусей, от таинственных шорохов (уж не леший ли это с кикиморами за тобою крадутся?), от ярких звезд в небе… Да, можно понять бедного Марка Антоновича, некогда променявшего столичную суету на бодрящие и неохватные эти раздолья, еще как можно!
Ну и раз зашла о том речь, выскажем еще такую мысль, которая многим может показаться возмутительной, предосудительной и непристойной. На самом-то деле, между уездными дворянами и крестьянами и не найдешь сильной разницы, а напротив – больше общего. Чтобы не прослыть голословными, приведем тут две истории, способные, на наш взгляд, многое сказать о здешнем народце.
Первая случилась с полвека назад, в год наполеоновского нашествия. Последнее, как известно, вызвало огромные народные беды, тысячи русских людей тогда были лишены крова и вынуждены покинуть родные края; иные в поисках приюта и хлеба насущного добирались и до наших удаленных палестин. К осени в уезде насчитывалось чуть не сотня семей переселенцев – и всем им надлежало оказать помощь, ибо помогать тем, кто всего лишился, велел и древний наш обычай взаимовыручки, без коего в здешнем суровом краю не выжить, и проистекающая из набожности доброта большинства местных обывателей. Что же было делать? Единственный раз за всю историю Залесского уезда тогда состоялось собрание – было это на торговой площади уездного города, – где вместе присутствовали и дворяне, и крестьяне. Все сообща стали думать, как быть в такой ситуации. Общим умом, или скорее общим состраданием к людскому горю, кое тогда и перевесило сословные противоречия, в итоге нашли решение. Во-первых, все не занятые срочными делами мужчины отряжены были на постройку в уездной столице нескольких десятков изб, чтобы расселить обездоленных. А во-вторых, от каждого поместья и каждой деревни была назначена мера хлеба и иного провианта, каковую надлежало выделить на благое дело. Пусть тем наши и обрекали себя на зиму скорее полуголодную, нежели сытую, но не зря же говорится «сам погибай, а ближнего выручай». На радости, – что о всем удалось уладиться и не нарушить христианского долга, – все даже переобнялись, не разбирая кто мужик, кто помещик. Вот так беженцы смогли пережить зиму и встретить благополучное завершение войны. Что примечательно, многие из них решили не возвращаться в родные края, а остаться жить здесь – так и появилась в нашем уездном городе слобода, прозванная Московской (ибо большинство ее жителей были выходцами из этой губернии).
Ну а вторая история произошла четверть столетия тому. Короче, один вдовый помещик влюбился в крепостную горничную. Вроде бы дело житейское, но необычность состояла в том, что дворянину на служанке взбрело жениться. О том намерении он объявил сперва в кругу детей от первого брака, а затем и на дворянском собрании.
Сказать, что народ наш был фраппирован, не сказать ничего. Подавляющая часть бомонда выразила позицию, что ежели вдовец сделает задуманное не быть ему в прежнем круге, а быть отверженным парией. Ибо при всей внутренней отзывчивости наших людей, упоминавшейся выше, крепостной уклад все же изрядно отравлял души, это также верно. Двигала тут помещиками боязнь, что от такого марьяжа может проистечь какой-нибудь разброд, да и в соседних краях, не дай Бог, смеяться начнут. Вот только вдовец оказался из натур упрямых. Сделал он вот как: навестил тихой сапой тех уездных помещиков, кои сами имели романтические отношения с крепостными девками, а потому были несколько либеральнее настроены к подобным вещам. Эти-то донжуаны на следующем дворянском собрании вступились за вдовца: мол, есть закон земной, а есть закон Небесный, и тот призывает к любви да милосердию. Ну и поскольку «либералы» выступили сплоченной силой, то сумели-таки переломить общее мнение в свою сторону. Посмотрев на ситуацию не с крепостнической, а христианской точки зрения, бомонд в итоге согласился дать благословение на сей mariage morganatique. И все бы, верно, вышло благополучно, но…
Вскоре старшим сыном вдовца, который сам только недавно женился, были обнаружены в комнате отцовской невесты ингредиенты, используемые для приготовления приворотных зелий. Молва сразу обвинила девушку в колдовстве. Обвинение это было страшным, ибо приворотное колдовство считается у нас недобрым, и тех, кого на этом ловили, ждало в лучшем случае заточение в монастырь. Однако, сама молодая вину свою перед стихийно организовавшимся судом дворовых слуг и деревенских крестьян отрицала. На приговор же мира не гневить Бога, а подобру пойти в монахини – ответила отказом.
Барин-жених в это же время также оказался перед судом, но уже дворянского собрания. От прежнего благодушия бомонда не осталось следа. Сколь «либералы» не тщились указать, что улики могли быть подброшены старшим сыном вдовца, имевшим резоны переживать за наследственные виды, к сему мнению не прислушались. Колдуний у нас боялись сильно, и в силу их верили безоговорочно, поэтому и крепостнические инстинкты на сей раз возобладали над христианскими, а точнее стало помещикам страшно от мысли, что один из них попадет под власть рабов. Вердиктом собрания подсудимому указывалось избранницу прогнать; а поскольку решения сословных сообществ имеют в нашем уезде определяющую власть над делами и судьбами, тот возражать не посмел.
Понуро вернулся вдовец в поместье, не зная еще, как сказать невесте, чем закончилось дело. Однако тут ждало его потрясение еще ужаснее. Возле старой березы у ворот стояли, снявши шапки, все до одного его крестьяне, а на самой березе висело тело обвиненной в колдовстве. Суд мира, когда дело касалось нечистой силы, всегда был скор и беспощаден. Увидев такое, барин не стал ни рук заламывать, ни волос на себе рвать; не говоря ни слова спешился да прошел в дом. В кабинете он достал из секретера пистолет, подошел к окну, чтобы в последний раз посмотреть на возлюбленную – и застрелился.
Об этой истории остается добавить, что сразу после похорон во владение поместьем вступил тот самый старший сын. А был это никто иной, как Климент Ларионович с супругой своей Агриппиной Матвеевной. Новый барин вскоре прославился зверской, для нашего края вовсе невиданной, жесткостью, но о том мы уже упоминали – и еще вернемся к господам Сысоевым в свое время…
…Так вот, резюмируя, укажем читателю на совершенно взаимодополняемое поведение обоих сообществ в описанных ситуациях. О чем это нам говорит? О том, что те и те имели схожие представление о добре и зле, жили общими страхами и надеждами, а потому, если не умом так внутренним чувством ощущали свою родственность. Сие можно уподобить двум близнецам, некогда отчуждившимся, да так с тех пор и не сошедшимся.
Опять же ничтоже ново под солнцем. Как оно случалось во все времена и во всех землях, в наших «аборигенах» можно было сыскать и хорошие черты, и черты не самые приятные. При одном стечении обстоятельств местные совершали истинные подвиги великодушия. Но ежели обстоятельства складывались скверно, то являли себя невежество, малодушие и другие пороки. Ну а в какую именно сторону склонялись обстоятельства – зависело, когда от воли случая, а когда и от чьей-то конкретной воли, доброй либо злой…
***
Само собой, Данил Ильич, несшийся в ту ночь верхом во весь опор, не замечал ни лесной красоты, ни свежести воздусей. А что думал о народце местном лучше даже не говорить. Во всей натуре его для сердечных проявлений оставалась разве самая чуточка. Но зато вся эта «чуточка» заключалась в бесконечно любимой наследнице.
Одно невыносимее другого вспыхивали перед глазами родителя видения, что́ мужичье могло сотворить с юной графиней. Вот и загонял он справного скакуна без жалости.
– Моя дочь! Где она? – едва вороной в клочьях пены влетел в полную взволнованным, неспящим людом Сысоевку, прокричал его сиятельство.
В обеих руках всадника, не торопившегося спешиться, появились изделия Кольта.
Единственная кривоватая улочка Сысоевки ныне напоминала реку, в коей вместо берегов стояли приземистые насупленные избы, а вместо воды – тесно столпотворившиеся сотни мужиков и баб. От горевших над крестьянскими головами факелов все вокруг отливалось багрянцем, как на пожаре.
– Помоги, добрый барин. Яви милость, батюшка! – патриархи, сорвав с себя шапки, пали на колени. Также поступила прочая толпа, точно волна прошла по водной глади.
От такого Данил Ильич несколько растерялся.
– Что это значит? – приподнял дулом пистолета полу шляпы-боулера.
– Мы всегда землю пахали, – начали было деревенские. – И пращуры наши…
Stop this shit! Вгорячах Данил Ильич дважды выстрелил в воздух:
– Где? – гневно сдвинул брови. – Отвечайте!
Ох, не следовало ему так. От выстрелов да окрика старцы кто на землю плашмя, кто назад отпрянул. Поди теперь слова разумного от них добейся.


