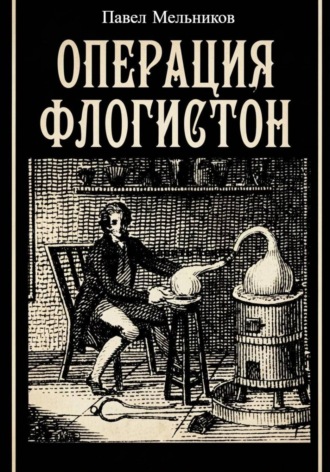
Полная версия
Операция Флогистон
Вернувшись в Боголюбово, Железнобокий в глубоком раздумье мерил шагами кабинет (и если бы видел его кто со стороны, то, верно, подумал бы о мечущемся по клетке льве). «Ловушка. Как есть ловушка, – все повторял его сиятельство. – Воистину rotten borough, гнилое местечко…» Горькие слова эти направлялись, увы, в адрес нашего уезда. Здесь и во множестве подобных глухих уголков, как теперь понял изгнанник, находилась сердцевина крепостнического уклада. Не в географическом смысле, а в духовном. В провинциальной жизни, в провинциальных душах сие злосчастное явление наиболее глубоко пустило корни. То, что из Петербурга виделось как наваждение, как досадное исторические недоразумение, тут являлось взору во всей ужасающей реальности. А самое скверное, что Данил Ильич ощутил беспомощность перед лицом этого зла. В том же Петербурге у него была возможность опереться на здоровые силы общества, а здесь – опереться было не на что совсем.
И от ощущения беспомощности, и от совершенно мистической всеохватности морока, изгнаннику даже пришло горячечное видение. Вот лежит на земле огромный великан, то бишь русский народ, а по рукам-ногам его опутал змей, впился зубами да яд впрыскивает. А яд – и есть самая суть русской болезни, то и апатия, и невежество, и страх, и уничижение. Он же, Данил Ильич, стоит рядом, а ничего сделать не может: нет в руках ни меча, ни копья и под ногами не твердая почва, а трясина болотная… «Да уж трясина! Как есть трясина!» – вздыхал его сиятельство, оборачиваясь к окну. Там, сразу за благовидными усадебными угодьями, во все стороны тянулись топи да леса, леса да топи на сотни и сотни верст…
Тут нам, однако, важно подчеркнуть один момент. Патриотических чувств Данила Ильича все описанное не умалило. Отнюдь, голос крови говорил ему, что в корне русский народ-богатырь могуч, мудр и талантлив, а все нынешние безобразия в России имеют наносную, искусственную природу. Да и как иначе!? Разве может русский народ не быть народом-великаном, народом-богатырем!? Одного взгляда на карту мира – на коей Russian Empire раскинулась по просторам Европы, Азии и Америки – достаточно, чтоб в этом убедиться! К несчастью, говорил себе граф, из-за допущенных за века ошибок (а из них пагубнейшая – все тот же злополучный крепостной закон) многое в Отечестве пошло не правильно, в результате чего потомки богатырей из былин и выродились до неприглядного состояния, как вот эти помещики с крестьянами… …Хотя чему ж удивляться? В конце концов, ни мужики, ни худородные дворянчики не были костным остовом русской нации, каковым являлась высшая аристократия и к каковой относился сам Данил Ильич. Нет, они были сродни мышцам и жилам, меняющим свое состояние, то дряхлеющим, то крепнущим, в зависимости от меняющихся внешних воздействий.
А из этого проистекало и другое умозаключение.
При всей чудовищности случившейся с народом катастрофы, она не было необратимой. Достаточно изменить для «мышц и жил» их внешние условия, и они начнут наливаться силой и здоровьем. А уж затем, когда в них разовьется и деловитость, и инициативность, дойдет черед до ценнейшего из качеств человеческих – dignity…
Вот к таким – достаточно мрачным, но и не лишенным оптимизма – выводам пришел наш граф уже в первые недели ссылки. Ибо в характере его было никогда не отчаиваться и в любом самом скверном положении дел находить повод для надежды.
…А только после этого Данил Ильич стал жить затворником в родовой усадьбе, почти не принимая участия в уездной жизни. Изменить «внешние условия» было не в его силах, а пока в России существовал текущий порядок вещей – бесполезно было и надеяться, что в туземных умах что-то повернется.
С другой стороны, помещики, оставшиеся от разговоров с «небожителем» в неописуемом смятении, тоже не стремились к дружбе с ним. Сколь сильно почиталась у нас графская фамилия, столь же сильно стало негодование в адрес Данила Ильича, который у бомонда стал считаться за безумного смутьяна и карбонария.
Ну да нашему графу мнение «аборигенов» о нем было безразлично. По его разумению, лишь такая жизнь могла считаться прожитой достойно, когда ею удалось принести благо для Отечества. Благо, которое мог принести Железнобокий в своей «клетке», он разделил на два аспекта.
Первый – облегчить участь своим крепостным. А их в принадлежащей к Боголюбову деревне значилось около полусотни душ мужского пола, не считая баб и детей. Пусть, конечно, это капля в океане русских подневольных крестьян, но и малое дело имеет цену.
Сначала-то Данил Ильич, еще не осознав всю силу крестьянской инертности, давай было отписывать вольные грамоты. Но мужички на коленях приползли умолять «доброго барина» не гнать их от себя. Тогда его сиятельство пошел иным путем, т.е. осуществил изрядные нововведения. Начиная с замены барщины посильным оброком и до внедрения в тяжкий крестьянский труд кое-каких рациональных начал, подчерпнутых из четырех томов «Принципов научного сельского хозяйства» Таэра и номеров «Земледельческого журнала». Пытался граф зародить в деревне и ростки private property, чтобы у каждого крестьянина был личный надел, принадлежащий только ему, но натолкнулся здесь на молчаливое, однако неодолимое противодействие общины, так что идея не задалась. Но и того, что было сделано, хватило, чтобы положение его крепостных стало самым завидным в уезде, поэтому даже не найти слов, как мужички в Боголюбовке боготворили своего барина да горячо молились за его здравие.
Что до второго – раз идеи Данила Ильича оказались не востребованы современниками, то решил он оставить наследие, каковое при удачном стечении обстоятельств сослужит службу хотя бы потомкам. А точнее: написать фундаментальный многотомный труд как организовать государство Российское правильным образом. Оному труду граф посвящал лучшие для ума дообеденные часы, благо мыслей на сей счет накопилось у него немало.
Так, в неторопливой размеренной тиши, миновали годы.
Подойдя к полувековому рубежу, Железнобокий остался собой. Был он так же полон сил и имел ту же непреклонную волю. Конечно, в душе затворник жалел, что не вышло в его жизни великих свершений, что не стоял он за штурвалом корабля российской политики, ведя его через бури и грозы к благословенному берегу, – однако казниться Данилу Ильичу было не в чем. Видит Бог, он сделал что мог, осталось достойно прожить остаток дней…
Твердое (как любят писать наши беллетристы: «будто высеченное в камне») лицо его также почти не изменилось. Оно не заплыло и не пожухло, и рыжая грива по-прежнему служила ему украшением. Тем не менее, любой из старых знакомцев по Петербургу, вероятно, не сразу бы узнал «fauteur de troubles». Ибо неугомонный огонь в его взгляде, коий выделял сию энергичную и деятельную натуру, – за ненадобностью-то и погас.
Впрочем, как показали дальнейшие события, погас не до конца.
IIIВ середине весны 1861 года в наши палестины дошла весть о знаменитом Манифесте об отмене крепостного права. Обернувшись, натурально, страшной сумятицей в умах.
Помещики негодовали: как это мужики (их крепостные!) станут свободными? Прежде, мол, об этом только безумный карбонарий мог помышлять, а теперь сам царь повелел. «Безумие, как есть безумие, – сетовали наши дворяне. – Зачем мужику давать волю? А ну как без хозяйской руки он страх Божий потеряет!»
И впрямь, крестьяне, хоть всегда были они у нас смирные – тут, глядь, взбаламутились. В деревнях зашумели сходы, кое-где и старост-бурмистров поколотили.
Боязно, неуютно стало бомонду. Что все это, как не предвестие «красных петухов»? Тем паче, ныне беспорядки творились по всей России. Вдруг, на дай Бог, и к нам беда придет?
Разумеется, о пресловутой «эмансипации», не мог не прослышать и граф Овчинников. Чего уж там, имея свои источники в Петербурге, его сиятельство об этой реформе (столь долго им чаемой!) узнал не только прежде местных, но и во всей подоплеке. Выводы же, к которым пришел изгнанник на основании полученных сведений, были следующие. Во-первых. Положение дел в империи вследствие затянувшегося отсутствия преобразований к нынешнему моменту стало до того удручающим – а последней каплей, помимо полного коллапса финансов, явилось поражение европейским державам в Крымской войне, – что теперь в необходимости перемен убедились и на верхних этажах власти. Во-вторых. Даже убедившись в необходимости освобождения крестьян, петербургские мудрецы решили подменить истинное освобождение наперстническим фокусом. Согласно Манифесту, вся земля фактически осталась в собственности помещиков, а бывшие их рабы (именуемые теперь «временнообязанными») получили крошечные наделы, за пользование коими надлежало выплачивать огромные «выкупные». Ergo ничего существенно не изменилось. Дворяне получили возможность далее жить паразитическим образом, пользуясь трудом мужиков. А мужики остались задавлены подневольным положением. Ни первые, ни вторые, соответственно, не могли стать предпринимателями, которые бы создали новую модель экономики.
Для чего был совершен этот мошеннический трюк? Известно для чего. Все дворянское сословие в России, являвшееся главной опорой трону, до смерти боялось потерять свой главный (а зачастую – единственный) источник доходов. Трон же пуще всего страшился дворцового переворота, коего можно было ждать посчитай себя дворянство обделенным. Так что, выбирая между двух огней, петербургские мудрецы выбрали тот вариант, что освобождение крестьян будет как-бы понарошку.
Одного мудрецы, однако, не учли.
Даже формальной отмены крепостного закона хватило, чтоб древние плиты, образующие государственный ландшафт, пришли в движение – и сдвиги эти было уже не остановить. Да, кое-что изменилось в формуле русской жизни, изменилось навсегда. Как ни крути, крестьяне больше не были по закону рабами. Не удивительно, что первыми сие глубинное изменение почувствовали именно они. Уже весной по крестьянской массе по всей империи прошел глухой ропот. Молва ходила, Царь-де дал крепостным «истинную волю», а баре подменили манифест своим, в котором на мужиков надели новое ярмо. Опьяненные байками о царской милости, целые волости хватались за топор. Всю весну и лето 1861-го волнения крестьян, оборачивающиеся где сожженными усадьбами, а где вырезанными дворянскими фамилиями, разрастались на манер эпидемии, перекидываясь из одной губернии в другую. В ответ же правительство посылало войска, отчего кровь лилась только пуще… Так что опасенья-то нашего уездного бомонда были отнюдь не беспочвенны!
Данил Ильич следил за всеми событиями с возрастающей тревогой. Ситуация выходила наискверная. Мало того, что Петербург потерял непозволительно много времени, чтобы приступить к реформам, так и сами эти реформы оказались половинчатыми.
К чему все шло? К тому, что в империи либо начнется смута с реками крови и кромешным варварством. Либо верх одержат реакционные силы, коим ненавистен всякий прогресс. То и другое не сулило Отечеству хорошего. А сулило гибель – быструю или медленную.
Но вместе с тревогой изгнанник испытывал и особого рода азарт, коего не испытывал уже двадцать лет. То был азарт политика, почувствовавшего новую возможность.
Конечно, «эмансипация» в России была проведена преглупо и сулила катастрофическими последствиями… Однако древний порядок, все эти годы существовавший непреодолимой преградой на пути в будущее, отныне существовать перестал!
Не то чтобы Железнобокий нащупал долгожданную твердую опору. Нет, пока что таковой опоры не имелось. Но… как было замечено, тектонические плиты пришли в движение, а значит, при должной находчивости, опору эту можно было сыскать.
Вот только что это может быть? Вот о чем думал теперь наш граф непрерывно. Дошло до того, что впервые за годы ссылки Данил Ильич нарушил тщательно продуманные дневные распорядки. Целыми днями, с одной стороны гложимый тревогой, а с другой – питаемый смутной надеждой, мерял он шагами кабинет, лишь изредка прерывая размышления, чтобы посмотреть в окно. Лето 1861-го выдалось у нас промозглым, шли дожди да дожди. Но даже и в непогоде затворнику виделось предзнаменование: вот они, последние дни опостылевшей жизни. Скоро должно случиться что-то новое, пока еще неразгаданное…
…И это случилось по русскому стилю 2 сентября, а по европейскому 14-го.
Ближе к ночи в усадьбу прискакал верхом на казенной лошадке взмыленный исправник. Уже по виду этого внушительного господина было видно: произошло неординарное. Весь взъерошенный, с вытаращенными глазами Пантелеймон Григорьевич давай от дверей заходиться громогласным набатом:
– Беда-с, ваше сиятельство! Чего боялись больше всего – то и вышло-с. Мужики затеяли в уезде бунт. А самое страшное-с… графиня, ваша дочь, у них в заложницах!..
От этой новости, от последней ее части, все перед глазами Данила Ильича поплыло, и на какой-то миг сердце в его груди вовсе остановилось.
***
…Здесь нам нужно поведать о другой стороне жизни Железнобокого. Ибо говорят «не хлебом единым», а в случае нашего графа можно перефразировать «не политикой единой» – в общем, было в его жизни место и для обычных человеческих чувств, ну т.е. насколько это вообще возможно для человека такого склада.
К несчастью, нежная благоверная его сиятельства, урожденная остзейская баронесса, преставилась родами на третий месяц ссылки, потому более нам сказать о ней нечего. Но с того дня Железнобокий всю какую только присущую ему любовь вложил в оставшееся жить дитя – в свою sweet princess, нареченную Марией, ставшую родителю единственной сердечной отрадой.
С младых ногтей графинюшка – подлинное воплощение выражения «девчонка-сорванец»: угловатая, одевающаяся для резвых игр по-мальчишески, с чрезвычайно живыми глазами, синими как у отца, да с непременным атрибутом овчинниковской масти, буйной копной огненных кудрей – показывала характер сильный и яркий. Няньки бегать не успевали: только малютка без спроса пруд переплыла, а вон уж вскарабкалась, что твоя кошка, на березу!
В непоседливости наследницы, в ее решительности и своенравности, граф узнавал свою породу. А узнавая, закрывал глаза на любое ее неподобающее поведение. К примеру, на такое, что sweet princess запросто бегала в деревню, где наравне играла с крестьянскими детьми, а воспитанника графа, Никишку, так вовсе сделала себе наипервейшим дружком. Тут, конечно, чему удивляться. Выросшая в деревне, с детства не знавшая великолепия столичного света, озорница еще не понимала всей пропасти, лежащей между ней и уездными аборигенами. В чем-то Данила Ильича даже умиляла эта непосредственность – о чем тут говорить! Все эти проведенные в затворничестве годы для изгнанника будто существовал этакий параллельный мир, где он мог отдохнуть душой и утешиться. Вот, случалось, найдет-таки печаль по несбывшимся великим планам, а тут няньки прибегут с жалобами на очередные приключения ее сиятельства – так и тоска отступит, и на сердце веселее станет. Сам звонкий смех графинюшки, пытливый блеск ее глаз, с коим она задавала свои бесконечные «почему» да «как», приносили родителю ощущение полноты бытия, столь необходимое ему в его анахоретском прозябании. Но в то же время родитель не мог не переживать: судьбу маленькой графини следовало устраивать.
Со времен молодости его сиятельство помнил, как скучны благовоспитанные девицы из высшей аристократии. Ни новостей с ними не обсудить, ни мысли дельной не услыхать. Вот Данил Ильич и смекнул, как его Мэри, когда окажется в свете, сумеет затмить прочих красавиц да самого завидного жениха в себя влюбит. Вдобавок к обучению наследницы обычным школьным предметам (для чего в усадьбу были выписаны отменные учителя), давай граф-отец то и дело затевать с ней своеобразную игру. Внешне эта игра могла быть спором о какой-нибудь философской дилемме или новости о перипетиях европейской политики. Либо Данил Ильич, к примеру, мог ненароком обронить: «Уж до чего, душа моя, хороши по утрам обливания холодной водой! Весь день потом чувствуешь себя свежо да бодро. Жаль, такое не для нежных барышень…» «Так-таки не для барышень!» – сложив руки на груди крест-накрест отвечала ее сиятельство… и, конечно, давай с той поры каждое утро обливаться ведром из колодца. В общем, суть игры состояла в том, что родитель задавал графинюшке вызов, связанный с испытанием ума или воли. А для той, в свою очередь, было делом сугубейшей важности пройти это испытание, доказать отцу, что она, его наследница, ни в чем не хуже, будто иначе светопреставление начнется.
По достижению пятнадцати лет была Мария Даниловна отправлена в гости к петербургской родне в аккурат к сезону балов. Но каково же вышло удивление отца, когда всего пару месяцев спустя та самовольно вернулась в Боголюбово. Заскучав в столице по родному захолустью, своенравница взяла да сбежала с попутным обозом! Данил Ильич, для порядка дочь побранил, хотя в душе-то обрадовался: еще побудет любимица рядом… Только хочешь не хочешь, а держать сей цветок в глуши, понимал он, есть преступление против самой жизни.
Так что на другой год Железнобокий поступил хитрее. Стало ему известно, что самые прогрессивные профессора столичных университетов начали допускать на лекции девиц-вольнослушательниц, чего ранее в нашей патриархальнейшей стране представить было нельзя. Понятие о женском образовании для русского ума исстари ограничивалось сферой домоводства и хороших манер. Посему само уже то, что нынче барышни могли посещать университетские лекции, было дерзким вызовом. А значит – Мария Даниловна не могла таким не заинтересоваться!
Так и вышло. Едва родитель однажды за ужином упомянул про столичное новшество, так у наследницы глазки-то и загорелись. Месяца не прошло, как та снова оказалась в Петербурге, где записалась на юридические курсы, т.е. на сферу знания, о которой как ни о какой другой можно сказать «не женское дело». Вскоре юная графиня угодила в центр внимания столичного общества, ибо являла феномен весьма необычный. Даже в одном из писем князя Максима упоминалось, дескать: «нынче все блистательные женихи толпой ходят за Мэри, которая и красотой не обижена, но особо будоражащая, что способна поддержать умный разговор, а нрав имеет смелый и веселый». С явным смехом князь добавлял, что и отпрыск его, Аркадий Максимович, также воздыхал о графинюшке Овчинниковой, но за вечной занятостью не нашел оказии познакомиться… Словом, все получилось, как Данил Ильич и задумывал! Скоро, верно, можно было б ждать сватов от какого-нибудь из российских высоких домов… (А Данил Ильич, при всем прогрессизме, в вопросе заключения брачных уз держался позиции самой ортодоксальной – то бишь, что партия для Марии Даниловны должна быть исключительно из высшей аристократии. Ну а то: убеждение о необходимости сохранения породы – «костного остова»! – утвердилось в изгнаннике еще со времен знакомства с уездными обывателями) …тем не менее миновали четыре года, а сватов все не было.
Зато этим же летом – «Bonjour, mon père!» – «Bonjour, ma fille…» – в усадьбу подобно урагану ворвалась в запыленном дормезе сама графская дочь в сопровождении одной горничной да с небольшим багажиком, примечательным двумя связками книг: в одной юридические тома, а в другой – сочинения художественного жанра большей частью за авторством господ Тургенева да Некрасова.
По этим-то сочинениям Данил Ильич сразу все и понял. А поняв, только покачал головой.
Его сиятельство уже был наслышан о модном поветрии, распространенном ныне среди пылких натур из студенческой среды. Поветрие это декларировало любовь к простому народу («l'amour du peuple»), посему называлось «народничеством». Соответственно, приверженцы его ставили своей целью помогать крестьянам добиваться справедливой и лучшей доли. Читая наследницу как книгу, родитель не удивился, что та прониклась сими идеями, ибо характер ее был решительным, а сердце отзывчивым на добрые дела. Не мудрено было и то, что приступить к стезе народолюбства Мэри захотела с родного края.
Обнимая дочь после четырехлетней разлуки, Данил Ильич испытывал, прямо скажем, противоречивые чувства. С точки зрения фамильных интересов, поведение Мэри выходило неуместным. Скоро уж графинюшке исполнялось двадцать лет, а та до сих пор не проявила стремления выйти замуж и принести так желаемое родителем потомство! Но верно также, что изрядно за четыре года истосковавшись, граф был счастлив и видеть любимицу, и с отцовским интересом подмечать изменения, случившиеся с ней за это время. Оказалось, князь Ясновельский не погрешил против истины. Мэри вышла красотой в матушку: угловатые черты ее смягчились, стан стал изящным, в больших синих глазах заплясали золотые огоньки. Даже огненный цвет ее волос сменился оттенком скорее медовым – впрочем, локоны барышня отстригла столь коротко, что по старосветским меркам выходило сущим эпатажем; вдобавок на точеном матушкином носу ее объявились очки, тоже та еще невидаль… «Ну а волосы-то, душа моя, зачем остригла?» – «Нынче в Питере так модно, mon père» – «Ах, значит модно…» С тайным любованием Данил Ильич подмечал, как независимо теперь держала себя юная графиня. Более уж она не задавала ему никаких вопросов, а сама судила по-своему о всех предметах, при том очаровательно перемежая серьезные материи забавными анекдотами из времен своего пребывания в столице (по каковым анекдотам можно было судить, что скучать ее сиятельству там явно не доводилось, и что все четыре года восприняты были тою как большое приключение). Едва поздоровавшись с отцом, даже не отдохнув с дороги, давай народолюбка – сразу «to battle», уж так ей не терпелось зло искоренять, а добро утверждать!
Первым делом Мэри собрала в гостиной всю дворню: всех лакеев, служанок, поваров, истопников, садовников, конюхов, всего около полусотни человек, и звонким голоском, веселым и ласковым, какой бывает у молодых девушек, но в то же время с твердыми отцовскими нотками, объявила, что те теперь свободны и вольны распоряжаться жизнью по собственному усмотрению. Однако прежде почти такой же разговор с дворовыми провел сам Данил Ильич, а те, все до единого, с крестными знамениями клялись, что не желают для себя другой судьбы, чем служить своим господам! (…Нужно тут пояснить, что большая часть графских дворовых была таковыми уже во многих поколениях. В людях этих ничего не осталось от тех крестьян, коими были когда-то их предки. Они не знали ни как работать с землей, ни как вести хозяйство, потому и не мыслили жизни без выполнения указаний. Заметим также, что никто лучше дворовых не знал своих господ. К примеру, про Данила Ильича они ведали многое, не ведомое более никому. Взять хоть историю с никудышным, сильно разочаровавшим графа управляющим Архипом Петровичем. Каждый раз, когда тот допускал очередное небрежение, его сиятельство в бешенстве порывался рассчитать негодника, но тот успевал где-то спрятаться; а позднее уж барин отходил от ярости и по доброте горе-управляющего прощал. В конце же концов, когда последний вовсе сошел с ума, граф даже оставил за ним жилье и стол. Вот про это и знали все слуги: что Данил Ильич хоть бывает подвержен гневу, а все ж в душе благодушный, отходчивый…) В общем, тоже самое – не хотим, дескать, никакой свободы, – ответили дворовые графской дочери, так что та несколько смутилась, однако от того распалилась еще пуще.
Далее графинюшка распорядилась собрать сход в деревне Боголюбовке, где опять же выступала перед мужиками, но и мужики опять же знай в ответ креститься. Выяснилось, что Данил Ильич уже выделил бывшим крепостным земли из усадебных угодий – в размерах больших, чем указывалось законом и вовсе без выкупных. А точнее, сделано было им вот как. Все окружающие Боголюбово поля, леса, озера и луга были поделены на две равные части: одну граф отдал крестьянам, а другую оставил для своих нужд. Ну а поскольку угодья усадьбы Овчинниковых занимали землю дважды большую, чем земли остальных уездных поместий вместе взятых, то миру достался участок куда как по всем меркам лакомый. Что же до части графа, то мужикам снова выгода выходила, ибо его сиятельство обещался платить всем охочим, кто наймется к нему на работы. Не мудрено, что без того души в «добром барине» не чаявшие деревенские были всем довольны и ничего больше для себя не желали.
Но и после этого Мария Даниловна – вот отцовская кровь! – не успокоилась.
В уезде у нас мировым посредником (коему отводилась функция урегулирования всех вопросов между помещиками и мужиками) избрали почтмейстера Марка Антоновича. Хоть тот и не владел никаким поместьем, а лишь домиком с садом на отшибе уездного городка, зато, в отличие от всех помещиков имел образование и, что важнее всего, был замечательно удобен нравом.
Странный, не сказать чудаковатый, этот господин уже преклонных лет тоже провел молодость в столице, имея отличные карьерные виды, и тоже переселился в глушь: еще ранее Данила Ильича и в отличие от него своей волей. О причинах такого поступка у нас все только гадали, говорили, тут замешана несчастная любовь, а то даже дуэль, но вернее всего уездная жизнь лучше отвечала складу души Марка Антоновича. Уж очень не любил тот суеты, зато мог премного часов кряду сидеть на берегу реки с удочкой или бродить по лесу с корзинкой для грибов. Но больше всего любил Марк Антонович душевную беседу, при том (будучи происхождения весьма благородного, но совершенно у нас с годами опростившись) не делая разницы в сословном звании собеседника – так что во всем уезде не так и много было людей, кто б не был с господином почтмейстером накоротке, разве самые отъявленные самодуры. Единственный же, пожалуй, его недостаток для здешней жизни состоял в чрезмерной мягкости. То и дело наши туземцы, что помещики, что мужики, просили у доброго старичка в долг или какой протекции, ну а тот неизменно оказывал просимое, хоть долги ему редко возвращали. Потому над божьим одуванчиком и посмеивались – но все ж по-доброму, ибо к нему и чудачествам его у нас прикипели.


