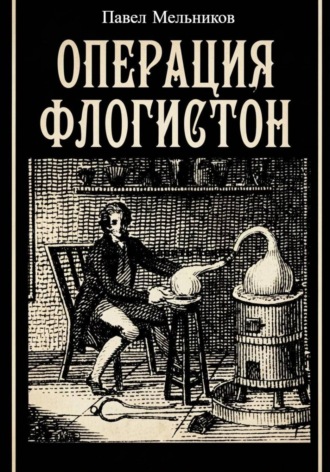
Полная версия
Операция Флогистон
Как, однако, получилось, что имение блестящего рода Овчинниковых оказалось в столь сиволапой и незнаменитой местности?
Дед графа-изгнанника, звавшийся Никита Андреевич, прославился двумя вещами. Во-первых, удачной женитьбой, каковая купно с оборотистостью в делах позволила умножить семейное состояние чуть не в десять раз. А во-вторых, особой набожностью и поведением по-монашески праведным (хотя последнее, как поговаривали, было обусловлено еще страшной ревностью супруги, происходившей от грузинских царей). Питая исключительную любовь к обычаю богомолий, Никита Андреевич распорядился обустроить на полпути из Москвы к северным святыням удобную для отдыха усадьбу, которая так и была названа – Боголюбово. По основательному замыслу, совершая ежегодное паломничество, графское семейство могло здесь не просто отдохнуть с дороги, но очиститься от суетных городских мыслей да настроиться на молитвенный лад.
Вот это «на полпути» и выпало на Залесский уезд.
В исконных русских буреломах выписанные по такому случаю архитекторы умудрились создать истинно райский уголок: с аллеями-садами, расставленными тут и там беседками и мраморными ангелами, карповыми прудами и выгнутыми над ними мостиками-коромыслами… А в центре парадиза, точно алмаз в короне, возвышался Господский дом. То был каменный особняк о двух этажах, являвший почти образец классического стиля с его извечным стремлением к симметрии, как идеалу совершенной гармонии, но за небольшим исключением: с одного торца его пристроен был внушительный эркер, отводившийся под домовую молельню. Что, впрочем, не казалось странным, ибо главное назначение сего чертога было именно в молитве и благочестивом настроении, о чем предупреждала надпись на воротах усадьбы: «Suivre le ciel – renoncer au terrestre», то бишь «Следуя к небу – отрекись от земного».
В ссылке, после Европы, да и после Петербурга, Железнобокий очутился будто на сотню лет в прошлом. Кого другого такая опала заставила бы умолять царя о помиловании. Но – не нашего графа. Почему?
Имея столь первостатейное происхождение, Данил Ильич, помимо ответственности за судьбу России, также щепетильно относился к вопросу чести. В роду Овчинниковых, гордящемся древностью, вообще старались в любой ситуации беречь достоинство, кое одно по-настоящему отличает патрициев от плебеев. В Железнобоком же – верно, в силу его пассионарности – сие качество было доведено до степени предельной. А точнее так. То, как понималось нашим графом его происхождение, его высокая кровь, определяло для него не только цель жизни, но и способы достижения ее.
О цели мы знаем: поставить Отечество на рельсы прогресса. Для чего требовалось в свой черед пробудить Phlogiston russian – самый грандиозный в человеческой истории (Данил Ильич в этом был убежден твердо).
Что же до способов, то еще в юности, решив посвятить жизнь политике, его сиятельство дал себе обещание ни при каких обстоятельствах ни самому унижаться, ни попускать унижению других.
…Ибо что есть природа Политики? (Чего-чего, а времени на обдумывание случившейся с ним пертурбации у Данила Ильича в ссылке было достаточно, и вот о чем он надумал). Она суть природа управления людьми, умение вести за собой. Но направлять многие умы и многие воли туда, куда это нужно твоему уму и твоей воле, можно разными путями. Можно с помощью страха и принуждения. А можно – вдохновляя и зажигая в сердцах искру мечты. Данил Ильич признавал только такой путь. Однако в этом, как теперь он, изгнанник, понял, была как сила, так и слабость. Сила, что с помощью вдохновленных соратников, которые сами горели идеей и передавали огонь окружающим, он добился своего, сперва заинтересовав императора, а затем ловко подстроив с ним встречу. Слабость же что сам Данил Ильич оказался заложником принципов, коими не мог поступиться даже в малом. Именно через это у придворных и получилась их провокация… Из оных раздумий Железнобокий сделал еще важный вывод. Такой, что если выпадет ему вдругорядь совершить попытку восхождения на политический Олимп, то – дабы не повторить фиаско – ему понадобится alter ego. Последним подразумевался гипотетический наиближайший соратник, который возьмет на себя либо задачи созидательного плана, либо задачи взаимодействия с придворным сообществом. Ибо в одиночку справиться с тем и другим не под силу, пожалуй, никакому человеку.
Ну да все сие были, понятно, отвлеченные умозрения. В сухом же остатке имеем, что из чувства достоинства графа, как говорят англичане «dignity», не могло быть речи, чтоб ему унизиться – даже перед царем.
В первые годы ссылки изгнанник еще вел переписку с прежними товарищами. Однако столичная жизнь шла своим чередом – и вскоре поток писем из Петербурга почти иссяк. Увы, мало-помалу все про Железнобокого забыли, если не считать князя Максима Ясновельского, беспутного и недалекого дружка по юношеским забавам, вовсе не интересующегося big politics. Не ставши с годами степеннее, князь Максим по-прежнему прожигал жизнь, однако иной раз отписывал-таки письмецо в Боголюбово. Вот и все…
Данил Ильич отнюдь не судил отвернувшихся от него сподвижников (не будем судить и мы – и Бог с ними совсем!) Но даже поняв, что путь в Петербург ему заказан, изгнанник остался верен себе и dignity. Ибо от того, что вместо министерского кабинета граф Овчинников очутился средь дремучих лесов, он отнюдь не перестал быть графом Овчинниковым. Не зря древние учили: dum spiro, spero. Пока в жизни имелась Цель – жизнь не кончена. Любая цель может быть достижима – ergo следовало приложить все от него зависящее, чтобы этой цели достичь.
Вот поэтому, не в пример многим ссылаемым в медвежьи углы, Данил Ильич в изгнании не опустился ни телом, ни духом. Что касается тела, то Железнобокий взял за привычку ежедневно упражняться в гимнастике и стрельбе да обливаться холодной водой. Кроме того, был он умерен в пище, а к горячительным напиткам и табаку не притрагивался вовсе. Так что и спустя много лет изгнанник оставался подтянутым, как в дни молодости.
С духом, конечно, обстояло сложнее. Чтобы достичь гармонии меж миром внешним и внутренним Данилу Ильичу пришлось заново придумать содержание всей жизни. И чуть не первое, что он сделал: отписал унаследованное состояние родственникам, для себя оставив, собственно, Боголюбово с угодьями. Вдохновляемый европейским духом, граф не мог допустить, чтоб семейный капитал лежал мертвым грузом: пусть уж столичная родня, имеющая возможности вести дела, попробует употребить его на что-то толковое.
Мир же самого Данила Ильича теперь, увы, можно было уподобить (да простится нам очередная не ахти изысканная аллегория) тесному аквариуму, куда поместили океанскую рыбу; но, как мы уже сказали, сам ссыльный по этому поводу унывать не собирался. В конце концов, смертным не дано знать, куда ведут тропинки судеб и что ждет каждого завтра. Единственное, что мы, потомки Адама, в силах сделать – жить достойно при всех невзгодах. Такую философию принял для себя в ссылке его сиятельство. И исходя из нее начал выстраивать храм своего душевного равновесия.
В первую голову, для Данила Ильича было важным оставаться в курсе политической обстановки и всех важнейших петербургских новостей. Для чего? А для того, что, если вдруг все-же ситуация в России переменится, был он к этому готов.
Посему из года в год немалая часть доходов от имения уходила на оплату услуг нужных людишек в Петербурге, писавших реляции о перестановках в министерских кабинетах и изменениях в умонастроениях царского окружения. Оплачивая сии секретные корреспонденции, Железнобокий все надеялся, что однажды увидит в них предвестья близящихся реформ или того, что в правительстве начали сознавать необходимость перемен… Но нет, годы шли, а ситуация не менялась. Слишком заскорузлым было сознание правящих кругов, чье богатство зиждилось на труде тысяч крепостных, а потому вовсе не желавших никаких реформ.
Хуже всего, этот dead calm усугублял российское отставание от европейских стран. По доставляемым каждый месяц в усадьбу журналам и газетам на немецком, английском и французском его сиятельство следил за мировыми событиями, особенно за научными открытиями да техническими достижениями. Так что, даже находясь в столь глухом краю, понимал, что Россия топчется на месте пока западные державы скачут галопом в будущее…
Посильное утешение изгнанник находил разве, чтобы собственное существование организовать с разумностью. Вся природа графа стремилась к деятельности и знанию, ненавидя, соответственно, безделье и невежество. А потому каждый день Данил Ильич планировал так, чтоб целиком заполнить его полезным времяпрепровождением. С утра он обычно занимался трудом умственным, мысля и ведя записи своих размышлений, о коих будет упомянуто отдельно. После обеда же его сиятельство направлял энергию на переиначивание усадебного хозяйства на передовой манер, благо в этом ему нашелся замечательный помощник в лице воспитанника по имени Никиша. Был этот Никишка из крестьянских сирот, и уже с младых лет проявил себя с полезной по хозяйственной части стороны. Ну да повод рассказать об этом юноше также будет впереди; а пока отметим, что стараниями графа и его помощника Боголюбово расцвело с новой силой, обзаведясь рядом невиданных новаторств, чем являя разительный контраст с прочим уездом.
Не ручаемся, впрочем, что Железнобокий ставил целью назидание местным. Увы, отношения с «аборигенами» у него не заладились сразу. К рассказу о том мы приступаем с тяжелым сердцем, но деваться некуда.
Итак, Данил Ильич ни на миг не забывал о Цели жизни.
Едва обустроившись в ссылке, он обратил взор на наш край, ибо пригвожденный царской опалой, мог действовать сугубо в его границах. Что же здесь можно было сделать?
На самом деле – кое-что было можно. Изгнанник рассуждал следующим образом.
Поскольку возможность проводить централизованные реформы, пользуясь министерским постом, была ему закрыта, оставался путь малых дел, каковые со временем смогут вызвать к жизни дела большие. Это сродни, как лавина в горах начинается с крупинки снега. Одна тянет за собой другую, вместе они сдвигают ком – и вот идет движение всеохватное, неостановимое.
Что если, – размышлял Железнобокий, – преобразить сей захолустный уезд в подобие английского графства с его механизированными грейнджами и бойкой коммерцией?
Тогда, – следовала далее мысль его сиятельства, – узрев сей пример преуспевания, многие владельцы капиталов по всей России начнут его перенимать, масштабируя по империи!
В общем: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи» – как гласило выведенное на преогромном валуне поучение старца Серафима, в числе иных изречений украшавшее Святую дубраву. …А про этот совершенно особый уголок графской усадьбы, раз пришелся он к слову, нам следует рассказать поподробнее (пусть читатель не взыщет за неожиданное отступление). Еще достопамятный Никита Андреевич, будучи неутомимым читателем Писания, велел высадить в Боголюбове 260 саженцев дубов – по числу глав Нового Завета. Место для дубравы было выбрано за гостевым домиком на высоком речном берегу; участок сей до поры пребывал в диком состоянии, что объяснялось россыпью большущих камней, принесенных в древности ледниками. Вот основатель усадьбы и распорядился засадить пространство вокруг них дубами, хотя знающие люди уверяли, что для дубовой породы и земля здешняя скудна, и климат суров. Но саженцы – пережив все природные невзгоды – не просто прижились, а за полвека превратились в раскидистые исполины. Удивленные уездные обыватели приписали сей факт особой природной силе рода Овчинниковых: каковы, мол, сами графья богатыри, такими же красавцы-дубы в их поместье вышли! Кто-то даже придумал, а молва сию легенду с удовольствием подхватила, что в дубках-де заключены частички душ всех отпрысков достославной фамилии, от живших века назад до еще не рожденных, и что не быть этому роду конца, пока жива дубрава. Заметим, что при наивности данной фантазии, она наглядно иллюстрирует полусвященный трепет, с коим относились в уезде к графскому семейству. Еще бы! Обитавшие в сказочной роскоши хозяева Боголюбово казались нашим небожителями, кои не доступны ни людскому пониманию, ни – в силу самой своей ангелоравной сущности – даже зловредным козням нечистой силы (что для местных было весьма существенным).
Ну и действительно, в роду Овчинниковых возникла традиция особых, даже заветных отношений с этой замечательной рощей. Тот же Никита Андреевич, любивший по много часов прогуливаться средь посаженных им дубков, приказал, чтобы на камнях – пусть-ка, мол, не простаивают без дела – были выбиты любимые им наставительные афоризмы древних и современных отцов церкви. В результате куда как славно получилось: тут тебе и для физического зрения услада – в виде великолепия благородных деревьев, и для взора духовного благо – прочтешь мимоходом мудрость от святого человека, так и на душе светлее станет. С тех пор и стала дубрава называться Святой, почитаясь всеми носителями родового имени. Вернее, почти всеми.
Не в пример набожной родне, Железнобокий к молитвенной умильности склонен не был совершенно. Зато, следуя соображениям укрепления здоровья, завел он обыкновение регулярно делать быстроходные хайкинги по округе, следуя в том числе через сакральную кущу – и, как знать, может именно выбитая на камне формула саровского иеромонаха его в итоге и привела к единственно возможному в сложившейся ситуации плану.
Получается, для пробуждения России следовало привести к процветанию Залесский уезд.
Будто само провидение потрудилось дать ключ, позволяющий пустынные залесские дебри превратить в форпост экономического благоденствия. Даже имя у сего «ключа» было подходящим – река Ключевка. Означенный поток брал начало в сердце бесконечных чащоб да петлял змейкой по всему краю, вбирая в себя безымянные речушки; к моменту же пересечения границ уезда он становился столь полноводным, что по нему вполне б могли пройти даже пароходы, которые в те годы стали появляться на Волге. Тем паче, далее Ключевка (или, как сразу ее прозвал граф, Ключ-река) – продефилировав с величественной неторопливостью полторы сотни верст – впадала в главную русскую реку, по берегам которой располагались крупнейшие купеческие города и ярмарки.
В Голландии Данил Ильич видел примеры, как разные безвестные захолустья, пользуюсь схожими географическими преимуществами, на глазах превращались в центры ремесел и торговли. Почему бы, спрашивается, не попробовать провернуть нечто подобное и здесь? А именно: в самом широком месте Ключ-реки, у границы уезда, поставить пристань, а при ней организовать ярмарку, на каковую будут свозиться товары со всего края… Какие же товары мог предложить Залесский уезд российским, а то и иноземным торговым гостям? Elementary! При должном подходе при каждом здешнем имении можно было устроить производственный enterprise. И у его сиятельства имелась идея, какую нишу может занять столь несчастная в выращивании сельскохозяйственных культур северная местность.
Заложить в оной местности основы русской молочной промышленности.
Это же стыдно сказать! Доднесь во всей нашей империи не научились изготавливать ни первостатейного сыра, ни масла, импортируя сии продукты втридорога из европейских стран. А завести бы, рассуждал его сиятельство, где-нибудь собственные маслодельни да сыроварни, тогда бы эти деликатности стали прерогативой не одних богачей, а повседневной едой для миллионов русских подданных. Так вот, Залесский уезд годился на роль такого места идеально. И лугов для выпаса здесь было в избытке, и даже в самых бедных крестьянских хозяйствах по одной-две коровки имелось.
Еще в европейской юности Данил Ильич досконально – как знал, что в будущем знание это может пригодиться – изучил новейшие технологии молочной индустрии, и потому продумал все, что может понадобиться для успеха дела. Главным же для сего условием значилось создать принципиально новую схему отношений помещиков и крестьян. По замыслу Железнобокого, те и те должны были стать – предпринимателями. К самому понятию бизнеса, предпринимательства, весьма обыкновенному для западного уклада и столь непривычному для отечественного, Данил Ильич относился с непередаваемым пиететом. Именно бизнес-мэны, считал граф, являлись в современном мире носителями того «духа огня», коий он мечтал пробудить в русском народе. Конечно, не обязательно, что в других российских местах также будут заводиться сыроварни да маслодельни по примеру Залесского уезда. (Нет – для каждого края уместны разные отрасли хозяйства!) Главное, чтобы перенимался ПРИНЦИП экономических отношений, когда русские люди наделены свободной инициативой, а посему трудятся не за страх, а за совесть.
Действовал граф с той же молниеносностью, что и мыслил.
За месяц он изъездил весь край, посетив каждого из без малого трех десятков уездных помещиков, коим в его плане отводилась роль доморощенных «джентри»: так в Англии прозывалось мелкопоместное дворянство, активно внедрявшее новые методы хозяйствования, а за собою неизбежно сподвигавшее к предпринимательству и крестьян.
…Помещики, хоть польщенные честью принимать у себя «небожителя», явно находились не в своей тарелке. И дело даже не в ссыльном статусе изгнанника – в этом для наших как раз ничего страшного не было, – а, как бы сказать, в явном культурном диссонансе. Вся поджарая стать Данила Ильича, его неизменная элегантность и европейские манеры разительно контрастировали на затрапезном фоне «аборигенов». Ай, да если б дело было только во внешних различиях! Сроду не читавшие никаких книг, в большинстве своем не выезжавшие дальше уездного города, помещики наши все как один отличались полным отсутствием гибкости в картине мира. А проще говоря, не понимали, зачем нужно что-то менять в заведенном порядке вещей. Пока Данил Ильич толковал про выгоды, которые принесут поместья, ежели оборудовать их механизированными производствами (а оные цифры получались в десять-двадцать раз выше текущих доходов!), те еще слушали с интересом. Но далее, когда изгнанник пускался в такие подробности, как оформление «партнершипа» и получение банковского кредита на обзаведение техникой – тут уж слушатели в недоумении разводили руками. Никогда, мол, этаких авантюр у нас не было, ни при дедах, ни при прадедах, значит и нам оно не надобно. Главным же потрясением для уездных стародумов явилось допущение о том, что крепостных придется не только освободить, но и вести дела с ними на равных началах!.. Кто был умом попроще решили даже, что его сиятельство таким образом шутит и вежливо в ответ посмеялись. Но другие восприняли идею Данила Ильича в явные штыки.
Сильнее прочих разъярился Климент Ларионович Сысоев, известный изувер, любивший пороть провинившихся крестьян:
– Это что же получается?! – прорычал он в лицо графу, сидевшему у него за столом. – Мне, дворянину, расшаркиваться перед мужичьем? Может, еще в ноги им поклониться?
– Этого, сударь, не нужно, – спокойно ответил Данил Ильич. – А вот хлеб разделить с мужиками так или иначе придется…
Крепостник, весьма напоминавший бульдога в халате и турецкой феске, зло ощерился:
– Чтоб я вместе с каким-нибудь пастухом..! Никогда!! (…Тут следует пояснить. В уезде помимо прочего бытовал обычай, что когда два местных обывателя желали заключить договор, то делали это не посредством подписания бумаги – ибо сие фантом и тленная иллюзия (не говоря, что многие у нас были неграмотны), – а преломляя освященный в церкви каравай. Именно это, а вовсе не клочок бумаги, служило залогом, что ни одна из сторон другую не обманет и в полной мере выполнит свои обязательства. Так оно так, но только через это выходило, что не могло быть речи, к примеру, о договоре между помещиком и крестьянами. Ибо как это: дворянину и мужику на двоих хлеб съесть? Это одному урон дворянского имени, а другому – насмешки от односельчан…)
– И потом, – не унимался Климент Ларионович. – Толку от этих обормотов не добьешься! Скот есть скот. А дай им руки распустить – всех нас, дворян, вырежут, а жен снасилуют!..
– Что вы, мон шер, – зарделась хлопотавшая за чаепитием супруга его, Агриппина Матвеевна, на удивление свеженькая и миловидная. – Вольно ж вам за столом говорить такие неподобности? Словно искупая грубость мужа, она, улыбнувшись, обратилась к гостю с не менее удивительной в столь прелестной особе рассудительностью:
– Воля ваша, граф, а прав мой Климентий. Ничего из вашей идеи не получится!
– Почему же, сударыня? – спросил Данил Ильич, невольно любуясь большими зелеными глазами и подчеркнутыми платьем роскошными статями помещицы, казавшимися особо интригующими в свете свечей (чай с блинами и наливками в доме Сысоевых происходил уже поздним вечером).
– Так уж веками повелось, что господин – это господин, а раб – это раб. Как же нам теперь вести дела на равных? когда меж нами такая пропасть?
– Но неужто, – всплеснул руками изгнанник, – нельзя оную пропасть засыпать!? Если это будет выгодно тем и другим?
Грубиян Климент Ларионович, уже опроставший графинчик рябиновой, хотел снова что-то гневное выпалить – но супруга сделала едва уловимый жест, так что тот зубами клацнул, а сказать ничего не сказал. Сама m-me Сысоева, сев за стол к гостю, давай так говорить с милейшим выражением:
– Воля ваша, граф, но природу не обманешь… Крестьяне – сродни животным, мы – их владельцы. Для рабов естественно быть низшими существами в собственности у высших, иначе они добились бы для себя иной доли. Сие определено провидением!
– Позвольте не согласиться… – начал Данил Ильич. Но во взгляде прелестницы блеснули такие искорки, что гость осекся.
– Не спорьте, ваше сиятельство, – еще милее улыбнулась та. – Ведь по-правде же вы сами считаете, что мы с ними разные.
– Куда мужичью без хозяйской руки да порки? – оскалился Климент Ларионович. – Они и сами не захотят жить по-новому! На то Железнобокий, старательно отводя взор от плечей и декольте Агриппины Матвеевны, возразил:
– Нет, нет и нет!! Любая живая душа стремится к свободе…
– Ой-ли? – засмеялась помещица как от забавной шутки. – Давайте проверим. Не угодно, граф, посмотреть нашу деревню да с мужичками поговорить? Данил Ильич на это согласился с той большей охотой, что Сысоево с деревушкой находились в месте, где по его мысли удобно было сделать ярмарку. Отчего ж, решил он, не изучить сию местность, коли случай представился.
Вот только встреченное в деревне, а точнее в обитателях ее, затмило все мысли о будущем «экономическом чуде».
– Мы всегда землю пахали, – поклонился староста, вышедший с деревенскими встречать господ. – И пращуры наши всегда землю пахали. Наше дело – хрестьянское…
– Очень хорошо, – сказал на это Данил Ильич. – А что если вам… кхм… судари, каждому обзавестись отдельным хозяйством, чтобы жить богато и свободно?
– Наше дело – хрестьянское, – бесстрастно повторил староста, опустив взгляд в землю, и мужики с бабами произвели тот же жест…
В общем, как ни старался его сиятельство, а ничем полезным беседа эта не увенчалась. На любые его доводы крестьяне никли головой, знай повторяя «наше дело хрестьянское», и ничего сверх того от них было не добиться… (Только уже позднее Данил Ильич придет к пониманию, что сама идея частной собственности представала для мужиков кощунством, ибо коллективистский обычай «мира» был не совместим с индивидуализмом да деловым интересом, этими подлинными локомотивами прогресса.)
Итак, ситуация выходила куда сложнее, чем на первый взгляд казалось изгнаннику.
Начать с уездных помещиков. Что и говорить, не пришлись они друг другу, наш «бомонд» и граф-изгнанник. Если помещики от идей его сиятельства пришли в ужас, то и Железнобокий от своих собеседников не в восторге остался. Уже одни их апатичные, неряшливые, а часто испитые обличия вызвали в изгнаннике оторопь – точно не он, а они были в ссылке. Но еще хуже была их заскорузлая манера мыслить. Пожалуй, очаровательная madame Syssoïeva (…да, вот, к слову, кто из всего уездного дворянства выглядела весьма приятно! Данил Ильич сам на себя удивлялся: как это он от вида помещицы сбился с толку, что на него было совсем не похоже. Более того, мысли о m-me Сысоевой затем преследовали его еще долго…) так вот, пожалуй, Агриппина Матвеевна и муж ее, как самые богатые из здешних дворян, выражали мнение всех помещиков, побоявшихся сказать о том графу прямо. Все они считали крестьян низшими существами, которым определено провидением быть в их собственности. Соответственно, им, помещикам, провидением предписывалось жить на мужицком горбу, и поступиться оной привилегией они бы ни за что не согласились.
Но если тех же помещиков крепостнический уклад обратил в бесполезных трутней, то крестьян – коими владели на правах чуть не скотины, коих можно было купить и продать, проиграть в карты, подарить на именины, и в целом можно было обращаться с ними как заблагорассудится (по сути, законом воспрещалось лишь убийство крещеной души) – постигла участь того печальнее. Нечто подобное Данил Ильич видел, когда студентом посещал анатомические театры в лондонских клиниках, где светила хирургии производили опыты на осужденных преступниках, вскрывая им – еще живым – черепные коробки и вырезая куски мозга. В глазах крепостных граф встретил схожее выражение полной индифферентности. Oh my God, содрогался Данил Ильич. Поди-ка сделай из этих окостенелых натур – бизнес-мэнов!..


