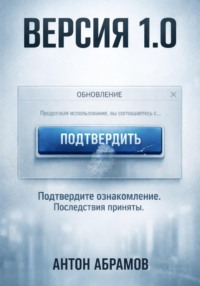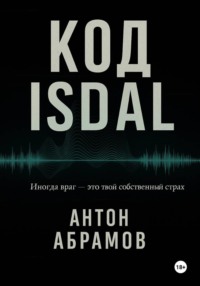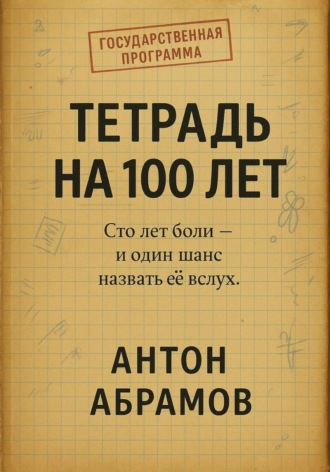
Полная версия
Тетрадь на 100 лет
Он сел так, чтобы занять пространство: локоть на спинку соседнего стула, блокнот по диагонали, ручка за ухом. В этой непринуждённости было что-то детское – и бесконечная готовность шутить, если станет слишком тихо.
Марина пришла без звука. Дверь открылась так же, как у Игоря, но в воздух не ворвался ни один лишний атом, будто в комнату вошёл аккуратный холод. Высокая, прямые плечи, прямая спина. Тёмный костюм без блеска, белая рубашка без украшений; тонкие серые часы – не модные, а правильные; волосы собраны так, что ни одна прядь не просит свободы. В руке – папка на завязках, плотная, архивная; из неё выглядывали цветные закладки: жёлтые, голубые, красные. Каждая – вровень. Рядом с папкой – чёрный футляр для очков; очки она наденет позже, когда начнётся работа.
– Доброе утро, – сказала она. И вдруг, как всегда, «доброе» прозвучало у неё так, будто было «точное». Внутри «добра» у Марины всегда стояла рулетка.
– Марина! – обрадовался Игорь. – Мы тут набираем скорость перед большим стартом. Вы готовы к длинной дистанции?
– Готова к точной, – сказала Марина. – Остальное лишнее.
Она осторожно положила папку на стол, покосилась на Игорев телефон, лежащий посреди поверхности, как яркая деталь на чертёжной доске, и – не притронувшись – отодвинула его взглядом. Села прямо, положила ладони параллельно краю стола, словно снимок, с которого можно учиться по геометрии.
Я смотрела на них двоих и думала о нас троих, как о трёх типах дыхания. У Игоря – частое, поверхностное, смехом перекрывающее паузы; у Марины – глубокое, редкое, ровное, как у пловца перед длинной дорожкой; у меня – прерывистое, как если бы нужно было сначала спросить у воздуха разрешения. В «Зале» все эти дыхания смешивались, и тишина становилась чем-то плотным, ощутимым на языке.
На стене вспыхнул маленький зелёный огонёк – это в аппаратной, за матовым стеклом, кто-то проверил питание; следом коротко шумнул вентилятор. Экран на мгновение дрогнул: тонкая серая полоска пробежала сверху вниз, как если бы чёрный лёд под нами проверили на прочность. На границе рамы притаился крошечный логотип, новая буква нашего алфавита: ∑, – так почему-то решили пометить последнюю сборку интерфейса. Игорь первым потянулся к пульту, остановил руку в сантиметре – и отдал её мне взглядом.
– Включай, – сказал. – Ты у нас сегодня капитан корабля.
– Мы не корабль, – сказала Марина. – Мы аудиторы. И объект аудита.
Игорь тихо присвистнул.
– Люблю, когда меня сравнивают с объектом. Это изящнее, чем с подопытным.
Я нажала кнопку. Экран ожил, вспыхнул знакомой полосой и стал похож на вечернее небо над городом, когда на него выходит первая строка самолёта.
Инициализация… ОК.
Тест целостности корпуса… ОК.
Пакеты предобработки… ОК.
Первые строчки всегда видны было отчётливее прочего – как если бы сам процесс загрузки любил свою банальность и гордился ею. Потом пошёл более мелкий, бегущий шрифт, как дождь за узким окном: номера модулей, тайм-коды, стек вызовов.
– Вот они, ваши кроссовки, – шепнула я Игорю, показав на строку «UI-шина: активна». – Бегают без остановки.
– А ваши – это архивный модуль, – ответил он. – Устойчивый ход, без резких поворотов.
Марина не участвовала в шутке. Она развернула свой блокнот, в котором по линейке уже были проведены три вертикальные линии: «Факт», «Комментарий», «Риск». И в левом столбце аккуратно, с тягой к печатным буквам, записала: Запуск. Нормально. Это «нормально» у неё не было эвфемизмом, оно было именно нормальным – прямым, без швов.
Я впервые увидела их рядом так близко – и поняла обеими руками, не только головой, зачем нас втроём свели в один проект. Игорь будет давать миру лишние слова, чтобы не слышать нужных. Марина – нужные слова, чтобы не слышать лишних. А я – тихие, чтобы не слышать громких. Мы трое – как три способа уклониться от «люблю», от «боюсь», от «виноват». И если «Мнемозина» действительно умеет читать молчание, она прочтёт нас всех одинаково.
– Смотри, – сказал Игорь, кивком на экран. – Снова любимые графики.
Графики появились привычные, как пульс на мониторе – тонкие линии, крошечные пики. Вверху возникла карта «Кластер 1921–1923»: появлялись метки с географией, и каждая метка, если коснуться её курсором, раскрывала фамилии и обрывки фраз. «Ели лебеду», «держитесь», «всё будет хорошо».
– Мы будем идти по плану? – спросила Марина. – Сначала проверка корпуса, затем выборка по ключевым годам, затем сверка с атласом?
– Конечно, – сказал Игорь. – А потом – ужин. И я наконец узнаю, почему у вас на часах нет ни единой царапины.
Марина подняла глаза поверх блокнота.
– Потому что я их берегу. Вещи живут дольше, если их не бросать.
Она сказала это просто, без морали – и мне вдруг стало понятнее, почему у неё всегда аккуратные края у папок. Беречь вещи – иногда единственный способ беречь себя.
Я поймала себя на том, что считаю их дыхания, как считают вдохи у пациентов: ритмы, паузы, длинные выдохи. Я ловила интонации, развешивала каждую на невидимой верёвке внутри – как кардиограммы. Это было и профессионально, и немного жестоко. Но иначе я не умела: я всегда сначала слушала, потом говорила. Даже когда это «слушать» было тишиной.
– Анна, – вдруг сказал Игорь мягче обычного. – А вы? Вы к чему готовы?
– К точности, – ответила я, оглянувшись на Марину. И добавила, не на шутку: – И к ошибкам. Они у нас тоже должны быть предусмотрены.
Марина едва заметно кивнула. В её мире «ошибки» имели право на существование только в одной форме – заранее учтёнными.
На экране сменился блок и появился раздел «Карта модулей». Это был тот самый атлас, который на презентациях казался скучным: прямоугольники, стрелки, подписи. Но здесь он светился изнутри – и действительно напоминал анатомию. «Corpus Magna» – как грудная клетка, в которой бьётся бумажное сердце; «Verbum» – тонким нервным сплетением, расходящимся по всем документам; «Pathos» – сетью капилляров, где вместо крови текут смысловые градиенты; «Genoma Memoriae» – двадцать три пары, как рёбра, пара к паре; «Theatrum» – проекционная кортикальная кора; «Persona» – крошечный, как зрачок, модуль, соединяющий весь организм с чьим-то взглядом.
– Красиво, – сказал Игорь без привычной иронии. – Честно, красиво. Как рентген большого зверя.
– Это не зверь, – сказала Марина. – Это инструмент.
Я не ответила вслух. Про себя я подумала: «Оба правы». Машина похожа на зверя – она дышит корпусом и тепло излучает, как кожа. Но она и инструмент – только слишком острый. Им легко порезаться, если трогать без перчаток.
Слева внизу всплыло приглашение: «Операторы, активируйте персональные профили». Под ним – наши имена. Игорь уже потянулся к сенсору, но остановился. Я заметила, как на мгновение он, всегда быстрый, задавил в себе привычный порыв быть первым.
– По очереди, – сказал он серьёзно. – Давайте по очереди, а то подумает, что мы не умеем ждать.
– Я умею, – сказала Марина. – Всегда.
– Я – учусь, – сказала я.
В интерфейсе не было ничего личного: сухие поля, короткие инструкции. Но когда я приложила палец к датчику, холодный ободок металла неожиданно подался теплом. Система мягко подпрыгнула – как кот, который узнаёт запах своего. Появились стандартные столбцы: «Речь», «Пауза», «Смысл». Над ними – нейтральная надпись: «Профиль Анны Л. активирован».
Игорь приложил палец демонстративно, как целует руку старой тётушке: чуть слишком театрально, но с искренностью. «Профиль Игоря М. активирован». Марина – точно, без жестов. «Профиль Марины С. активирован».
– Теперь, – сказала Марина, – предлагаю чёткую схему. Анна задаёт порядок. Игорь держит интерфейс. Я фиксирую факты и риски. Без импровизаций.
– Я всегда за импровизацию внутри схемы, – Игорь сделал пол-улыбки. – Как джаз: сначала структура, потом вдох.
Я записала в блокноте: Структура → вдох. Это сочетание казалось нелепым для протокола, но верным для нас троих. Мы в самом деле были устроены примерно так.
Свет в «Зале» был ровным, мягким; но где-то вверху, у вентиляционных решёток, солнце через маленькую форточку оставило скошенный треугольник, в который упала пылинка, и стала светиться, как звезда в карманном телескопе. Я заметила, как Марина на долю секунды отвлеклась взглядом на этот треугольник – так смотрят те, кто умеет держать всё под контролем и вполне осознаёт, что невозможно держать свет. Игорь тоже заметил, но только затем, чтобы перевести на это шутку: «Смотрите, нам уже подмигивают высшие силы». Ничего не сказал. Просто улыбнулся.
– Начинаем, – произнесла я.
Я всегда слышала собственный голос в наушниках, как спикеры на конференциях – с микросекундной задержкой. Из-за этой задержки я обычно говорила мягче, чем думала. Сейчас задержка исчезла. И голос стал ровным.
Раздел «Ключевые годы». 1921–1923.
На карте вспыхнули точки Поволжья, степные названия, которые мы знали по учебникам и чужим воспоминаниям; рядом раскрывались карточки: «дневник Н.», «письмо П.», «заявление о выдаче пособия». Каждая карточка была как ракушка: если поднести к уху – услышишь море.
– Вот она, – сказал Игорь неожиданно тихо. – Та самая «лебеда».
– Да, – ответила Марина. – И то, что вокруг неё потом выросло.
Я коснулась курсором одной карточки, и развернулся короткий абзац – ровный почерк на пожухлой бумаге: «Сын сегодня не просил воды. Смотрел в окно». И внизу – метка: «эмоциональный маркер отсутствует».
– Запиши, – сказала я. – Отсутствие маркера – маркер.
Марина подняла глаза. Ничего не сказала – просто отметила в своём столбце «Факт» галочку и перенесла фразу из моей устной речи в точную строку. Её аккуратность в такие моменты становилась не просто качеством характера – она становилась человеческим согласием: мы будем держать линии ровными там, где людей качало.
– Анна, – тихо сказал Игорь, – а вы… – и замолчал. Это было странно: обычно в такие моменты он находил что угодно – смешное, нелепое, совпадающее. Сейчас – нет.
– Я – здесь, – ответила я. – И слышу.
В аппаратной за стеклом кто-то кашлянул. Вентилятор коротко дёрнулся. На секунду показалось, что экран сделает шаг вперёд, приблизится – как зеркало, если на него наклониться слишком близко. Никакого сбоя не было. Просто мы перестали быть зрителями. И стали теми, кого смотрят.
Примечание к протоколу:
В 10:37 все три профиля активированы. Интерфейс « Persona » готов к режиму диалога. Операторы – присутствуют. Запись – ведётся.
Я машинально записала это в блокнот, как записывают терапевты начало сеанса: дата, время, присутствующие, тема. И подумала – в первый раз вслух и без улыбки – что это и правда сеанс. Наш. Троих. И, возможно, всей страны, если позволим.
– Поехали, – сказал Игорь. На этот раз без шутки.
– По порядку, – сказала Марина.
– По живому, – сказала я.
И «Зал», до этого похожий на кабинет и лабораторию, стал напоминать церковь – пустую, белую, строгую, где всякое слово слышно слишком отчётливо. Мы втроём сидели на длинной скамье перед алтарём чёрного экрана и ждали, когда подастся вперёд первая строка молитвы – или признания.
За стеклом погас один индикатор и тут же загорелся снова, как если бы кто-то моргнул. Я вдруг ясно увидела каждого из нас до самой кости.
Игоря – с его яркими кроссовками, которые придуманы для бегства от себя. Марину – с её безошибочной прямотой, которая однажды спасла ей жизнь и теперь стала бронёй. Себя – с блокнотом и ровной строчкой, за которой прячется страх сказать главное.
Мы были трое, на которых вот-вот наденут наушники истории. И я, кажется, впервые за долгое время была к этому готова. Или просто устала не быть готовой.
Новелла 1. «Праздник кожуры»
( Поволжье , 1921–1922. Семейная ветвь Анны )
Дом стоял в низине, как лодка, севшая на мель. Стены – из обмазанного глиной плетня, крыша – соломенная, перевязанная прошлогодней бечёвкой, в окнах – марля, изнутри прихваченная гвоздиками. По утрам в трубе появлялся дым – не тёплый, а ахиллов, тонкий, как нитка: печь не грела, а лишь доказывала, что ещё жива. Снег во дворе лежал серыми пластами, как хлеб без мякиша. В этом доме жили трое: Дарья, её дочь Варвара – Варя – двенадцати лет, и мальчик Петрик, шести, «ветер и глаза», как говорила покойная бабка. Отец растворился в войнах и реквизициях – его имя вспоминали по праздникам, не потому что так велела церковь, а потому что память требовала ритуала.
С весны они ели всё, что поддавалось варке: лебеду, крапиву, крошево сена, кору, которую Варя стругала ножом со старого частокола, и – главное – клейстер. Обойный клей размокал, густел в железном чугунке и тянулся с ложки медленно, как ложь, сказанная ради спасения. Вкус у него был липкий, сладковатый, и эта ложь обманывала язык и на полчаса успокаивала тело. Соседка Аграфена приносила картофельную кожуру – горсть, другую – и говорила: «Положи, Дарьюшка, в похлёбку – вкус другой будет. Праздник». Дарья кивала и ставила чугунок на край углей. Петрик ещё смеялся, когда кожура в кипятке закручивалась колесом, – он вообще всё превращал в игру, за что Дарья едва не сердились на него, а потом – стыдилась этой сердитости.
По ночам изба скрипела, как старый корабль. В печи остывал пепел; по щелям ползли холод и тишина. Собаки выли – их стало меньше, потому что они тоже превратились в ветер. Иногда к дому подъезжала телега: двое мужчин в ватниках, пахучий брезент, сухой стук колёс. Они переговаривались коротко: «Есть? – Нет? – Ошиблись». Телега уезжала дальше – забирать тех, кого нужно было забрать. Дарья выходила за ворота и кланялась верёвкам, как богослужению без слов.
Волостной писарь Михайла приходил с потрёпанной книгой, в которой было слишком много пустых строк. Он менял чернильницы, перетирал гусиные перья, записывал: «Безземельные – столько-то. Сироты – столько-то». На его лице ничего не было написано. Он говорил: «Скоро назначат кухни в городе. Саратов ближе всех». Слово «кухни» звучало как «церкви»: будто там можно было получить миску супа без исповеди. Кто-то из деревни уходил в город пешком – кто-то возвращался, кто-то нет, и снег на их плечах лежал одинаково.
Днём Варя ходила с матерью на базар. Базар был похож на кладбище вещей: здесь продавали не товары, а память. За старую шаль – горсть ячменя. За обручальное кольцо – три стакана. За серёжки бабки – два стакана и ножовка с рваными зубьями. Дарья торговалась плохо – ей было стыдно ставить цену на себя. Варя стояла рядом и считала вслух зёрна в стакане, чтобы не думать о кольце. «Один, два, три…» – на «четыре» у неё сбивался счёт, словно мир ломался на этом числе, и она начинала сначала.
Слухи были как ветер: их нельзя было увидеть, но они забирались в уши, в постели, в молитвы. Говорили, что в соседней волости в лавке продают «не то мясо», что детей не отпускают одних на речку, что в оврагах кто-то ходит с мешком. Говорили, что в Самаре, Симбирске и Саратове «американцы» ставят котлы, разливают суп в оловянные миски и не спрашивают, за кого ты был – лишь бы дожил до очереди. Говорили, что крестьяне меняют иконы на муку, а мука как дым: вчера был, сегодня нет. Слухи в голод не были пустыми – они были языком, которым говорили те, у кого не осталось слов.
Однажды утром Аграфена – маленькая, лёгкая, как сухая трава, – принесла Дарье полный кулак сушёной кожуры. «Положи, – сказала, – дети как праздник почувствуют». И улыбнулась – не от радости, а от привычки спасать себя улыбкой. Дарья поставила чугунок, вода зашипела, кожура закрутилась в кипятке. Петрик захлопал ладошами, и у него вдруг стало взрослое лицо: серьёзное, сосредоточенное. «Праздник», – сказал он, словно открыл пряничную коробку. Варя слушала, как кипит вода, и ей показалось, что кипит не вода, а её кровь. Она помешала деревянной ложкой, потом наклонилась над паром, вдохнула – и заплакала без звука. Дарья подошла, коснулась её плеча – рука легла, как ветка.
Они ели медленно. Петрик ел, как барин, – с достоинством, маленькими глотками, будто умея растягивать жизнь. Потом он лёг на лавку и задремал. Варя накрыла его овчиной полушубка – тем самым, который раньше пах лошадью и сеном, а теперь пах молчанием. В полдень ребёнок не проснулся. Дарья долго сидела на лавке, держа его руку, и не плакала – не потому что была сильной, а потому что тело не знало, как плакать. Варя, которая когда-то говорила быстро и смеялась легко, взяла карандаш, раскрыла тетрадку, где раньше записывали «соль – столько-то, нитки – столько-то», и написала: «Брат улыбнулся. Сказал “праздник”. Потом лёг спать и больше не просыпался». Чернила расплылись, как будто тоже были голодны.
Сосед Фёдор пришёл вечером, прислонился к косяку – постаревший, словно его год выжил. Он попросил у Дарьи ложку ячменя – у него, мол, осталась только ножовка, а дерево всё равно надо чем-то пилить. Дарья отсыпала. Ночью Фёдора нашли в овраге: сел отдохнуть – и не встал. Варя услышала, как по улице медленно проехала телега. Она вышла на крыльцо, присела на ступеньку и запомнила скрип – этот скрип потом будет ей сниться, как песня без слов.
В церкви священник Павел служил кратко, экономя голоса прихожан. Свечи таяли быстрее, чем раньше; казалось, в них было меньше воска и больше тоски. Женщины стояли, как поленья: крепко, не шевелясь, со сложенными руками – и только глаза у многих бегали, словно в них кто-то имел право жить. О женщине, которая кричала на похоронах, шептали: «Нехорошо. Надо держаться». Слово «держись» звучало как пароль, а стало – как фамилия. «Мы – Держись», – подумала Варя, и ей стало от этого стыдно и тепло одновременно.
Варю с весны послали к реке собирать кору. Она аккуратно стругала узкие полоски, складывала их, как ленты, и сушила в сенях. Иногда кору удавалось перемолоть и подмешать в клейстер – он получался гуще, как будто в нём была память – грубая, жёсткая. Внизу, у воды, лёд звенел, будто кто-то звонил в маленький колокол. За речкой, у стога, появлялся человек в отрепьях, стоял, глядел на их сторону и исчезал – и весь этот мир казался общей огромной грудью, на которой резко перестало хватать молока.
Летом кто-то вернулся из города с картонной карточкой – на ней печать и слово «кухня». «Ставят котлы, – рассказывал он, – суп разливают, хлеб по кусочку. В день. Меняют на карточку. Далёко идти. Но можно». Дарья слушала и кивала, но ноги её никуда не шли: Петрика уже не было, а Варю она боялась отпускать. Аграфена потащила свою младшую – Лизу – и вернулась одна: Лиза заболела в дороге. «Не смогла, – сказала она, – не донесла». Слова были простые, но произнесены так, будто у неё изо рта вытаскивали по волоску.
Волостной писарь Михайла однажды привёл незнакомого – высокого, с мягкими руками и чужой шапкой. Тот говорил на том же языке, но мягче, как будто учился в другой школе. Он вежливо спросил у Дарьи, сколько их осталось. «Две», – ответила она, не считая себя. Он помолчал и сказал, что в уезде начнут выдавать семена – немного, но на весну хватит. Дарья смотрела на него так, как смотрят на воду – недоверчиво и жадно.
Смерть в эти месяцы ходила в валенках, чтобы не пугать – и всё равно все её слышали. В деревне выкопали общую яму – не потому, что людям не было места в земле по отдельности, а потому что людям не было сил. Священник Павел не успевал, и его «вечная память» звучала как обычная усталость. Варя с Дарьей стали говорить о смерти без причитаний: «Лёг», «Ушёл», «Не дожил». Слова «умер» в их доме как будто не было: оно было слишком тяжёлым, чтобы его поднимать.
Однажды в избу вошли двое мужчин в суконных френчах. Один держал список, другой – карандаш. «Дети?» – спросил первый. «Одна», – ответила Дарья, и Варе показалось, что у неё на языке лежит камешек. «Сироты?» – «Есть – вон там, у Панкратьевых». Мужчины движением брови поблагодарили и ушли, оставив в воздухе запах мокрой шинели. Варя долго сидела молча, потом спросила: «Мама, а мы – кто?» Дарья хотела ответить «живые» – но выдохнула: «Свои».
Зимой 1922-го снег стал светлее – не потому что солнце, а потому что взгляд изменился. У людей появились маленькие дела. Сидели по ночам и чинили мешочки – в них можно было спрятать зерно, если дадут. Варя выучилась сушить крапиву так, чтобы она не чернела: в тени, на сквозняке. К весне у них в сенях висело целое «зелье» – пучки трав, пахнущих терпко, как терпение. Дарья шила из рубахи мужа узкие полоски: «на завязки». Варя прятала засушенный лист в тетрадку – между словами «праздник» и «лёг» – как будто оставляла закладку в книге, где никогда не будет следующей главы.
В марте пришёл человек с печатью и списком – тот самый, со «словом из другой комнаты». Он принёс мешочек семян. «По грамму на двор, – сказал, – остальное в волость». Дарья взяла, как берут крест в руки – боясь уронить. Семена пахли пылью и надеждой, и Варя впервые за год улыбнулась так, как улыбаются дети не на «праздник кожуры», а на настоящий хлеб. Они перерыли огород, как кладбище: аккуратно, не наступая на свежую землю. Вечером Дарья поцеловала ладонь – свою – и сказала словом, от которого фарфор внутри скрипнул: «Живём».
Весной телега стала приезжать реже, но всё же приезжала. Аграфена умерла тихо, не тревожа соседей, как ветка отломилась. У входа в лавку кто-то прибил крест без имени, на дощечке углём было написано: «Году сей». Ошибка – не в годе, а в роде: год действительно сеял, но не только рожь. Он сеял молчание – ловко, быстро, широким жестом.
Летом в волости поставили котлы. Говорили: «Американские», «из города», «за океаном». Для Дарьи строгость слова «Америка» была неважна – важно было, что в котлах варилась настоящая похлёбка: картофель, крупа, иногда – мясо, на которое Варя смотрела, как на чудо. Они добирались туда два дня: пешком, а когда силы заканчивались – на попутной повозке. Варя держала карточку, как берегут икону, – не потому что боялась потерять, а потому что в этом тонком картоне наконец-то было написано «можно». На лавке рядом мужчина, который рассказывал, что оттуда приехал, говорил: «Они разливают суп, не спрашивают, кто ты. Только – подожди свою очередь». Варя кивала каждому слову, как молитве. Она ела медленно и впервые за долгие месяцы не боялась – не того, что еда кончится, а того, что в ней нечего будет крошить.
Они вернулись домой другими – не сытыми, но и не прежними. Печь снова затопили по-настоящему – дым стал тёплым. Дарья расставила по окну глиняные миски – не для красоты, а чтобы «было как дома». Варя перестала записывать в тетрадке каждую смерть – не потому, что их не было, а потому, что появились другие слова: «получили», «посеяли», «насушили». Однажды она написала «смеялись» – и это слово выглядело среди других, как яркая пуговица на сером пальто.
К концу лета Дарья повела Варю в церковь не потому, что нужно, а потому, что захотелось. Священник Павел пел ровно, свечи горели обычным огнём. Женщины уже не замирали в молитве, как поленья, – они шевелились, поправляли платки, шептали имена. Варя поставила маленькую свечу у стены и тихо сказала: «Петрик». И впервые за год это имя не порезало ей горло.
Они ходили на реку по вечерам: Варя кидала шишки в воду, смотрела, как они плывут, и представляла, что это письма, которые она никогда не отправит. Дарья сидела на коряге рядом, держала руки на коленях – пальцы у неё были уже не сучьями, а просто пальцами. Она не рассказывала Варе сказок – сказки кончились в ту зиму. Вместо сказок она говорила коротко: «Ешь», «Спи», «Сей». Варя слушала и думала: эти слова – как камни в фундаменте: некрасивые, но без них дом не стоит.
Осень пришла не так страшно. В огороде выросло что-то похожее на еду – пусть кривое, но своё. В амбаре скопилась мука – не мешками, а маленькими платочками в углу. Края у этих платочков распушились от прикосновений, и Варя любила их разглаживать – как будто гладила чью-то голову. В длинные вечера они у печи перебирали сухари – те самые, которые каждый день насыпали из котла, сушили на солнце и прятали «на потом». Здесь слово «потом» снова звучало не как приговор, а как обещание.
Однажды вечером пришёл тот самый писарь Михайла – постаревший на два века. Он перебирал записи в своей книге, листая её, как травник, пока не нашёл фамилию Дарьи. «Вы – остались, – сказал он не вопросом, а утверждением. – Хорошо». Дарья подумала: «Мы не остались. Мы – дошли». Но вслух ничего не сказала – кивнула, и это «кивнула» означало «спасибо», «правда», «живём».
Зимой 1922–23 года Варя нашла в сундуке рубаху отца – выцветшую, мягкую. Она разрезала её на полосы, пришила к мешочкам, сложила семена будущей весны. Её руки уже не дрожали. Она записала в тетрадку: «Сеяли. Смех был». И ещё строчку – мелким шрифтом, под самую кромку бумаги: «Я не плакала. Аграфена сказала – не надо. Аграфена знала». Эта фраза много лет будет лежать у неё в горле, как косточка: иногда мешать дышать, иногда – спасать от чужих слов.