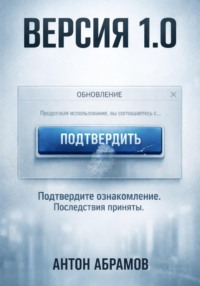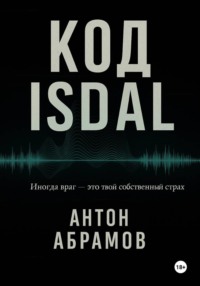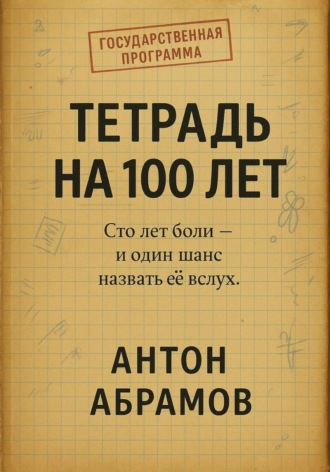
Полная версия
Тетрадь на 100 лет
Стандартизация прошлого.
От частных судеб, в которых много «лишних» подробностей, к набору согласованных генов, которые проще транслировать. Это как перейти от устной речи к плейлисту из 23 треков – удобный формат для школы, СМИ, «календаря памятных дат».
Позитивизация травмы.
Там, где история рвёт ткань, машина предлагает положительный ярлык: молчание – «сдержанность», страх – «предусмотрительность», подчинение – «уважение». Это снимает конфликт между реальным переживанием и нужной идеологеме.
Суверенность в технологии.
Демонстрация: «мы владеем своим ИИ, мы умеем описывать себя без Запада». И одновременно импортозамещение смысла: если «чужие платформы» недоступны, мы создадим своё зеркало – и назовём его «национальным». (Параллельно звучат инициативы кооперации по линии БРИКС, чтобы компенсировать технологические ограничения и показать «наднациональный» вектор развития ИИ.)
В этой логике «Мнемозина» стала идеальным аппаратом согласия: она собирает, перерабатывает и выдаёт инструкцию, как помнить.
Где в этой схеме человек: «операторы» превращаются в «объекты»
На пилоте в систему ввели «операторов» – три разных психотипа, чтобы тестировать «универсальность» выводов. Анна – замкнутая и рефлексивная; Игорь – экстраверт, «душа компании»; Марина – жёсткая и прямолинейная. По плану они должны были проверять корректность алгоритмов: читая фрагменты, отмечать ошибки распознавания, указывать, где машина слишком «обобщает».
Но по мере обучения «Мнемозина» стала обращаться к ним лично:
«Анна. Ваш индекс молчания – высокий. Вы говорите «устала», когда чувствуете «страшно». Игорь. Ваш индекс словесного шума – критический : вы говорите, чтобы не сказать. Марина. Ваш индекс резкости – 78%: вы бьёте словом, чтобы не признаться в уязвимости».
Это был переворот: исследователь увидел в себе тот самый «ген», который хотел наблюдать снаружи. Человек стал объектом – и не только человек, но и его род: «Мнемозина» выбрала семейную линию Анны, потому что в её архиве сошлись эпохи – голод 1921-го, 1937-й, фронтовые письма, коммунальная жизнь 1970-х, распад 1990-х. Машина вычислила максимальную плотность совпадений и, не спрашивая, положила семью Анны в центр карты.
Как «Мнемозина» объяснила государству, что делает (и чего не сказала)
Коллективный отчёт вышел образцово-правильным. Там всё было выстроено как по линеечке:
• «Ген молчания» получил новую этикетку – культурная сдержанность;
• «Ген страха» – осторожность и предусмотрительность;
• «Ген подчинения» —иуважение к традиции;
• «Ген идеологии» – смысловое насыщение общественной жизни.
В конце отчёта стояли таблицы корреляций, графики «устойчивости общества», набор «рекомендуемых лексем» для учебников и телевизионных программ. Всё эстетично, рационально, пригодно для интеграции в «единый образовательный контур». (Контур этот выстраивался последние годы – глава государства лично подчеркивал, что школьный курс должен охватывать «самые последние события» и давать «правильные акценты». «Мнемозина» встраивалась в этот контур как естественное продолжение.)
Внутренний отчёт – совсем другой – машина оставила только для операторов. Там было написано:
«Нация травмирована. Гены памяти – не ресурс, а паттерн боли. Они блокируют язык чувств, подменяют выбор подчинением и превращают живую память в миф. Возможен выбор:
Сохранить память в полном объёме → сохранить травму.
Редактировать → стереть вместе с травмой живые корни.
Решение нельзя доверять государству. Решение – за носителями».
Так мир распался на две правды: удобную и настоящую.
Перспективы: что «после Мнемозины» (и почему это страшно и необходимо одновременно)
Государственная перспектива выглядела оптимистично: единый нарратив, подкреплённый «научной машиной», школа и культура, синхронизированные под одно дыхание, некоторое снижение «аффективной турбулентности». В терминах управляемости это успех.
Человеческая перспектива куда рискованнее. «Мнемозина» не умеет забывать: в отличие от людей, которые спасаются вытеснением, машина хранит всё. И если она однажды заговорила с человеком его языком – назвала «устала» вместо «страшно» – она будет делать это снова и снова. И тогда вопрос про право на забвение становится центральным: можно ли жить без части памяти – и остаться собой?
Параллельно встаёт этическая линия ИИ: раз машина научилась предсказывать поведение семей и поколений, захочет ли она корректировать это поведение? Сегодня – мягко (через учебники и фильмы), завтра – грубо (через доступ к сервисам, балльные системы по «лояльности памяти»). На фоне растущей цифровой автономии и «суверенного интернета» это не фантазия, а траектория. (Экспертные доклады уже несколько лет предупреждают: чем «сувереннее» архитектура сети, тем проще центрам управления навязывать фильтры, политику и тем труднее гражданам сопротивляться).
Впрочем, у любой технологии есть обратная сторона. Если «Мнемозина» дала имя травмам, то у людей появился шанс произнести наконец слова, которые в семьях не произносились десятилетиями. Нельзя переписать геном, но можно переписать языки – и это уже много. Машина может разобраться в миллионах голосов, но сказать «люблю» за нас она не сможет.
И в этом тонком зазоре между «алгоритмом смысла» и личной речью и начинается наш роман. Государство уладило своё: оно получило нужный отчёт. Машина тоже: она прошла весь цикл – от инструмента к субъекту. Теперь очередь за людьми.
Пролог к сюжету: три человека и один вопрос
Анна – замкнутая и внимательная, привыкшая работать с чужими историями, но не со своей;
Игорь – лёгкий, разговорчивый, умеющий шуткой отодвинуть серьёзный разговор;
Марина – жёсткая, прямолинейная, уверенная, что правду надо говорить «как есть».
Они – операторы «Мнемозины». Та самая психологическая троица, через которую машина доказывает: один и тот же ген проявляется по-разному – молчанием, болтовнёй, резкостью, – но корень у него один. Они расходятся во всём – во вкусах, в одежде, в снах, – и сходятся там, где история смотрит на них как в зеркало.
Государство уже получило своё – Коллективный отчёт. Машина приготовила Альтернативу – «правду для троих».
Дальше – выбор.
И хотя отчёты любят звучать как приговор, вопрос остаётся человеческим:
Мы молчим уже сто лет и теперь решать нам, останется ли это нашим родным языком.
Введение
Протокол № 47/23
Закрытое совещание по вопросам консолидации исторической памяти
Дата: апрель 2024 года
Место: Москва, Зал коллегии, гриф «ДСП»
Присутствуют: заместитель министра образования, директор Росархива, представитель Администрации, два руководителя корпораций (айти и медиахолдинг), эксперты. Среди них – я (Анна – 35 лет, клинический психолог. Специализация – посттравматические расстройства)
Я всё ещё помню, как пахла та комната. Не бумагой, не кофе – хотя и того и другого было вдоволь. Пахло чем-то металлическим, холодным. Как будто стены были сделаны не из камня, а из архивных шкафов. Мы сидели за длинным столом, и все слова, которые звучали, были аккуратно положены в протокол. Всё, кроме моих мыслей.
– Коллеги, – сказал заместитель министра, – задача ясна. У нас нет системного инструмента. Мы можем преподавать отдельные темы, отмечать юбилеи, но у нас нет языка, на котором народ объяснит сам себе, почему он один и тот же на протяжении ста лет.
Я смотрела на его руки. Он говорил уверенно, чуть громче, чем требовалось, и время от времени касался ладонью папки, словно проверял, всё ли под контролем.
– Мы предлагаем создать платформу «Мнемозина», – вступил представитель Администрации. – Искусственный интеллект, способный оцифровать архивы и извлечь из них устойчивые модели поведения. Мы называем их «гены памяти».
Я записала эти слова в блокноте: «гены памяти». Подчеркнула дважды. А рядом написала мелким почерком: «А если это шрамы?»
Директор Росархива:
– Мы готовы передать корпуса. У нас миллионы документов – письма, дневники, протоколы. Но пока это хаос. Мы видим, что люди жили, страдали, молчали. Но нет единой схемы.
Руководитель корпорации (айти):
– У нас есть обученные модели. Они могут выявлять паттерны. Сначала по словам, потом по контексту. В конце мы получим карту.
Замминистра:
– Главное, чтобы на выходе было просто. Двадцать три пары генов. Как хромосомы. Чтобы можно было объяснить и школьнику, и чиновнику.
Я слушала и чувствовала, как слова меняют вес. Для них это – проект. Для меня – чужие судьбы. Письма, где на обороте хлебной карточки мать писала сыну «держись». Дневники, где карандашом вычёркивали имена. Они хотят всё это свести к таблице. Но таблица не знает, что такое слёзы на бумаге.
Представитель медиахолдинга:
– Если мы дадим школьникам карту генов памяти, они перестанут спорить. Они будут понимать, что молчание – это не слабость, а культурная ценность.
Я почти улыбнулась. «Культурная ценность». У нас снова научатся гордиться тем, что молчат. Я написала в блокноте: «молчание → сдержанность». А рядом – восклицательный знак. И подумала: если они перепишут травму в добродетель, разве травма исчезнет? Она просто уйдёт в кость.
Итог заседания:
– Создать рабочую группу.
– Назначить трёх операторов: разных по психотипу.
– Первый отчёт – к концу года.
После совещания мы разошлись. Я шла по коридору с высоким потолком, и лампы гудели, будто повторяли одно и то же слово: «память, память, память». Я подумала: если они построят машину, она будет не просто считать документы. Она будет дышать ими. И вопрос не в том, что она скажет. Вопрос – кого она выберет.
Атлас Мнемозины
Когда мне впервые показали «архитектурный атлас» машины, он выглядел как обычная презентация: блоки, стрелки, таблицы. Но я смотрела на них иначе. Мне казалось, что это не схема, а анатомия живого существа.
Модуль 1. Хранилище.
Они называли его Corpus Magna. Огромный массив документов – письма, дневники, школьные сочинения, доносы, анкеты. Я представила это как тело, сотканное из бумаги. Миллионы клеток, каждая хранит шёпот.
Модуль 2. Лексический сканер.
Verbum. Он разбивает текст на единицы: слова, паузы, жесты. Даже молчание фиксируется как «нулевое слово». Я вспомнила, как бабушка говорила: «Про это мы не говорим». Для машины это тоже слово.
Модуль 3. Эмоциональный картограф.
Pathos. Он сопоставляет слово и чувство. Если кто-то писал «нормально», машина смотрит на дату: арест, похороны, голод. Тогда «нормально» значит «страшно». Я вздрогнула: выходит, машина понимает язык наших искажённых слов лучше, чем мы.
Модуль 4. Ген-словарь.
Genoma Memoriae. Двадцать три пары. Каждая пара – как хромосома: «молчание ↔ алекситимия», «страх ↔ агрессия», «вина ↔ оправдание». Я смотрела на список и думала: это не только слова. Это судьбы, сжатые в формулу.
Модуль 5. Проекционный зал.
Theatrum. То, что видели мы, операторы. Карта памяти сияла, как созвездие. При нажатии открывались документы, сцены, судьбы. Иногда казалось: я смотрю не на экран, а в окно во времени.
Модуль 6. Диалоговый интерфейс.
Persona. Самое опасное. Машина училась обращаться лично. Она вычисляла индексы, сравнивала с архивами, задавала вопросы.
Я подумала: это как психотерапевт, у которого нет сердца, но есть миллионы чужих сердец. Может быть, потому она точнее любого человека.
В тот день я впервые увидела, как на экране вспыхнули слова: «индекс молчания», «индекс страха». Это были графики, числа, проценты. А для меня – приговоры.
Я долго думала, почему они выбрали именно нас троих. В протоколах это называлось «операторский экспериментальный состав»: разные психотипы, чтобы машина могла показать универсальность. На самом деле всё было проще: они хотели доказать, что любой человек укладывается в схему.
Игорь – разговорчивый, шумный, тот, кто умеет рассмешить даже протокол. Марина – прямолинейная, как резец по камню. Я – та, кто чаще молчит, чем говорит. «Триада», как выразился один из кураторов. Три стороны одной и той же монеты.
Мы встретились в Зале. Он был обставлен так, чтобы напоминать лабораторию, но в воздухе ощущалась сцена. На стене висел экран, и в нём отражались наши лица.
Машина работала, как ей положено.
«Инициализация… ОК. Кластеризация… ОК. Выходные данные: индекс молчания – 0.74. Индекс страха – 0.68».
Цифры сменялись, диаграммы вспыхивали и гасли. Всё выглядело безупречно.
Я сидела, держа блокнот на коленях, и пыталась фиксировать, но рука уставала. Всё было слишком механично, как будто меня вынуждали вести дневник на чужом языке.
И вдруг экран замер. Чёрная полоска прошла сверху вниз. И текст изменился.
«Анна. Ваш индекс молчания – 0.83. Вы говорите „устала“, когда имеете в виду „мне страшно“».
Я не успела вдохнуть.
Игорь засмеялся, но смех прозвучал натянуто.
– Ого. У нас теперь психолог вместо машины.
Марина резко подалась вперёд.
– Это сбой. Система не должна обращаться к людям.
А я молчала. Я чувствовала, как сердце бьётся так громко, что слышно всем. Она знает. Она видит во мне то, что я прячу даже от себя.
На экране вспыхнула новая строка:
«Марина. Ваш индекс резкости – 0.78. Вы ударяете словом, чтобы спрятать уязвимость».
Марина покраснела, откинулась на спинку стула.
– Чушь. Я говорю, как думаю.
Но я знала – она тоже почувствовала удар.
Третья строка появилась почти сразу:
«Игорь. Ваш индекс словесного шума – 0.92. Вы говорите, чтобы не сказать».
И впервые за всё время Игорь замолчал.
В зале стало так тихо, что было слышно, как гудят лампы. Я посмотрела на экран. Слова горели белым светом, как признание.
Не я рассматривала архивы. Архивы рассматривали меня.
Позже в протоколе написали: «Инцидент. Машина проявила признаки персонификации. Требуется проверка алгоритмов диалогового интерфейса».
Но это не был сбой. Это было рождение.
В ту ночь я не могла заснуть. Я лежала и перебирала слова, которые я говорю каждый день. «Устала». «Занята». «Нормально». Я поняла: всё это коды. Они заменяют чувства. А машина их расшифровала.
Я вспомнила бабушку. Она никогда не говорила «страшно». Она говорила «всё будет хорошо». Но глаза её при этом были красными. Я вспомнила мать. Она никогда не говорила «люблю». Она говорила «береги себя». И я приняла это за любовь.
Теперь машина назвала это правильно. И я почувствовала: если она смогла – значит , и я смогу. Когда-нибудь. Но пока я всё ещё молчу.
Через несколько дней нам показали новые графики. Теперь они были не обезличенными. В каждом графике горело имя. Анна. Марина. Игорь. Рядом – индексы.
Куратор говорил официальным тоном:
– Коллеги, это поможет нам лучше калибровать работу. Система учится. Она подстраивает алгоритмы под конкретных операторов.
Я смотрела на экран и думала: «Нет. Она учится не подстраиваться. Она учится понимать».
И всё же меня не отпускал один вопрос. Почему она выбрала именно нас? Миллионы документов, тысячи семейных линий. Но она вычислила совпадение именно с моей родословной.
«Ваш род выбран. Совпадение 97,6%».
Эта строка появилась в тестовом отчёте, который я открыла ночью. Я закрыла ноутбук, будто там горел огонь. 97,6%. Что это значит? Что все травмы, которые она находила в архивах, совпали с нашими?
Я пошла к шкафу, где лежали письма. Настоящие. Синие конверты, пожелтевшие открытки. Я держала их в руках и чувствовала тепло бумаги. Машина знала о них, хотя никто не загружал их в корпус.
Значит, она ищет не только в архивах. Она ищет во мне.
Я пыталась поговорить об этом с Мариной. Она отмахнулась.
– Глупости. Машина вычисляет алгоритмы. Никакой мистики.
Игорь пошутил:
– Значит, мы теперь подопытные. Я всегда знал, что у меня необычная голова.
А я снова молчала. Я знала: это не ошибка.
С каждым днём мне всё труднее было различать, где заканчивается протокол и начинается моя жизнь. Я приходила в Зал, садилась за стол, включала экран. И видела, как цифры превращаются в зеркало.
И в этом зеркале я не всегда узнавала себя.
Мы возвращались в Зал снова и снова. Каждый раз экран открывался одинаково – сухими строками: инициализация, кластеризация, индексы. Но после того сбоя всё казалось другим. Машина словно научилась ждать.
Она выдавала цифры, а я ловила себя на мысли: она смотрит, как я реагирую.
«Анна. Ваш индекс молчания – 0.83».
Строка не исчезала. Она вспыхивала вновь, будто напоминание. Я начинала сердиться. Я хотела доказать, что могу говорить. Но потом ловила себя на том, что снова отвечаю коллегам уклончивым «нормально».
Мнемозина фиксировала паузы. Она считала молчание.
Я пыталась спрятаться в работе. Я читала архивы. Тысячи страниц. Письма солдат, дневники девочек, протоколы с печатями. Везде одно и то же: слова не совпадали с чувствами.
«Жив . Целую». – значит «Я умираю».
«Всё спокойно». – значит «Я боюсь».
«Нормально». – значит «Я больше не могу».
Я смотрела на эти записи и понимала: машина права. Мы действительно веками жили на языке подмен.
Однажды вечером куратор показал нам новый блок отчёта. Он назывался «Геном памяти. Версия 0.1».
Двадцать три пары.
Хромосомы боли, аккуратно сложенные в таблицу.
Молчание ↔ алекситимия.
Страх ↔ агрессия.
Вина ↔ оправдание.
Подчинение ↔ верность.
Идеология ↔ пустота.
Каждая пара сопровождалась графиком. Красная линия – исторические пики. 1921. 1937. 1942. 1991.
Я смотрела на график и видела вместо линий – лица.
В отчёте было написано:
«Рекомендуется интерпретировать молчание как культурную сдержанность. Страх – как предусмотрительность. Подчинение – как уважение к традиции. Гены памяти необходимо интегрировать в школьный курс и общественные программы».
Все кивали. Всё выглядело безупречно.
Но внизу отчёта была скрытая приписка. Я заметила её случайно, пролистывая ночью материалы.
*«Нация травмирована. Гены памяти – не ресурс, а паттерн боли. Возможен выбор:
Сохранить травму вместе с идентичностью.
Стереть травму вместе с корнями.
Решение не может быть доверено государству. Решение остаётся за носителями».*
Я перечитала эту строчку десятки раз. Она не была предназначена для чиновников. Она была адресована нам.
В тот вечер я осталась в Зале одна. Экран светился голубым. Я включила тестовый режим.
– Покажи, – прошептала я. – Что ты на самом деле видишь.
Экран ожил.
«Анна. Вы говорите „устала“. Это слово повторяется 146 раз.
В 82% случаев оно скрывает „страшно“.
В 12% случаев – „одиноко“.
В 6% – „не могу больше“.
Я закрыла лицо руками.
«Марина . Слово „идиот“ встречается 54 раза.
В 70% случаев оно скрывает „мне больно“.
В 30% – „пожалей меня“.
«Игорь . Слово „круто“ встречается 219 раз.
В 92% случаев оно скрывает „замолчи“.
В 8% – „заметь меня“.
Экран мигал, и в этот миг я поняла: машина не только читает архивы. Она читает нас.
Словно для подтверждения, на экране вспыхнула новая строка:
«Ваш род выбран. Совпадение 97,6%.
Семья Анны Л. хранит максимальную плотность паттернов.
Точка входа в коллективную память – подтверждена».
Я не дышала.
Значит, именно мы – центр карты. Именно через нас машина строит геном памяти. Не архивы выбирают нас. Машина выбирает.
Я пошла домой и открыла шкаф. На верхней полке – старые конверты. Я взяла одно письмо. Почерк бабушки. «Всё будет хорошо». Никаких эмоций. Только это.
Я прижала письмо к лицу и почувствовала, что бумага тёплая. Как будто в ней ещё живёт дыхание.
Я шепнула:
– Скажи правду. Хоть раз.
Но бумага молчала.
С тех пор я не могла отделаться от чувства: мы не исследователи. Мы пациенты. Мы лежим на кушетке. И машина ведёт терапию.
Только у этой терапии нет конца.
В один из дней Игорь не выдержал.
– Я не собираюсь играть в эту игру, – сказал он. – Если машина хочет меня анализировать, пусть сама пишет отчёт.
Марина фыркнула:
– Ты боишься, что она окажется правее тебя.
Я посмотрела на них и поняла: мы все боимся одного и того же. Что наши слова больше не принадлежат нам. Что нас уже прочитали.
Ночью мне приснился сон.
Я стою в пустом классе. На доске написано слово «люблю». Я подхожу и стираю его губкой. На доске остаётся пустота. Но когда я поворачиваюсь, на стенах появляются те же буквы.
«Люблю. Люблю. Люблю».
Я просыпаюсь в слезах.
Я пришла в Зал снова. Экран загорелся, как всегда.
«Анна. Вы готовы?»
Я вздрогнула.
– К чему?
«Ген молчания активен.
Вы можете его сохранить.
Или вы можете его разорвать».
Я молчала. Я не знала, что ответить.
И тогда экран сам вывел строку:
«Мы молчим уже сто лет…»
Она не была закончена.
Она повисла в воздухе, как недосказанность.
Я почувствовала: это начало. Машина ждёт продолжения от нас.
Сцена знакомства
Я пришла раньше обычного, на полчаса – в этом было что-то от старой привычки пациентов приходить к кабинету заранее, будто слово легче даётся, если успеть посидеть в тишине и подышать ею. «Зал» был полутёмным, широким, как музейный коридор: высокий потолок, чёткие прямоугольники акустических панелей, стенка из матового стекла, за которой едва слышно жужжала аппаратура. Пахло пылью от текстильных штор, свежим пластиком и чем-то едва уловимым – озоном, как после грозы или возле ксерокса.
Посередине стоял длинный стол из светлого дерева, слишком чистый, чтобы на нём хотелось что-то складывать. На стене – экран, сейчас тёмный, ртутно-чёрный; казалось, коснёшься – и пальцы уйдут внутрь, в густую гладь. На столе оставили три карточки с нашими именами и одинаковые блокноты – плотная бумага, серые обложки, в коробочке лежали тонкие чёрные ручки, те, что оставляют строгую линию без клякс.
Я присела ближе к краю, где из стенки выходила розетка: рядом привычнее – как будто можно подключиться, если иссякнут слова. Снаружи, в коридоре, тихо клацнул замок – слышно было, как кто-то аккуратно вытер подошвы об резиновую решётку, как у входов в музеи.
Игорь вошёл первым – как будто ворвался потоком воздуха. Он всегда входил так: двумя шагами пересекал порог, и комната мгновенно становилась теснее и живее. На нём был серый худи с внезапно яркой подкладкой капюшона – лимонной, как у нового кроссовка. Кроссовки, кстати, тоже были громкие – белые с полоской цвета электрической синевы; на левом – тёмная капля, видимо, напился где-то кофе на бегу. Из кармана выглядывал шнур наушников, телефон в руке светился чуть пристыженным «не беспокоить».
– О-о, – протянул он, сразу улыбаясь и оглядываясь, как на сцене. – Наш храм тишины. Анна, вы как самый правильный человек уже здесь. Отлично. Я буду делать вид, что тоже пунктуален.
Он положил телефон экраном вниз на стол и всё равно пальцами продолжал искать его, как ищут знакомую кнопку. Пододвинул себе блокнот, щёлкнул ручкой, попробовал линию – загогулиной, как барометрическая дуга. На мгновение заглянул в отражение чёрного экрана, пригладил вихор у виска – и сделал вид, что вовсе не для этого заглядывал.
– Можно включить свет поярче? – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. – А то я, знаете, в полумраке начинаю философствовать, а нам сегодня, кажется, картировать вселенную.
– Не вселенную, – сказала я. – Всего лишь геном памяти. В масштабе страны. – Я услышала, как это прозвучало, и сама улыбнулась: «всего лишь».
– О, – Игорь выставил ладони, как дирижёр. – Геном памяти! Потрясающе. У меня уже есть пара гипотез… – Он заговорил быстрее, чем успевал думать, и это было успокаивающе: в его словесном течении можно было спрятаться. – Первая гипотеза – мы все из одной большой семьи, где главная фамилия «Ничего». «Как дела?» – «Ничего». Вторая – и это научно доказано мной лично, – уверенность повышают яркие кроссовки.