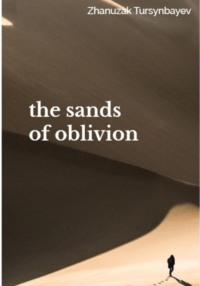Полная версия
Дотронуться до гало
– Я потрясён, Болат. Может быть, она, – папа промолчал некоторое время, впитывая в себя каждое его слово. – Может, она пришла за помощью? Хотела, чтобы мы освободили её? А мы… Ты не думал об этом? Хотя должен был бы. Мы совершили что-то поистине ужасное!
– Эта волчица получила сполна по заслугам. Столько урона она мне нанесла. Мы все в этом замешаны, – глухо проронил Болат, отворачиваясь. Он закрыл лицо руками, будто пытаясь стереть случившееся, и уставился в землю. – Я не мог знать… Не мог представить, что всё повернётся так.
– Сюда, быстро! – вдруг окликнул дядя Рахман из-за кустов. – Тут, в чаще логово. К тому же здесь щенки! Она оставила потомство. Они не совсем малыши. Подросшие уже… Господи, что же делать? Тут везде разбросанные шкуры и обглоданные кости зверей.
– Уму непостижимо! Не может быть, чтобы это всё остатки со стола волков. Так здесь орудовала целая их стая! Смотри, смотри, что это за кости? Неужели это… Да это место просто какое-то чистилище!
Повисла тяжёлая, тягучая и, хуже всего, пугающая тишина.
– Мы не можем их просто оставить. Вы же понимаете? – Куаныш резко обернулся. Лицо его было перекошено тревогой, в голосе дрожал неуверенный, почти детский страх. – Кто знает, во что они превратятся, кем станут. А если они… Не такие, как обычные? Неужели я не прав?
– Скажи ещё, – хмыкнул кто-то сзади, – что однажды, взъерошив шерсть, их отец явится к каждому из нас поодиночке. Куаныш, да очнись ты, наконец! Это же просто волчата. Их нужно добить, и дело с концом.
Слова повисли в воздухе, как невидимый, но ощутимый яд. Каждый из них ждал кивка или намека на действие, которое должно было потрясти мир своим ужасом.
Пока я, мой папа и дядя Болат оставались в стороне и не хотели участвовать в этой расправе, остальные трое подошли близко к логову. Разбив и расширив вход, один из них, неумело протиснувшись, вытащил испуганных щенят. Теперь они теснились под кустами в комке высохшей травы и земли.
– Ты слышал, что они говорят, Болат? – тихо, почти шёпотом, обратился мой папа к своему другу, не отводя взгляда в сторону логова. – Кажется, они нашли щенков. И собираются с ними расправиться. Оставь эту лапу в покое. Ну, достаточно возиться с тем узлом. Может, у них хватит ума оставить хотя бы одного в живых. И зачем волчица бежала к логову? Непонятно совсем. Её логово стало ей ловушкой. Что скажешь?
– Я слышу тебя и мне тут нечего тебе ответить. Я знаю: обычно волки, желая скрыть своё логово, уводят охотников далеко от неё. Что толку от того, чем она руководствовалась, раз её уже нет в живых? Если сами нашли логово, то пусть сами решают, что с нею делать, – глухо ответил Болат. – Это ведь твои друзья. Если там щенки, то надеюсь, хоть сейчас они не доведут всё до окончательной жестокости. А я… Я просто хочу развязать этот чёртов узел. Пусть теперь она, хоть мёртвая, станет свободной.
Он провёл рукой по застывшей лапе, и на мгновение мне показалось, что в этом движении прячется тихое извинение.
– И всё же, как умело он завязан. Кто-то сделал это с поразительным расчётом. Найти бы этого умельца. Мне кажется, что я поранился своим ножом. У тебя есть чем вытереть руку, Демеу? Или чем-то обвязать. Кровь не хочет останавливаться. Вроде бы я закончил. Наконец-то, я развязал тот проклятый узел на ноге волка.
– Держи, – буркнул папа и передал ему платок. Повернувшись, он вытянул свою шею на шорохи, доносившиеся со стороны. Со стороны казалось, что он хотел оказаться рядом с другими приятелями, но что-то его всё же задерживало здесь.
– Но почему, оставаясь раненым, волчица не тронула моего Жигера? Она ведь могла хотя бы огрызнуться. И почему мой сын потянулся к нему? А гало-то, как ни странно, всё ещё стоит. Он немой свидетель наших необдуманных поступков. Почему же он всё еще стоит на небе? Будто всё происходит с нами во сне. Тебе так не кажется, Болат? Да, кстати, пусть запоздало, но прими мои поздравления. Хотел у дома тебе это сказать. Забылся… У тебя ведь родился сын. Поздравляю тебя, Болат.
– Да, спасибо тебе, Демеу. Всё верно. Мне кажется, что он будет похож на меня. Хотя разве это так важно?
– Ты прав. Главное – чтобы он был здоровым.
– Ну да… От колыбели его даже и не хочется отходить. Пусть даже он там без конца плачет. Может, и поэтому я согласился с вами выехать на охоту. Конечно, я шучу. И вообще, Демеу, не забивай свою голову всякой ерундой! Причём тут гало? Волчица, думаю, сама не ожидала, что вот так, ни с чего, твой сын возьмёт и рухнет на неё. Не забивай голову свою ерундой: вскоре всё забудется! Я думаю о другом: почему она вообще нам повстречалась. Странно всё это! Вот именно… Об этом я и говорю. Демеу, крикни тем, чтобы всех волчат не перебили. Пусть хотя бы оставят одного.
Папа едва заметно кивнул ему и, окликнув их несколько раз, передал просьбу друга. Но те не отреагировали. Со стороны казалось, что они, полностью поглощённые своей находкой, были озабочены чем-то куда более важным.
Волчат было четверо. Серые, дрожащие комки плоти с широко распахнутыми от испуга глазами. Один, самый маленький, пытался зарыться глубже в сухую траву, словно надеялся, что земля примет его, укроет от беды. Другой, напротив, поднял мордочку и тонко тявкнул. Будто звал мать, не понимая, почему та не отвечает. Более крупный щенок попытался зарычать, слабо, по-щенячьи, но с отчаянной решимостью, и это только утвердило обезумевших людей в том, что действовать надо без промедления. У последнего едва шевелилась грудная клетка. Он даже не чувствовал угрозы и просто смотрел в пустоту.
Щенки не ведали ни страха, ни злобы. Они ещё не успели узнать, что такое боль. Но люди, стоявшие над ними, с глазами, полными гнева, давно утратили всё человеческое. В их сердцах не осталось места для жалости. В них была только тупая ярость и желание покончить с тем, что не укладывалось в рамки привычного.
Дядя Бауыржан шагнул первым. Его лицо было каким-то пустым, застывшим, будто маска. В глазах – ничего: ни боли, ни сомнения. Только холодная решимость. Следом за ним Рахман. Лица у них были перекошены, как у загнанных зверей: стиснутые челюсти, вздёрнутые плечи. В их глазах плескалась безмолвная ярость, почти обезумевшая – не к щенкам, а к чему-то большему, неосязаемому. Может быть, к себе самим.
Первый удар пришёлся быстро. Корявая палка со свистом рассекла воздух. Послышался короткий всхлип, и один из щенков обмяк. Остальные забились, жалобно повизгивая. Кто-то начал пищать, завывать, метаться, но всё было тщетно. Рахман продолжил беззвучно и яростно. Его движения становились всё резче, руки – карающими. В этот момент он был не человеком, а чем-то сломленным и беспощадным.
Удар второй. Третий. Трава вокруг начала темнеть. Никто не пытался остановиться. Никто не отвёл взгляд. У Рахмана дёргался висок, лицо стало багровым. Он с яростью обрушивал удары, пока палка не хрустнула в сжатой ладони. Боли он не ощущал. Был только тяжёлый ком в груди, который отчаянно пытался вырвать наружу.
Где-то вдалеке на холме завыл ветер. Или то был не ветер? Может, это было проклятием, что срывалось с чьих-то губ, растворяясь в низком сером небе.
Всё закончилось. Они стояли молча, тяжело дыша, изнурённые. Будто после изматывающей и бессмысленной охоты. В траве ни малейшего движения. Только чёрные пятна и рваные следы, точно кто-то пытался убежать, но был пойман. Кровавые следы, словно сорванные с тела самой земли, вели обратно – к тем, кто их оставил. К тем, чьи руки дрожали от содеянного.
– Всё, – хрипло прошептал кто-то. – Наконец-то мы добили их всех.
Но от этих слов никому не стало легче. Ни одному. Все стояли застывшие и не могли поднять глаза. Сознание не могло охватить их одурманенный древний страх, их переплетённый гнев. И в этой странной тишине каждый слышал себя слишком громко.
Вскоре подошли мы – папа, дядя Болат и я. Мы не спешили. Мы знали, что за этим хрупким покоем скрывается что-то страшное. Никто из нас не мог понять сразу, что могло произойти за столь короткое время. Но то, что мы увидели, потрясло нас до глубины души.
Они сидели в кругу, опустив головы, измождённые, будто отброшенные назад какой-то безжалостной силой. Перед ними лежали маленькие неподвижные тела четырёх волчат. Слишком много, чтобы это было случайностью, и слишком мало, чтобы забыться.
Никто из них не поднимал глаз. Будто не имели права. Будто смотрели внутрь себя и не находили там ничего, кроме пустоты.
– Вы нелюди, – раздался голос папы, глухой и надтреснутый. – Вы хуже зверей! Что вы наделали? Зачем? Зачем вы убили всех? Хоть одного надо было оставить. Чтобы волк-отец мог забрать его. Чтобы ушёл… А не пришёл за местью.
И снова тишина. Только ветер, будто тоже осиротевший, бродил между нами. Казалось, что сама земля отвернулась. Всё вокруг стало вязким и пропитанным виной. Воздух был тяжёл, как перед бурей, но буря уже прошла. Или только начиналась внутри каждого из нас.
– Знаете, я едва с вами знаком. Я вот сижу и думаю. Мы чуть не разбились и не получили увечья, но мы все уцелели. Почему так вышло? Кто мне ответит сейчас? – добавил Болат.
– Это было написано, ну, на роду? – неуверенно предположил Рахман, но слова его вышли не к месту.
– Кем? Тоже мне скажешь… Может, это слепое везение, – допустил Бауыржан.
– Вы так и не уловили того, о чём хотел вам всем сказать Болат. И поэтому мне очень жаль, – папа после этих слов остановился. Его лицо застыло, как камень, – ни гнева, ни страха, а что-то за пределами. Дядя Болат выдохнул так медленно, что этот выдох прозвучал, как стон.
– Я не понимаю, как такое могло случиться здесь! Что случилось со всеми нами? Мы же все разом обезумели здесь! Зачем надо было так поступать? Скажите… Пошла она пропадом, эта ваша охота! О, Всевышний, прости нас за наши деяния! За то, что мы ослепли в своем безумстве! – словно молясь небу, дрожащим голосом проговорил Болат и зарыдал.
Перед нами лежала не просто кровь на траве. Лежала распятая память о чём-то живом и настоящем. А теперь – лишь след ярости, зверства, которое пришло не извне, а изнутри. Никто не решался заговорить. Потому что слова в тот момент были слишком ничтожны. А может, слишком громки. Папа мой развернулся и молча направился к машине. Я последовал за ним.
С машиной пришлось повозиться. Все попытки навалиться и вытолкнуть её из провала оказались напрасными. Болат немного постоял в раздумье, потом скомандовал освободить салон от вещей. Вспомнив про единственную оставшуюся кошму, он подложил её под колёса и снова сел за руль. Машина дёрнулась – сперва неуверенно, будто не верила, что способна выбраться. И вот, вздрогнув и хрипло зарычав, машина точно прорвалась сквозь невидимую преграду.
Мы снова загрузили вещи, проверили уровень масла и воды и, наконец, тронулись в обратный путь. На небе уже загорались первые звёзды – редкие, холодные. Их тусклый свет как бы снимал с нас напряжение, позволяя выдохнуть. В груди поселилось ощущение, которое нельзя было назвать ни радостью, ни облегчением – нечто странное, тоскливое и неясное, словно недосказанность. Смесь вины, усталости и той притупленной лёгкости, которая приходит после потрясения, когда ты ещё не до конца осознал, что всё уже миновало. Верилось в то, что память со временем сама сгладит острые углы, затрёт детали, и всё это будет казаться сном. Или чем-то, что случилось не с нами.
Шум мотора и стук колёс по неровной дороге стали единственными звуками, рассекающими вечернюю тишину. Болат вёл машину сосредоточенно, почти механически, с каменным лицом. Я смотрел по сторонам. Перед глазами мелькала степь, затенённая ускользающим светом.
Иногда кто-то ненадолго нарушал тишину тихим вздохом. Мы все понимали: эта ночь что-то в нас изменила. Пусть незаметно, пусть едва уловимо – во взгляде, в интонации, в коротком молчании, но перемена произошла.
На фоне сгущающихся сумерек очертания юрты Болата проступили, как мираж. В стороне залаяла собака. На шум подъехавшей машины изнутри вышла его жена. При свете фар её тревога в каждом движении становилась очевидной. Даже в том, как она прижала руки к груди. Но, увидев мужа, она быстро подошла, забрала у него из рук вещи и, не сказав ни слова, вернулась в юрту.
– Всего тебе хорошего, Болат. Береги себя, – сказал папа, делая шаг к нему. – И не переживай о случившемся. Давай просто забудем. Словно ничего не было. Договорились, дружище?
– Похоже, я понял, в чём дело с этим крестом, – тихо, почти шепотом сказал он после паузы. – Но почему-то на душе всё равно неспокойно. Думается, что-то ещё ждёт меня впереди.
Болат замолчал. Он стоял, будто разрываясь между тем, что хотелось бы сказать, и тем, что лучше оставить невысказанным. Плечи его были напряжены, глаза потускнели. Он отвёл взгляд, коротко похлопал отца по плечу и отвернулся. Папа лишь кивнул, сдержанно и устало.
Мы снова перетащили вещи в другую машину, и пересели, уже не говоря ни слова.
Вскоре вдалеке замерцали огни посёлка. И вдруг я осознал, как сильно хочу простых, земных вещей: покоя, чистой одежды и глотка горячего чая. Но больше всего хотелось поесть. Все то, что в повседневности воспринимается как должное, после потрясения – становится почти священным.
Но за этим мимолётным облегчением пришла другая волна – тяжёлая и вязкая. Душа будто проваливалась в пустоту. Всё, что мы видели и прожили, не отпускало. Тело ехало домой, но разум застрял там – в темноте, в шаге от беды, а может, и в самой беде.
Я чувствовал, как внутри поднимается досада. Не на кого-то конкретного, а на сам факт того, что произошло. Словно нас втянули в чужую историю, оставили с этим бременем наедине. Дальше разбирайся сам.
Обида была тяжёлой, без слов. На себя. На Болата. На папу, что махнул рукой: "Забудем, точно ничего не было". На приятелей папы, которые сейчас копошились в своих вещах. Как будто память умеет слушаться. А я знал – забудется не всё. Останутся фрагменты, как разорванные снимки: взгляд Болата, тусклый свет юрты, хрип мотора, тяжесть в груди. И ещё – странная уверенность, что некоторые истории не исчезают, даже если о них молчат. Будто нечто важное было сказано или сделано не до конца. Не закрыто. Не прожито.
Тишина в машине была уже не безмолвна – она звенела. Каждый из нас унес с собой своё молчание. И, может быть, это и была самая тяжёлая часть: не то, что случилось, а то, что теперь с этим делать.
Я не помню, когда и как мы подъехали домой. Всё тело ломило от боли, и каждый шаг, казалось, отдавался эхом в жилах. Слипшиеся глаза не хотели открываться, и я пытался заставить их хоть немного разомкнуться, но это было, как разорвать цепи. Вокруг суетились люди, их лица сливались в размытое пятно. Звуки были глухими, как если бы я находился под водой, и всё вокруг было искажено. В этой суете мир стал странным и чуждым, а я почувствовал себя как бы в другом месте, где никому не был нужен.
Несколько раз я услышал своё имя. Оно звало меня, но это было не моё имя. Я будто стал кем-то другим, не тем, кто лежал там, сжатый в холодном кресле. Я не понимал, кто это меня зовёт, и не мог ответить.
Когда всё вокруг вдруг осветилось ярким светом, я почувствовал резкое облегчение. Ослеплённый ярким светом, я не сразу смог понять, где нахожусь. Но вот очертания предметов стали яснее – знакомая фигура гаража, старый карагач у ворот. Прислушавшись, я узнал наш двор. Тихий, почти заброшенный. И тогда, наконец, я вздохнул. Это был тот самый момент, когда я, казалось, вернулся в реальность.
Я потянулся в сторону освободившегося места, где сидел папа, и попытался встать, но боль в теле снова напомнила о себе. Не выдержав, я только прошептал, едва разлепив губы:
– Да, я проснулся, пап. Да, конечно, я отнесу все наши вещи в гараж.
Встав в полный рост, я заметил, что остался один во дворе. Я бросил быстрый взгляд в сторону окна дома и заметил, как мама суетилась на кухне, её тень плавно скользила за шторами. Она была так близка, но в то же время так далека, как будто мы разделялись целым миром. В этот момент мне показалось, что вся эта суета – её мир и мы в том числе, возможно, были лишь гостями на её празднике жизни.
– Что же она приготовила на этот раз? Дома гости, и, может быть, потому, что-то особенное, – промелькнула мысль, но я тут же отогнал её. Это было неважно. Важно было сейчас – поднять мешок с папиным охотничьим казаном и не думать ни о чём лишнем.
Мешок был тяжёлым, а грубая ткань оставляла болезненные следы на ладонях. Но я не позволил себе остановиться. Собрав остатки сил, я перехватил его поудобнее и поднял, чувствуя, как глухо отзывается напряжение в плечах и спине. Шаг за шагом я направился к гаражу.
Старые доски на его стенах скрипели от ветра, словно перешёптывались между собой. Полумрак внутри мягко обволакивал всё вокруг, и в этом полусвете предметы показались мне покрытыми пылью времени. Здесь всё дышало покоем, забытым и чуть тревожным.
Я стоял в коридоре, которого не знал. Он был узкий, с серыми, влажными стенами. Лампы над головой мерцали, как перед смертью. Где-то капала вода. Я слышал чьи-то шаги. Далеко, но слишком чётко. Шаги приближались с той стороны, куда я смотрел. Но я стоял на месте и не двигался. Зная, что если сделаю хоть шаг вперёд, я встречу то, чего боюсь. Но и назад идти было некуда.
И вдруг голос. Он был тихим и знакомым. Словно сорванный с чьей-то памяти.
– Ну что, ты готов?
Я не ответил. Лишь сжал кулаки, чувствуя, как внутри поднимается жар. Тот самый, из детства… Но теперь он был другим. Он знал своё имя. Но и я знал своё.
Волк-отец не спешил. Каждый шаг отзывался в теле тягучей болью. Он медленно спускался с далёких холмов к логову. Ветер лишь изредка осмеливался шептать, а тишина гудела в груди тревогой. В воздухе витала запоздалая и непреложная правда. Он поднимал загривок, и лунный свет ложился на шерсть серебристым налётом, превращая его в живую тень. Воздух застыл. Даже ночь, темная, всевидящая, старая спутница его пути, затаилась в страхе, будто не желая быть свидетелем того, что должно было случиться.
Тишина в логове была неестественной. Не волчья, живущая напряжением, а мёртвая, чуждая зверю и степи. Всем своим существом он прочувствовал эту неестественность. Даже неслышно было писка щенят и дыхания волчицы. Ничего. Даже молчала земля, на которую падал свет яркой луны. Как молчит тело, из которого ушла жизнь…
Его волчица, та, что всегда встречала его взглядом, не отозвалась на его звуки. Ни шорохом, ни дыханием, ни лёгким сдвигом воздуха. Пустота ответила ему, как чужой голос в родном доме. Он, остановившись насторожился. Опустив нос к земле, вдохнул запахи. И в этот миг он понял всё.
Множество человеческих запахов резали острым ножом сознание и нос. И среди этого множества запахов он нашёл её. Вернее, её запах, но он уже был другим. Просившим помощи… Застывшим… Словно сорванный с памяти. Рядом – слабые, почти призрачные следы щенят.
Их запахи едва цеплялись за землю, за редкую траву, за воздух. Но и они уже растворялись. Смешиваясь с другим – тяжёлым и металлическим. Смертью.
Он знал и носил её. Дарил её добыче с точностью, с уважением, как силу. Как право. Но теперь она пришла не за теми. Теперь она была здесь, у его логова, и смеялась. Не звуком, а присутствием. Беззвучно и леденяще. Как та, что не спрашивает разрешения.
Медленно приблизившись, он осторожно захотел разбудить её. Надеясь на то, что ещё мог всё изменить. Хоть что-то. Шерсть поднялась на загривке. Мышцы застыли, наполненные первобытным страхом. Он не зарычал и не завыл. Лишь вдыхал запахи, что вдруг нахлынули. Тёплый мех, молоко, щенячьи дыхания, их возня и уже только тени. А следом, чужие, бездушные глаза. Довольные лица. Злые ухмылки.
Волк замер. Словно вся боль, что когда-либо была на свете, воткнулась в его сердце одновременно. И в этом молчании было больше крика, чем могла бы вместить даже степь. И, может, даже небо.
Он лежал рядом с ними долго. Так долго, что день и ночь сменяли друг друга, попеременно грея и остужая его тело. Он не сдвинулся, даже когда первый снег накрыл его с головой, как саван. Никто не знал, чего он ждал. Может, смерти, чтобы уйти с ними. А может, мести, чтобы остаться ради них.
Когда чужие запахи вокруг начали утихать, в нос вдруг ударил резкий, пронзительный запах крови у лапы волчицы. Он вернул его в реальность. Это была не звериная кровь. Это была оставленная человеком противная капля крови. Но и её было достаточно, едва уловимый, теперь он резал обоняние, как след дичи. Этот неприятный запах был ему знаком. Слишком знаком, что он не мог спутать его ни с чем другим. Он знал, где раньше чувствовал его. Знал, кому он принадлежал. Его загривок вздыбился. Шерсть поднялась волной. Уши легли назад. Он посмотрел вдаль, за горизонт, туда, где ждал ответ. Где ждал враг. Он снова стал собой. Тем, кого боялись все в степи. Умным. Хитрым. Сильным. Тем, кого лучше не трогать…
Каждая клетка его тела наливалась силой, точно перед решающим прыжком. Тело переполнялось энергией мести. Мышцы крепли, а дыхание вырывалось в рваный рык. Месть, что зародилась внутри, несла в себе неизбежный ужас. Расплата, после которого не осталось бы и тени сожаления. Лишь запах крови в промёрзлой траве и ни единого живого свидетеля.
И тогда, поднявшись над логовом, над телами тех, кого он любил, он в последний раз вдохнул запах земли и завыл. Долго. Глухо. С болью, что рвала сердце. С тревогой, что летела в ночь.
Глава 3
Слухи
Я помню отчётливо, как в ту ночь я проснулся в огне. Жар охватил тело мгновенно, нестерпимый и выжигающий. Казалось, по венам течёт не кровь, а нечто раскалённое, прожигающее всё живое. Позже мама говорила, что я стонал, звал кого-то, бредил. А я помню только обрывки. Вязкий мрак, липкий, как пот на лбу. Грудь будто придавило плитой. Мысли дробились, глаза застилала пелена, а каждый вдох отзывался тупой, глубокой болью.
Почему-то я всё пытался встать и пройти к чему-то. Но тело не слушалось. Ноги стали ватными. Всё казалось чужим и надломленным. Я валился обратно в постель, а сны или что-то, похожее на них, накатывали снова. Где заканчивается реальность и начинается лихорадочный бред, было невозможно понять.
Мама рассказывала, что я шептал, будто кто-то сидит рядом и зовёт меня по имени. Но стоило вслушаться, как всё исчезало, оставляя только гул в ушах и липкую, выматывающую слабость.
Так прошли дни. Или недели. Время потеряло форму. Остался только жар, боль и одиночество. Гнетущее, вязкое и неотступное. Мир сузился до размеров комнаты. До шороха простыней. До маминого уставшего дыхания, когда она не отходила от меня ни на шаг.
Прошло тридцать семь лет. Я всё тот же Жигер. Я стараюсь нести это имя с тем достоинством, которое вложил в него мой отец, веря в мою силу. Наверное, было бы неправильно винить во всём тот день, когда всё случилось. Но вскоре после этого папа заболел.
Врачи пытались его лечить. Я помню, как он всё равно старался шутить со мной, но его шутки уже были не такими, как раньше. Помню, как он пытался скрыть от меня, насколько ему тяжело. Я знал это потому, что ночами он стонал. Мне было его бесконечно жалко. Все попытки помощи со стороны врачей оказались тщетными. Через полгода его не стало. Тогда ему было столько же лет, сколько сейчас мне.
Он, наверное, представлял себе меня крепким, с уверенным голосом и прямым шагом. Но моя сила оказалась другой. Тихой. Невидимой. Не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы не позволить страху сломать. Не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы подниматься снова.
Иногда я думаю: разочаровался бы он, увидев, каким я стал? Не воином. Не героем. А человеком, который просто держится. Иногда из последних сил. Иногда ради тех, кто рядом. Может, он и не ждал от меня побед. Наверное, он надеялся на стойкость. На ту, что остаётся, когда всё рушится. На ту, что любит, даже когда больно. На ту, что становится опорой, даже если сама едва держится.
Теперь у меня есть семья. Жена и сын. Я стал тем, кто уже сам заботится о других. Тем, кто держит за руку и говорит:
«Я рядом. Всё хорошо. Ты не один».
Я выбрал ту же профессию, что и отец: учу детей физике. Логике, формулам и законам движения. Но особенно люблю её парадоксы. Там, где реальность начинает спорить сама с собой. Где появляется глубина. Смысл. Красота.
Живя между прошлым и настоящим, я ощущал напряжение. Оно не отпускало. Учило держаться, когда нет опоры. Учило идти вперёд, даже если шаги были наугад. Быть сильным и уязвимым одновременно и при этом не терять себя.
Мне нравится видеть лица, в которых вдруг загорается понимание и искра. Будто внутри них включается свет. Особенно, когда сложное перестаёт пугать и становится вызовом. Почти игрой. Почти магией.
Дети любят мои уроки. Потому что я даю им право ошибаться. Искать. Сомневаться. И находить. Тогда между нами возникает нечто большее. Тогда класс – это не просто место, а общий мир, где можно почувствовать себя первооткрывателем. В такие моменты я сам возвращаюсь в детство. Туда, где ещё не было боли, жара и теней. Где были только тетрадь, карандаш и тихая надежда, что всё только начинается.