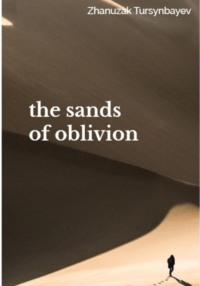Полная версия
Дотронуться до гало

Жанузак Турсынбаев
Дотронуться до гало
Дотронуться до гало
Основано на реальных событиях.
Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы…
Эрих Мария Ремарк
Глава 1.
Ледяное сердце
Раньше меня звали иначе. К моему имени добавляли «Ледяное сердце», и это мне не нравилось. В те дни мой взгляд был холоден, а мир вокруг казался пустым и безразличным. С тех пор я мечтал быть просто собой, без ярлыков, которые навязывали другие. Одна жизнь казалась мне слишком короткой, чтобы вместить всё, кем я хотел стать. Поэтому я создал другую – жизнь, в которой мог просто быть собой, без масок и чужих ожиданий.
Может, Всевышний и подарил мне этот мир, как ребёнку, – с любовью, ласково, не жалея красок. Но я не чувствовал этой любви. Она проходила мимо, как тепло от печки в комнате, в которой ты не живёшь.
Родители были вечно заняты своими делами, заботами, чем-то важным и для меня недоступным. Старшие брат и сестра учились в других городах, редко приезжали, ещё реже писали. Мне казалось, что вся родительская любовь, если она вообще была, с самого начала предназначалась не мне. Я был словно позже всех пришедший гость. Тот, кому не приготовили ни места, ни слов.
У меня не было друзей. Вернее, я их сам не хотел заводить. Может, именно поэтому я и не интересовался ничем. Не тянулся ни к играм, ни к книгам, ни к людям. Мне не хотелось ни общаться, ни дружить. Одиночество было не привычкой, скорее, естественным состоянием, а может, защитой от этого мира.
Иногда, правда, ко мне заходил соседский мальчик. Он пробовал заговорить со мной о чём-то своём, бессвязном, перескакивал с темы на тему, как птица с ветки на ветку. Его слова звучали для меня, как шум ветра, бестолковый, не за что зацепиться. Я просто сидел и слушал вежливо, не отвечая. Его фразы казались глупыми, нелепыми, зачастую слишком живыми. А во мне не было отклика. Мне нечего было дать взамен. И вскоре он перестал приходить. Он нашёл других. Тех, кто отвечал, кто смеялся в ответ на его странные истории, кто мог поддержать разговор. А я… Я даже не заметил, когда это произошло. Только тишина стала глубже, и дни одинаковыми.
Хотя, пожалуй, имел смысл упомянуть его. Это именно он впервые назвал меня Ледяным сердцем. Сказал это не в шутку, не ради прозвища, а как приговор. Вслух при других. В его голосе звучало то самое разочарование, что накапливается долго, скапливается каплями, как ржавчина на лезвии. Это была месть – тихая, почти изящная, за то, что я никогда так и не откликнулся. За то, что я не поддержал ни одной из его глупых фраз и не рассмеялся в ответ.
Он хотел дружбы. Или хотя бы признания. А я был, как ледяная стена. Гладкий, немой, отталкивающий. Сначала я подумал, что мне всё равно. Прозвище не задело. Я и правда не чувствовал ничего. Ни боли, ни злости, ни даже обиды. Но с тех пор в каждом взгляде случайного прохожего, в каждом молчании за обедом мне начало мерещиться: они все знали. Будто это имя, Ледяное сердце, приклеилось ко мне, как невидимая метка. И уже не имело значения, кто я на самом деле. Со временем я и сам начал в это верить.
Моё имя Жигер. Так назвал меня отец, вложив в это слово надежду на мою силу и стойкость. Долгое время я и «Жигер с Ледяным сердцем» были одним целым. Но однажды я захотел сбросить обе эти маски. Тогда я создал другую – жизнь, где я остался один в бескрайней степи, покинутый всеми. Я ушёл в свой вымысел, став осознанно трусом и беглецом от реальности. Там мне предстояло преодолеть испытания и найти тех, кто мог бы понять меня. Но этот поиск растянулся на годы и стал главным вызовом моей жизни.
В нём я растворялся как тень. Исчезал, словно камень, сброшенный в бездну прошлого. Но я не учёл одного: всю жизнь я смотрел на мир одним глазом. Хотя у меня их было два, и я видел всё ясно. Один глаз видел мир таким, какой он есть, другой – таким, каким он мог бы быть. Эта двойственность раздирала меня, заставляя жить между реальностью и мечтой. Между тем, кем я был, и тем, кем хотел стать.
Шли годы, и воображаемая степь перестала быть пустой. Я начал встречать других, таких же потерянных, как я, но с искрами надежды в глазах. Мы делились историями, учились друг у друга, и я понял, что сила не в бегстве от себя, а в принятии себя. С холодом, страхами и мечтами. Но потом я осознал, что всё это было иллюзией. Может, именно моя способность создавать вымышленные миры и спасла меня? Ответы всё ещё ускользают. Время, возможно, раскроет их. Или это должен сделать я, тот, кто боится принять реальность, погружённый в мир, который разрушает всё вокруг.
Жигер – не просто имя, а обещание, данное мне отцом, но, увы, не исполненное мной. У меня нет сил и надежды, и я больше не бегу, а иду вперёд, зная, что любая степь, какой бы пустынной она ни казалась, скрывает путь домой.
Моя история началась с отца – человека, чья увлечённость завораживала меня с детства. Неважно, занимался ли он делами по дому в свободное от работы время или вечерами, с почти ритуальной точностью, заряжал латунные гильзы, готовясь к охоте. Каждое его действие было выверенным, словно он знал их с рождения. Так мне казалось тогда, и я не мог думать иначе. Его страсть к делу, будь то мелочь или нечто значительное, была заразительной. Он старался передать мне всё, что знал, и делал это с удивительным мастерством.
Моего папу звали Демеу. Он преподавал физику в школе. Маму звали Айнаш, она работала медсестрой в поликлинике. Авторитет отца – и в школе, и за её пределами – был непререкаем. Даже мои школьные друзья восхищались им и хотели быть похожими на него. Он был добрым и отзывчивым, старался никого не обидеть. С чужими детьми он говорил с особым трепетом, и это удивляло всех, вызывая тёплую улыбку. Его умение находить подход к людям, видеть в каждом что-то ценное, делало его особенным. Я смотрел на него и думал: как можно быть таким цельным, таким настоящим?
Но, несмотря на его уроки и теплоту, я рос с чувством, что мне чего-то не хватает. Может, дело было в том, что я пытался уместить себя в его тень, в его идеалы.
Мама моя говорила, что я похож на него. Я такой, как он: всегда сам с собой, без эмоций. Ведь папа, по её словам, никогда не проливал слёз. По крайней мере, она этого не видела.
На самом деле он видел в этом слабость. Его мир был чётким, как формулы физики, а мой – зыбким, как пески моих фантазий. Пески, что ускользали каждый раз, когда я пытался встать на них твёрдо. Он жил среди логики и точных величин, а я – среди образов, что рассыпались, стоило мне захотеть их удержать. Эти вымышленные степи стали моим убежищем, но и проклятьем. Я бежал от себя, от ожиданий отца, от его идеального мира. Но его уроки всё равно прорывались в мою жизнь.
Иногда я вспоминал, как он учил меня смотреть на звезды, объясняя их движение, или как он, заряжая гильзы, говорил: «Делай всё с душой, Жигер, и результат придёт». И я понял, что его сила была не в точности движений, а в умении быть собой – даже в мелочах. Да, его страстью была охота. Вернее, как он говорил, – общение с природой. Он не боялся быть уязвимым, не боялся мечтать, но всегда оставался в реальности.
До сих пор помню его рассказы под звёздным ночным небом – о кентавре Хироне. Он был одним из самых известных героев древнегреческой мифологии: мудрый, добрый и справедливый. Он говорил, что Хирон был сыном титана Кроноса и океаниды Филиры. Был великим учёным, врачом, астрономом и наставником многих героев – Ахилла, Ясона и Геракла.
Но сильнее всего врезалась в память история его смерти.
Геракл случайно ранил Хирона отравленной стрелой, смазанной ядом Лернейской гидры. Бессмертный кентавр не мог умереть, но и страдания его не прекращались. Чтобы избавиться от боли, он добровольно отказался от бессмертия, передав его Прометею. В награду за этот поступок Зевс вознёс Хирона на небо, превратив в созвездие Стрельца.
Как же тогда мне хотелось узнать, зачем он это сделал. Но отец странно молчал. Как молчали звёзды над нами – мерцая таинственно, будто скрывая от меня ответ. И это молчание казалось невыносимым. Быть может, он хотел, чтобы я сам нашёл смысл в этой истории? За годы поисков, бесконечных вопросов и разбитых зеркал я понял лишь одно – и это открытие потрясло меня. Хирон – не просто миф. Не просто имя. Он символ раненого целителя: того, кто лечит других, оставаясь сам израненным. Он знал боль так глубоко, что мог говорить с чужими ранами на одном языке. Но свои он не мог залечить. И в этом было что-то страшное и прекрасное одновременно. А я… Я так и не нашёл своего Хирона. И, может быть, именно поэтому я так часто смотрел в небо. Молча. Словно ждал, что звёзды однажды ответят.
Теперь, стоя на краю своей воображаемой степи, я вижу, что отец дал мне больше, чем знания или навыки. Он дал мне пример того, как жить в согласии с собой. Я иду вперёд, неся в себе его уроки и свои мечты, зная, что любая степь, какой бы пустынной она ни казалась, скрывает путь домой. Я учился смотреть на жизнь обоими глазами: один видит прошлое, другой будущее. В этом равновесии я старался обрести себя.
В эти последние осенние дни погода стояла на удивление морозной. Даже и ветер, который непрестанно гнул к земле вершины кронтополей вдали, будто взяв перерыв, готовился к чему-то неизвестному. Папа, возвратившись рано с работы, суетливо возился со старыми вещами в сарае. Несколько раз он пробовал примерять на себя свои брюки. Застегивая их, скашивал взгляд в сторону, пытаясь вспомнить, когда последний раз носил их, а потом, неудачно потягивая ткань, снова снимал их с себя. В его движениях было что-то неуловимо настойчивое, будто он не просто примерял старые брюки, а пытался вернуть себе часть прошедшего времени, забытые моменты, которые, возможно, он давно оставил за пределами своей памяти.
Но вот, наконец, он отложил брюки в сторону и остался стоять, слегка наклонив голову. Он вглядывался в светлое пятно, которое лужа на полу отражала от слабого света, пробивающегося через окно. Он долго молчал, его пальцы теперь машинально теребили уголок старой газеты, как будто пытаясь найти в ней какой-то ответ.
Я стоял в дверях, не решаясь войти, ведь мне казалось, что в этот момент даже воздух был напряжен, наполнен мыслями, которые он не хотел озвучивать. После чего он вздохнул, тихо пробормотал себе под нос: «Не те уже…» – и вдруг развернулся ко мне, заметив, что я стою там, не издав ни звука. Его взгляд был немного растерянным. Как будто он сам только что понял, что что-то упустил, но не мог точно сформулировать, что именно. Я хотел спросить, что он имеет в виду, но вместо этого промолчал, зная, этот момент не нуждается в словах.
Папа посмотрел на меня. И тогда я заметил, что его глаза стали не такими, как раньше. В них было что-то неопределенное, почти ускользающее. Как те последние осенние дни, которые мы все ощущаем, но не можем удержать.
Не дожидаясь вопроса от него, я решил заговорить первым:
– Папа, вы ищете те брюки, которые в последний раз надевали на охоту? Мама их тогда постирала и отложила. Хотите, я принесу их вам? Я быстро.
– Да, сынок. Так было бы лучше, – ответил он, слегка улыбнувшись, будто немного растерянно, но с теплотой.
– Спасибо, – тихо добавил он. – Да, я вспомнил, что сам просил её об этом, но почему-то забыл. Кстати, я ещё кое-что вспомнил: у меня есть дела на чердаке дома. Я скоро вернусь, и мы продолжим наш разговор. Договорились, Жигер?
Я кивнул. Стало чуть легче, словно воздух между нами очистился от чего-то давнего и невысказанного. Вскоре он спустился с чердака и, присев на лавку, подозвал меня к себе. Собираясь сказать нечто важное, он попросил меня сесть рядом и продолжил:
–Знаешь, – сказал он после паузы, – время идёт вперёд, а я так и не сводил тебя на охоту. Думаю, пора это исправлять.
Он посмотрел на меня, потом в сторону, как бы взвешивая слова.
– Завтра воскресенье. Тебе отдыхать. А ко мне приедут приятели из города – хотим съездить поохотиться на фазанов. Не хотел бы ты поехать со мной? Посмотришь, как всё это бывает. Так что скажешь, сынок?
Через некоторую паузу, мысленно перебирая в уме слова, он продолжил:
– Ты ведь видел фазанов только на картинках, верно? Вот и увидишь их вживую – как они ловко и грациозно бегают, а затем, как по волшебству, могут вдруг взмыть в воздух, вырываясь из-под ног. Я и сам не горю желанием ехать с ними – просто давно обещал. А если ты поедешь, то будет иначе. И, может быть, ты попробуешь пострелять из дедовского ружья. Что скажешь на это, Жигер?
Я удивлённо посмотрел на него.
– Папа, вы, правда, хотите взять меня с собой? Я мечтал об этом. И я… Я правда постреляю из ружья?
Он улыбнулся.
– Конечно. Почему нет? Надо же когда-нибудь мужчине нажать на курок ружья. Знай, Жигер, в последующем, это ружье станет твоим. Даже по прошествии многих лет, я стараюсь обходиться с ним как можно аккуратно. Значит, оно и тебе успеет послужить с достоинством. У казахов есть одно из важных понятий в культуре. Оно символизирует семь величайших ценностей или сокровищ, которые почитаются в нашем народе. Мы все знаем, что эти ценности – идеал, к которому стремится каждый уважающий себя казах. Надеюсь, ты понял, что я имею в виду. Это «Жеті қазына». Простыми словами – это семь главных сокровищ! Ружьё ассоциируется с ценностями мужчины – воина. Поэтому оно включено в этот список ценностей.
– Спасибо вам за всё, папа – ответил я сразу, и, немного подумав, добавил: – Мне только маму предупредить…
– Да, конечно, – сказал он. – Думаю, она не будет против. И передай ей, пусть накроет на стол. Нам не помешало бы подкрепиться перед дорогой.
Я заметил, как он улыбнулся – грустно, но тепло. Через некоторое время, запыхавшись, я стоял перед ним с протянутыми руками.
– Именно эти вещи я и искал, сынок, – сказал он, поднимая потёртый рюкзак с пола.
– Чего он только не повидал… Ни одна моя охота не обходилась без него.
Он аккуратно похлопал по рюкзаку, словно по плечу старого друга.
– Его нельзя стирать в горячей или тёплой воде. Никогда.
Папа немного замолчал, как бы прислушиваясь к воспоминанию.
– Кровь от дичи, когда попадает на ткань – она будто запекается. Навсегда, так что потом не отстирать. Ни мылом, ни щёткой.
Его взгляд остановился на мне, и он слегка улыбнулся. – Мама твоя это тоже знает. Поэтому она стирает его холодной водой. Это я так, к слову, сынок. Чтобы помнил.
Вдруг он неожиданно замолчал, словно взвешивая, стоит ли говорить дальше. Прокашляв, он всё же продолжил:
– Лучше один раз услышать и запомнить на всю жизнь, чем жить в неведении.
В его словах не было назидания – только простота. Так говорят те, кто знает цену мелочам, за которыми стоит время. Он провёл рукой по старой ткани, бережно, как по чему-то живому. Со стороны казалось, что он что-то проговаривал.
– Да, местами он потертый – это ничего. Главное, он всегда приносит мне удачу. Знаешь, к некоторым вещам так привыкаешь, что они становятся частью тебя. Как будто несут с собой всё прожитое.
Он взглянул на меня – и в его глазах светилась та самая, особая благодарность, которую не выражают словами.
– Спасибо, сынок, – тихо повторил он. – И всё равно с утра меня не покидает необычное ощущение, что что-то должно случиться, – закончил он после паузы, не глядя на меня.
Я хотел спросить, что именно он имеет в виду, но передумал. Такие слова не требуют уточнений. Они просто остаются висеть в воздухе, как утренний туман, из которого может возникнуть всё что угодно – и тревога, и воспоминание, и предчувствие. Он снова посмотрел на вещь в своих руках – то ли на старую куртку, то ли на одеяло – и словно исчез на мгновение, уйдя в себя.
– Раньше я не придавал этому значения, но с возрастом всё чаще ловишь себя на мысли, что в простых вещах скрыто больше, чем кажется на первый взгляд.
Я понимающе кивнул. В комнате повисло особенное безмолвие. То, что появляется между людьми, когда говорить больше нечего, но молчание становится даже важнее слов.
Он медленно поднялся, оставив вещь рядом на стуле. Я видел, как его силуэт растворяется в свете из окна, и вдруг понял: сейчас он был самым настоящим. Настоящим в своей слабости, в своей памяти и в этой тишине, которую я запомню навсегда. Я хотел что-то ответить, но замолчал. Казалось, сейчас лучше просто сохранить ее. Тишину, которая была не пустой – в ней было понимание.
Вскоре мама позвала нас к столу. Разогретый с вечера бешбармак был аккуратно разложен по тарелкам, от которых ленивыми струйками тянулся ароматный пар. В центре стола на чистой скатерти лежал нарезанный крупными ломтями хлеб. Рядом с папиной тарелкой покоился разрезанный на четвертинки лук – привычное дополнение к трапезе. Мы ели молча, не спеша, будто стараясь продлить этот момент – тихий и семейный. Я старался тянуть каждый кусок, наслаждаясь вкусом и, вместе с тем слушая, как папа, между делом начал рассказывать о своем, как оказалось, незапланированном выходе на охоту.
– Ко мне должны заехать мои приятели. Помнишь, Айнаш, я рассказывал, – сказал он, обмакнув хлеб в бульон. – А далее уже все поедем на одной машине. Сначала – за проводником, он из соседнего села. Парень толковый, знает угодья, как свои пять пальцев. Без него – никуда. Да ты ведь знаешь Болата. Я про него говорю.
– Да, конечно, я помню всё, – ответила она быстро, почти машинально.
Из его слов становилось понятно, что это не просто встреча старых друзей, а почти ритуал. Собраться вместе, вспомнить молодость, поделиться байками у костра, проверить, не потерялась ли за год меткость и терпение.
– Не знаю, как оно пойдёт, – продолжил папа, глядя в окно. – Погода может подвести. Но и полагаться на машину не хочется. Лишь бы успеть приехать до ночи.
Мама ничего не сказала, только чуть заметно улыбнулась. Видно было, что она слышала всё это не в первый раз и понимала, что охота для него не только ради добычи. Это было частью чего-то большего и личного.
Я вдруг подумал, что за этими простыми рассказами скрывается целая жизнь. И что когда-нибудь, возможно, я так же буду рассказывать кому-то о старых друзьях, поездках и важных мелочах, которые делают воспоминания настоящими.
Папа отложил ложку, вытер руки о край салфетки и, взглянув на меня, сказал:
– Ну что, Жигер, раз еще не передумал, то и тебе надо собираться. Пора уже тебе увидеть, как оно бывает по-настоящему. Будет потом чем похвастаться перед друзьями-одноклассниками.
Гостей дожидаться долго не пришлось. Завидев меня у крыльца, они дружелюбно улыбнулись и, проходя мимо, похлопали по плечу. Я поздоровался и, не мешая взрослым, отошел в сторону – решил понаблюдать. Их было трое. Двоих – дядю Куаныша и дядю Бауыржана я знал. Они, хоть и нечасто, приезжали к нам с семьями. А вот третий был мне незнаком.
– Демеу, рад видеть тебя в добром здравии. Ассаламу алейкум, дружище! – первым заговорил дядя Куаныш, обращаясь к моему отцу. – Гляди-ка, и сын твой подрос – настоящий джигит! По одёжке его я вижу, что он с нами. Я прав, Демеу?
– Уагалейкум ассалам, друзья. Добро пожаловать! Да, сыну уже тринадцать. Куаныш, как добрались? Да, если вы не против, то я хотел его взять с нами.
– Приветствую тебя, Демеу. Рад видеть тебя в добром здравии. А что ты к Куанышу обращаешься? Сегодня я и ты, мы за главных будем. Он будет нам лишь помогать. Короче, я шучу. Однозначно бери его. Так веселей только будет, – добавил Бауыржан и сделал вид, будто хотел сообщить что-то важное. – Это наш друг, познакомьтесь. Мы коллеги.
– Меня зовут Рахматулла, друзья зовут Рахман. А вас, значит, Демеу? – гость остановился, протянул руку и с улыбкой посмотрел на отца. – Мне о вас многое рассказывали. Рад знакомству.
– Взаимно, Рахман. Думаю, лучше сразу переходить на «ты». Охота и официоз вещи несовместимые, – вежливо отозвался мой папа и, неожиданно вытянув руку, мельком глянул на часы. – В принципе, я должен был вас всех пригласить за дастархан. Но у нас еще встреча по пути – нужно забрать проводника. Я его предупредил, он должен уже ждать. Что скажете, господа?
– Ты неисправим, Демеу, – засмеялся Куаныш. – Любишь пошутить не вовремя. Какие мы тебе господа? Мы просто люди, скажем, любители природы. Не знаю, как другие, но я бы выехал сразу. Чай у тебя дома и за твоим дастарханом, думаю, лучше уже на обратном пути. Так это… Мы и в степи на лоне природы без проблем сможем устроить лагерь. Ну что, друзья, как решим?
Он оглянулся на всех. Остальные переглянулись, кто-то кивнул, кто-то лишь пожал плечами, но все, похоже, были согласны с ним. Шум короткого согласия пронёсся среди мужчин, и решение было принято.
– Тогда не теряем времени, – сказал папа, направляясь к машине. – Садимся. Там в степи день быстро уходит.
Скоро мы уже катили по пыльной просёлочной дороге. Зима ещё не вступила в свои права, но в воздухе уже чувствовалась её прохлада, а над горизонтом плавно стелился тонкий дым от далеких костров.
Я сидел в машине между дядей Бауыржаном и Рахманом, стараясь не мешать, но и не упускал ни слова из разговоров взрослых. Они говорили о работе, о каких-то экспедициях, вспоминали прежние поездки. Казалось, Рахман был не просто "коллегой" – в его голосе слышалась уверенность человека, который не впервые выезжает в места, куда не добраться просто так.
– Наш проводник – человек надёжный, – произнёс папа, поворачиваясь назад. – Знает местность, а главное, умеет читать следы зверей. Уверен, вы не пожалеете, если с ним познакомитесь. Без него мы не справимся.
– И далеко он живёт от места, куда мы направляемся? – спросил Рахман, поправляя очки и глядя вперёд.
– Это примерно три километра от его дома. Его юрта стоит у подножия холма. Мы там свернём и по извилистой колее поедем только прямо, – ответил Демеу.
Спустя двадцать минут дорога начала уходить вверх, и на горизонте показалась одинокая юрта. Рядом с юртой стоял человек – закутанный в тёмный чапан, с высоким посохом в руке. Он будто бы сливался с холмом, казался частью степного пейзажа, но всё же неуловимо выделялся – чем-то внутренним. Он не двигался. Стоял прямо, как страж или путник, выточенный из чёрного камня и поставленный здесь по чьей-то древней воле.
Даже издалека было видно, что он ждал. Но это было не просто терпеливое ожидание. Это было ожидание, в котором сплелись тревога и сосредоточенность, как будто он заранее знал, что приближающийся момент не простой. Его фигура словно звала, не двигаясь. Он стоял лицом к дороге, будто видел сквозь расстояние. Ветер чуть трепал полы его чапана, но сам он оставался недвижим, точно боясь рассеять то напряжённое чувство, что держало его в этой позе.
В машине на миг стало тише. Разговоры стихли сами собой, как это иногда бывает, когда в пространстве вдруг появляется что-то значимое, способное изменить привычный ход событий.
– Видите его? – вполголоса сказал папа, убавляя скорость.
– Стоит, словно корни пустил, – пробормотал Куаныш, вытянув шею вперёд. – Даже не шевельнётся совсем.
– Он весь, как натянутый лук, – добавил Бауыржан, – будто ждал нас не час, а всю жизнь. – Интересно, как люди в селениях относятся к фактору времени.
Рахман молчал прищурившись. Его взгляд был неподвижный и сосредоточенный. Через мгновение он тихо проговорил:
– И вправду любопытно, как здесь, в этих краях, люди живут со временем. Не гонятся за ним, не спорят, а просто идут рядом.
Его глаза вновь скользнули по фигуре проводника. По выражению лица было видно: он чувствовал то же, что и остальные, но вместе с тем – видел глубже, замечал то, что для других оставалось скрытым. Его пальцы слегка сжали колено. Не от страха, а от внутренней собранности, словно тело само подстраивалось под то напряжение, что повисло в воздухе.
– У этого человека отменный слух. Еще он хороший музыкант. Он прекрасно владеет казахскими музыкальными инструментами, – тихо сказал Демеу, – Он знал, что мы подъезжаем ещё до того, как мы показались на гребне горизонта.
Машина медленно подкатила ближе, и в какой-то момент мужчина у юрты слегка кивнул. Не шагнул, не махнул рукой, а просто едва заметно наклонил голову, словно подтверждая: «Я ждал именно вас». Нас встречал с виду моложавый парень. После коротких приветствий он пригласил гостей отведать угощений, приготовленных его женой, но гости вежливо отказались садиться за стол. Атмосфера предстоящей удачной охоты на фазанов ощущалась почти физически – плотной, звенящей. Может быть, именно поэтому, обмениваясь взглядами, мы то и дело тревожно посматривали вдаль.
Мы пересели на машину проводника. Старенький, но бодрый УАЗ-469 с открытым верхом стоял в стороне. После того, как в бензобак залили две канистры заранее припасённого топлива, мы со всеми вещами перебрались на него. Машина, несмотря на свой возраст, завелась с неожиданной лёгкостью. Папа заметил, что все мы в этот момент как будто синхронно выдохнули, сбрасывая с плеч тяжёлый груз беспокойства. Его слова были встречены теплой улыбкой. Никто не жаловался на тесноту. Казалось, что теперь всё внимание было сосредоточено на нашем проводнике по степи, которого звали Болат.