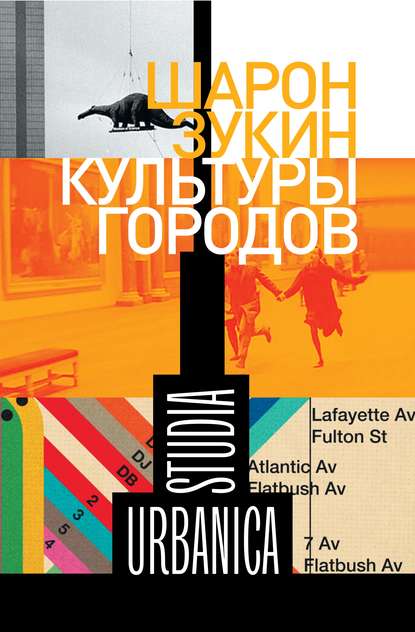Полная версия
Архитектурное жуткое. Опыты о современной бесприютности
Зрительная трубка обладает и обратной силой – превращает реальные глаза в мертвые, как когда Натанаэль, мимоходом вытащив трубку из кармана, чтобы присмотреться к указанному Кларой странному кусту, нечаянно смотрит через нее в глаза самой Клары и немедленно переносится в тот момент, когда он последний раз видел Олимпию, расчлененную деревянную куклу. Эти механические глаза, стало быть, являются двойниками, продуктами искусства, приукрашивающего природу. Они усиливают и без того впечатляющие возможности природного глаза, но чаще всего обманывают его. Они воистину есть инструменты trompe l’oeil.
Искусство как двойник природы, удваивающий и без того пугающее двойное существование самого человека – бытие, разделенное между я и тем я, которое наблюдает за собой, было привычной темой для Гофмана и романтической литературы в целом. Действие в рассказе Гофмана «Двойник» разыгрывается между художником, его двойником и двойной жизнью в его искусстве. В другом рассказе, «Эликсир дьявола», к удвоению искусством природы отсылает история Пигмалиона, который своим желанием оживил статую Галатеи. В этом случае Гофман переписывает сюжет из Овидия, превращая статую в картину, которая странным образом оживает для художника Франческо. В обоих случаях удвоение искусства, успешно обманывающего глаз, рассматривается как по сути своей опасное. Так, в финале «Двойника» художник Хаберланд отказывается от реальной Натали ради чистого идеала, живущего в его разуме, а в «Эликсире дьявола» ожившая Венера Франческо оказывается дьявольской силой. Искусство, изначально изобретенное, чтобы избежать угрозы вымирания – например, очертить тень возлюбленного на стене, – превращается в демонический знак смерти; таким образом, как продемонстрировал Фрейд, само искусство обретает оттенок жуткого.
Искусство жутко потому, что оно вуалирует реальность и вводит в заблуждение. Но оно вводит в заблуждение не в силу того, что оно есть само по себе; скорее, оно обладает способностью обманывать благодаря проецируемому желанию наблюдателя. Как отмечал Жак Лакан, притча о Зевксисе, изобразившем виноградную гроздь, которую птицы приняли за реальные плоды, подразумевает не то, что художник написал идеальный виноград, а всего лишь то, что глаза птиц были обмануты: «торжество взгляда над глазом». И наоборот, когда художник Паррасий победил Зевксиса, изобразив на стене занавес, столь реалистичный, что сам Зевксис потребовал показать скрытую за ним картину, ставкой было именно отношение между взглядом наблюдателя, полным желания обладать, и трюком живописного полотна108. Отсюда и зловещее отношение между двойником, который есть одновременно маска и презентация, и дурным, жадным глазом, который сам требует быть обманутым.
Не удивительно, что Советник Креспель подавлял силу своего глаза, намеренно заставляя себя быть близоруким. Креспель, несомненно, отдавал предпочтение тактильному ощущению и слуху, первичным чувствам музыканта; он также, в контексте романтической мифологии, наделявшей зрение зловещим разрушительным свойством («дурной глаз»), и обманом – маскировкой – добился некоторой намеренной невинности посредством детского восприятия мира объектов. Только таким способом он мог создать дом, который не был бы злым «двойником», проекцией его худших страстей, но стал бы домом, содержащим его внутреннее я, цельное и бестревожное. Вот почему внешне дом казался unheimlich, а внутри – heimlich; как слепой транскрипт, автоматическое письмо его неразделенной души, дом действовал как обратный маршрут, проход обратно от жуткого к домашнему. Странное поведение Советника считывается Профессором как знак того, что «назавтра утром Креспель снова потрусит привычной своей рысцой по проторенной колее», – точно так же и непривычное внешнее дома является надежным показателем привычного внутри. «Все вздымающееся в нас из земли он возвращает земле, – отмечает Профессор, – но божественную искру хранит свято»109. Его безумный дом задолго до эпохи психоанализа служил ему механизмом самосохранения.
В этом отношении дом был психотерапевтическим инструментом: Креспель нашел в этой маске безумия способ оттолкнуть мир и достигнуть внутреннего спокойствия. Это был весьма мудрый способ следовать тому, что Гофман называл своим «Принципом Серапиона», объединившим светское братство в одноименной серии рассказов. В соответствии с этим идеалом внешний мир использовался как рычаг, чтобы привести в движение внутренний мир художника посредством ясного осознания границ между поэзией и жизнью. Для этого художнику следовало культивировать особого рода выдержку, Besonnenheit, или ментальное состояние, которое контролировало бы высвобождение образов и переводило стимулы из внешнего мира в царство духа. Как заключила Мария Татар,
без этого дара холст художника остается пустым, рукопись писателя состоит из чистых страниц, нотный лист композитора не содержит ни единой ноты, и художник в целом почитается в обществе за безумца110.
Креспель задолго до эпохи психоанализа сберег свое поэтическое «я» посредством искусственной границы, дома, который был в некотором особом смысле зеркалом его души.
Дом Креспеля с его особыми отношениями между экстерьером и интерьером занимает свое место в ряду множества жутких домов XIX века. Они, внутри и извне, как heimlich и unheimlich, стали привилегированным топосом жуткого. Так типичный контекст, в котором рассказываются истории о привидениях, кажущийся уютным интерьер, который постепенно превращается в носитель ужаса, описан во многих версиях: счастливый дом, обычно дело происходит после обеда, мужчины покуривают трубки у пылающего камина, женщины шьют, детям разрешили остаться подольше. Таков ностальгический образ veillee, «деревенский» образ дома, особенно ценящийся в эпоху разрушения сельской общины и урбанизации. В таком безопасном окружении ужасными историями можно наслаждаться со вкусом; многие писатели настаивали на бушующей за окнами буре, чтобы на контрасте подчеркнуть уют внутри. Так, обстановка «Зловещего гостя» – «осень, завывание ветра, огонь в камине и пунш – это как раз то особое сочетание», которое внушает странное предчувствие чудесного, провоцирует страх сверхъестественного, который затем сладко растягивается историями, напоминающими слушателям об окружающем их мире духов111.
Так и Томас Де Квинси, искусно владеющий мастерством вызывания кошмарных сновидений, иногда с искусственной помощью опиума, был столь же убежден, что внутреннее путешествие следует начинать из надежного безопасного места. Местом его грез, стимулируемых лауданумом, был простой белый коттедж, ранее принадлежавший Вордсворту, в долине Грасмер. «Обсаженный густым цветущим кустарником»112, то был уютный дом в замкнутой долине, с простыми комнатками, уставленными книгами и согретыми веселым огнем. Де Квинси тоже настаивал на необходимости зимы и бури за стенами для своих приключений ума, когда он почти невинно делал глоток из обычного бокала, содержащего обманчивую жидкость, инструмент его фантазий об архитектурном возвышенном, которое он вспоминает по описаниям Кольриджа, который сам вдохновлялся смутными воспоминаниями об офортах «Воображаемые тюрьмы» Пиранези113.
Развивая и без того богатую традицию «ошибочных прочтений» Пиранези, от Хораса Уолпола через Лутербурга до Уильяма Бекфорда, Де Квинси затуманивал первую романтическую медитацию над тем, что можно было бы назвать пространственным жутким, – размышление, уже не полностью полагающееся на темпоральные сдвиги подавления и возвращения или невидимые соскальзывания между чувством дома и не-домашнего, но демонстрировало его в бесконечных повторениях воображаемой бездны114. Вертикальный лабиринт, прослеживаемый Де Квинси, воображает художника, Пиранези, захваченного головокружением en abime собственного творения, вечно карабкающимся по незавершенным лестницам в лабиринтах тюремных пространств. Этот пассаж весьма известен:
Пробираясь вдоль стен, вы начинаете различать лестницу и на ней – самого Пиранези, на ощупь пролагающего себе путь наверх; следуя за ним, вы вдруг обнаруживаете, что лестница неожиданно обрывается и окончание ее, лишенное балюстрады, позволяет тому, кто дошел до края, ступить только в зияющую бездну. Не знаю, что станется с бедным Пиранези, но, по крайней мере, очевидно, что трудам его здесь положен конец. Однако поднимите взор свой и гляньте на тот пролет, что висит еще выше, – и опять вы найдете Пиранези, теперь уже на самом краю пропасти. Взгляните еще выше и увидите еще более воздушную лестницу, и бедный Пиранези снова занят высоким трудом – и так далее, до тех пор, пока бесконечные лестницы вместе со своим создателем не исчезнут под мрачными сводами115.
Де Квинси выходит за пределы простого бёрковского наслаждения неопределенностью руин в возвышенное, чтобы передать полностью развитое пространственное жуткое. Арден Рид отметил отношение к фрейдовскому жуткому и во «всемогуществе мысли», демонстрируемом гипнагогическими видениями Де Квинси, и в пространстве бесконечного повторения, создаваемом прочтением, которое смешивает все офорты «Воображаемых тюрем» в единую цепочку ментально-пространственных ассоциаций116. В таком повторении, как отмечал Деррида в связи с фрейдовским повторением лозунга Ницше «вечное возвращение того же самого», есть что-то дьявольское; так, комментируя текст Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», Деррида говорит:
Сам ход текста дьявольский. Он делает вид, что шагает, не прекращает шагать, не продвигаясь вперед, постоянно намечает еще один шаг, не двигаясь с места117.
Это бесконечное влечение к повторению жутко – и в силу его ассоциации с влечением к смерти, и в силу «удвоения», неизбежного в непрестанном движении без движения.
Рисунки Пиранези, безусловно, послужили для многих романтиков (ошибочно понятыми) тропами пространственной нестабильности, означающей бездонное стремление к небытию. Отчет Де Квинси о его беседе с Кольриджем дал начало длинной традиции (ложных) интерпретаций Пиранези, в которой тюремные офорты, часто описываемые как сны, наркотические видения и тюрьмы собственного сознания, приобретали вид лабиринта, где блуждает сам художник, метафоры романтического ума.
Именно в этом духе Шарль Нодье, не ссылаясь на Де Квинси, но явно творчески его перечитывая, со вкусом разрабатывает тему в коротком рассказе, который он неспроста именует «Пиранези», опубликованном в 1836 году, притче протоборхесовских масштабов, в которой образ внутреннего пространства рефлексии символизирует бесконечный рост библиотек, повторение Вавилона, процедуру удвоения без оригинала всего мира – в книге118. Характеризуя некую болезнь, которую он называет «мономанией рефлексии» (monomanie reflective), Нодье прибегает к пространственной аналогии – образам того, что он называет «испанскими замками» Пиранези. Здесь романтический библиофил проводит решительную границу между конвенциями возвышенного, представленными картинами Джона Мартина, и странными интерьерными «ночными кошмарами» Пиранези:
Руины Пиранези вот-вот рухнут. Они стонут, они плачут… Эффект его величественных зданий не менее поразителен. Они вызывают головокружение, как если бы мы смотрели на них с высоты, а если вы попытаетесь отыскать причину охватившей вас эмоции, вы с удивлением содрогнетесь от страха на одном из их парапетов или увидите, как все объекты вращаются перед вашими глазами с капители одной из колонн.
Но кошмар Пиранези состоит не в этом. Я уверен, что Мартина [sic!] тоже посещали кошмары пространства и множества. Пиранези определенно видел кошмары об одиночестве и замкнутом пространстве, о тюремной камере и склепе, об отсутствии воздуха, чтобы дышать и кричать, и места, чтобы сопротивляться119.
Таким образом Нодье отличает общее пространство возвышенного – высоты, глубины, и протяженности, как его характеризовал Бёрк, – от пространства жуткого: молчания, одиночества, внутреннего заключения и отсутствия воздуха, того ментального пространства, где схлопываются темпоральность и пространственность. Головокружение возвышенного помещается рядом с клаустрофобией жуткого. Так, воображая дворец, построенный Пиранези, возможно Ampio Magnifico Collegio, Нодье противопоставляет «подавляющее величие» и «ошеломляющее великолепие» внешнего облика и интерьер, все еще захламленный деревом и кирпичом стройки. Ничего не закончено, ничего не завершено и не ясно:
Главная лестница, извивающаяся поворотами, и глубокий вестибюль, и длинная галерея, ведущая вдаль, к еще более узкой лестнице, так завалены временными конструкциями, что почти невозможно и помыслить, как рабочим удается выбираться оттуда, и в воображении можно услышать их жалобы, плачи, измученные крики голода и отчаяния.
Внутрь этой конструкции Нодье, как и Де Квинси, помещает самого Пиранези, одной ногой на первой ступени, взглядом вперившегося в глубину интерьера, где «неодолимая судьба» заставляет его карабкаться на самый верхний уровень. Эта «странная одержимость», одолевшая его дух во сне, есть одновременно сон и эмблема более общей судьбы романтического гения: «Он должен карабкаться средь препон и опасностей и восторжествовать либо умереть». Бездонное пространство этого восхождения сходно с тем, что описывает Де Квинси, но развернуто в сцену последовательных шагов в бесконечность:
О, как будет он пробираться, бедный Пиранези, между этими тесно смыкающимися балками и хрупкими строительными лесами, гнущимися и скрипящими? Как он будет пробираться через эти шаткие столбы, соединенные между собой узкими и дрожащими арками? …через эту массу плохо уложенных нависающих камней и под этими низкими и опасными сводами? …С тревогой видит глаз тайный путь легчайшей ящерки!
И все же Пиранези карабкается, и, хотя это едва укладывается в уме, Пиранези добирается. – Он добирается, увы, до основания здания, такого же, как первое, доступ в которое чреват теми же трудностями, угрожает ему теми же опасностями, требует тех же усилий, но во все большей пропорции, усугубленной его усталостью, истощением и его старостью. …Тем не менее Пиранези взбирается снова; он должен взбираться и взбираться и добраться. – И он добирается.
Он добирается, согбенный под грузом, измученный, сломленный, хрупкий, как тень; он добрался до нижнего уровня здания, такого же, как предыдущие…
Таким путем Пиранези бесконечно карабкается через пространство, которое, хоть и все еще подлежит изобразительному контролю законов перспективы, уменьшается с повторением: «до того момента, когда [здания] теряются в дали, едва ли измеримой воображением». К этой точке даже сам Пиранези, «Пиранези, взирающий с ужасом на каждое новое здание, который карабкается, идет, прибывает, близкий к тому, чтобы покориться невыразимой печали недостижимости конца его страданий», становится «невоспринимаем… как черная точка на грани исчезновения, почти теряющаяся в глубине небес». Дальше, с некоторым облегчением утверждает Нодье, «нет ничего, кроме пространства»120.
Этот длинный и намеренно утомительный promenade architecturale121 выполняет у Нодье функцию очерчивания пространства «смертного сна», «непереносимой пытки», свойственной мономании внутренней рефлексии, где «все впечатления длятся без конца, где каждая минута становится веком». Он служит прелюдией к столь же жуткому исследованию ментального пространства графа Г., богатого холостяка, который, решив удалиться от мира, запланировал реставрацию интерьера своего шато в соответствии с «фантастическим планом дворца Пиранези». Буквальное строительство такого пространства, «каменного лабиринта», скрывает одинокое отшельничество владельца, который, подобно персонажу из «120 дней» Де Сада, защищается от мира почти непроходимой сетью разорванных связей:
галереи, в которых можно было сориентироваться только с терпением и смелостью; узкие лестницы, восходящие и нисходящие, перерезаемые темными и запутанными коридорами, ведущими в никуда.
Только самый узкий мостик, пересекаемый с ужасом, ведет в апартаменты графа, почти непроницаемое убежище, где владелец три года живет в одиноком размышлении, «как столпник на своей колонне». Найденный мирно почившим в своей постели, в сердце этого интериоризованного Вавилона, он успешно достиг уровня «отчуждения», которое не было, подчеркивает Нодье, безумием, описываемым докторами. Подобно дистанцированию ученого (его Нодье тоже описывает), который, желая уединения, удаляется от мира в квартиру, полную натянутых тросов, балансируя по которым, он продвигался все дальше и дальше от двери, это было «странное отчуждение, оставляющее свободу всем остальным способностям высокого интеллекта… фанатизм совершенствования»122. Такая интериорность была, в терминах Нодье, истинным местом жуткого, последним местом сопротивления «прогрессу прогресса»123.
Переход от домашнего к не-домашнему, теперь осуществляющийся исключительно в уме, усиливает неразличимость реального мира и сновидения, реального мира и мира духовного, словно бы стремясь подорвать даже то чувство безопасности, которого требуют профессиональные сновидцы. Следуя предписанию Канта достигать удовольствия через ужас благодаря уверенности в безопасности: «если наше собственное положение безопасно, [аспект ужасающих природных феноменов] тем более привлекателен, что устрашающ», – эстет ужаса успешно баррикадируется и отгораживается стенами от природы, чтобы усладить свой вкус к страху. Но когда локус жуткого смещен внутрь ума, такие барьеры будет трудно поддерживать – они легко растворяются в ткани сна, становясь призраками в пространстве страха.
Так veillee, или «поздний бессонный вечер», как переводит Михаэль Риффатер название поэмы Рембо124, сам становится жутким, его безопасность подорвана и затуманена ожидаемым концом от тех ночей, когда, как в рассказе Гофмана, отец Натанаэля, ожидая прихода Песочного человека, «безмолвный и неподвижный, сидел в креслах, пуская вокруг себя такие густые облака дыма, что мы все словно плавали в тумане», до того вечера, описанного Рембо, когда каминная полка и обои сливаются со сновидением о путешествии, только чтобы вернуться при первом знаке нормальности и, таким образом, смерти.
Возврат освещения к сводам. Отделяясь от двух оконечностей зала, от их декораций, соединяются гармоничные срезы. Стена перед бодрствующим – это психологический ряд разбиваемых фризов, атмосферных полос, геологических срывов. – Напряженные, быстрые сны скульптурных чувствительных групп с существами всех нравов, среди всевозможных подобий125.
Именно из встречи такого veillee с современным городом Рембо разовьет собственный образ пиранезиевской бездны – «Города» из сборника «Озарения».
От Гофмана до Рембо в коротких рассказах и во многих veillees дым становится агентом растворения, посредством которого ткань дома превращается в глубину сна; таким же образом, как инструмент возвышенного, дым всегда скрывал то, что иначе казалось бы слишком ясным.
Нет ничего более домашнего, более обустроенного, чем жизнь рассказчика короткого рассказа Мелвилла «Я и мой камин», когда он удовлетворенно пыхтит трубкой возле такой же пыхтящей каминной груды126. Сопротивляясь модернизации и решительно настроенный поддерживать дружеское согласие со своим старым молчаливым другом – камином, этот рассказчик захватил воображение тех, кто видел что-то прагматичное и крепко «американское» в идее огня как центра дома: традиции первопоселенцев, укорененные в антропологии Земпера127 и обретающие архитектурное выражение в домах прерий Фрэнка Ллойда Райта128.
Несомненно, рассказчик любит свой камин: он дарует тепло и стабильность всему дому, как архитектурный элемент и как функция; он не ворчит, как жена рассказчика, и репрезентирует, в символическом смысле, последний бастион благостного прошлого, противостоящий вторжениям дурного настоящего. И все же камин, как рассказчик легко признается, в некотором смысле тиран. Двенадцать на двенадцать футов в основании, четыре фута шириной на верхушке, он полностью узурпировал центр дома, не давая сквозного прохода и вынуждая жильцов двигаться только по периферии. Его присутствие столь сильно, что рассказчик становится его рабом. Камин – властитель дома; владелец стоит позади него, во всем признавая его первенство, и, наконец, защищает его, устранившись из внешнего мира и стоя на страже камина, чтобы тот не был разрушен, стоит лишь повернуться спиной. Страх пронизывает этот рассказ: страх быть лишенным «позвоночника», лишившись камина; страх потерять единственное в жилище, «что неподвластно времени»; страх конфронтации с женой; страх – учитывая форму камина и его вертикальную мощь – лишиться мужской силы.
Камин предоставляет и поддержку другого рода. Это центральный объект фантазий рассказчика: он напоминает о далеких пирамидах Египта и о ритуальных темных стоячих камнях друидов, он замещает собой всю романтическую историю истоков, это первомонумент, дарующий и отнимающий жизнь, предвестник вечного пламени и гробница королей. Далее, он инструмент знания, обсерватория, развернутая в небеса. В его массе, почти неизмеримой, нередуцируемой к математическим расчетам архитектора (презрительно названного Скрайбом)129, он не может быть урезан. Его внутренние пространства скрывают неведомые тайны, его внешние стены непроницаемы и молчаливы; Гегель охарактеризовал бы его как идеальный пример символической архитектуры: это объект, еще не отделенный от магического мира демонов или спроецированных на него людских фантазий. Вокруг этой пирамиды-гробницы разворачивается дом; он зависим от камина, дающего тепло и пропитание; в силу расположения он имеет форму лабиринта, защищающего центр от вторжения профанов. Получившаяся путаница комнат, каждая из которых вынуждена служить проходом в следующую (в одной из них целых девять дверей), производит сложную сеть отношений:
почти любая из комнат, подобно философской системе, сама по себе была лишь введением, переходом к другим комнатам и анфиладам, представлявшим собой, по сути, целую череду введений.
Как сомнамбула, чью ментальную карту, кажется, эмулируют эти комнаты, «идущий по дому – как ему казалось, к определенной цели – обнаруживал, что достигнуть ее не в состоянии». Можно и вовсе заблудиться:
Подобным же образом сбиваются с дороги в лесу: путешественник мог снова и снова обходить камин, возвращаться к исходной точке, начинать путь заново – и опять оказываться на прежнем месте130.
Это напоминает сходный паттерн жуткого повторения во фрейдовском описании его странного опыта в определенном квартале некоего провинциального города, «в характере которого не мог долго сомневаться», поскольку окна маленьких домиков полнились накрашенными женщинами:
…я поспешил покинуть узкую улицу через ближайший закоулок. Но после того, как какое-то время, не зная дороги, проскитался, я неожиданно обнаружил себя снова на той же улице, где уже начал привлекать внимание, а мое поспешное бегство привело только к тому, что по новой окольной дороге в третий раз оказался там же. Тогда-то меня охватило чувство, которое я могу назвать только чувством жути131.
Фрейд сравнивает это «неумышленное повторение», превратившее для него мирный итальянский городок (Геную) в место пиранезийской клаустрофобии, с блужданием в туманном горном лесу, где
несмотря на все старания найти заметную или знакомую дорогу, возвращаются повторно к одному и тому же, отмеченному определенными признаками месту. Или когда плутают в незнакомой темной комнате в поисках двери или выключателя и при этом неоднократно сталкиваются с теми же самыми предметами мебели132.
Рассказчик Мелвилла испытывает сходное чувство беспомощности перед жуткой мощью камина и так же нисколько не стремится прослеживать подсознательные мотивы своих «неумышленных» действий.
Эта потребность в сокрытии источника зависимости отражается в сопротивлении рассказчика попыткам дешифровать или интерпретировать его герметичный камин, как если бы это его собственное тело было под угрозой уничтожения. Он предпочитает, чтобы пирамида оставалась первобытной силой, дописьменной, сопротивляющейся всякому объяснению, как иероглифы до Шампольона133.
Даже когда в последней попытке убедить хозяина разрушить камин архитектор выдумывает историю о существовании там «замаскированного пустого пространства – короче говоря, убежища или тайника… скрытого во мраке», рассказчик отказывается его искать. Не потому что не верит в его существование, – как раз наоборот, он слишком сильно верит в тайны. То, что скрывает камин, их общий подземный мир, должен оставаться сокрытым. Он придерживается мнения, что «святотатцев, проникавших в сокровенные тайники, постигали неисчислимые плачевные бедствия», тем самым в точности повторяя принцип Шеллинга. Посредством него между субверсивными и комфортизирующими силами дома достигается что-то вроде неявного договора, позволяющего ему, по крайней мере на протяжении жизни владельца, оставаться жилым.