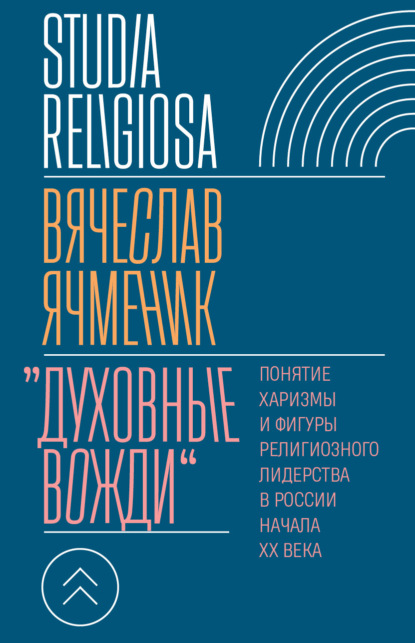Полная версия
Вечный побег. Старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом_clone_2025-12-13
Я не считаю за гонение, когда беспаспортных бродяг сажают в тюрьму: странники-бегуны сами себе добывают гонение, – они играют в него272.
И на этом этапе может показаться, что существование в состоянии неопределенности могло быть тягостным для странников, а сама «игра в гонение» подразумевает вечную угрозу преследования и невозможность открытого существования. Однако странники едва ли тяготились своей «игрой».
Метафорическое подполье
В краткой записке, поданной в МВД по итогам расследования в Сопёлках, Иван Аксаков писал, что местные мужчины и женщины бегут в леса и пустыни, чтобы примкнуть к Расколу, якобы локализированному вне их крестьянского сообщества273. Однако Иван Сергеевич лукавил. Ему было прекрасно известно, что крестьянам не нужно было искать «сектантов» в далеких и глухих лесах. Странники уже жили среди них. Точнее, жили вместе с ними. В письмах родным из Сопёлок Аксаков и сам писал, что «странники не очень охотно живут в лесах и пустынях, [предпочитая. – И. К.] дома с теплыми и чистыми подпольями и удобными тайниками»274.
Из-за описанной выше природы «серой зоны» полулегальности, в которой существовали странники, складывается впечатление, что они активно скрывались от внешнего мира. С одной стороны, странники возвели стены своего подполья, руководствуясь собственными доктринальными установками. С другой – внешний для них мир сам укреплял границы этого подполья, демонизируя странников через дискурсы об изуверах или маргинализируя их посредством неоднозначности легального статуса. Однако парадокс сложившегося к началу XX века режима существования странников заключается в том, что при всех этих условиях их катакомбность становилась все более и более метафорической.
Странники были прочно связаны с внешним миром через сеть благодетелей. В числе подобных спонсоров могли оказаться и локально влиятельные люди, в первую очередь купцы. Если верить Пятницкому, Никита Семенов в период гонений 1850‑х годов укрывался у влиятельной московской купчихи Шапошниковой275. В числе пермских спонсоров странников, по сообщению Бальца, значились купцы Рукавицины276, а многолетними спонсорами ярославских странников были паточные магнаты Понизовкины277. Во Владимирской и Костромской губерниях странников также поддерживали местный паточный магнат Максим Осипов, владелец обувной фабрики Михаил Бузыкалов, торговец бакалейными и «колониальными» товарами Федор Кутьин278. Каргопольских странников щедро спонсировала некая местная «христолюбивая» купчиха279. К началу XX века этот финансово-духовный роман между странниками и провинциальными купцами не только выглядел довольно прочным, но и предполагал строгое разделение религиозных и светских обязанностей. Характерно, что я не встречал никаких упоминаний о купцах и бизнесменах, которые, покровительствуя странникам, пользовались бы их подпольной инфраструктурой и способностью незаметно для властей перемещаться на огромные расстояния. Похоже, что, несмотря на экономический потенциал использования подобных возможностей, например для контрабанды или доставки товаров, до определенного момента обеим сторонам не приходило в голову нарушить герметичность духовной и экономической сфер.
Деятельность странников могла быть скрыта от глаз высших имперских чиновников вроде Аксакова, но они не были отделены от городских и крестьянских сообществ городов и деревень, в которых проживали. Об этом свидетельствуют письма и отчеты самого Аксакова, и рапорт председателя комиссии по расследованию деятельности странников в 1853 году Алябьева280. Павел Мельников в отчете для МВД о состоянии старообрядчества в Нижегородском регионе в 1854 году писал о том, что среди покровителей странников были местные купцы, бурмистры и даже дворяне281.
Характерный пример этого переплетения открытости и скрытности – случай деревни Коробово (Костромской губернии), жители которой, считаясь потомками Ивана Сусанина, пользовались рядом привилегий. Одной из них была невозможность свободного доступа местной полиции в деревню. Эта защита от посторонних глаз привела к тому, что количество странников перевалило там за половину от числа всех жителей. В 1859‑м, чтобы усмирить «сектантов» в деревне, населенной менее чем сотней человек, потребовалось отдельное постановление МВД, подкрепленное именем императора и зачитанное крестьянам губернатором282.
Олонецкий миссионер Дмитрий Островский в исследовании истории каргопольских странников сообщал об их активной деятельности и открытой проповеди в 1860‑х283 и даже приводил более поздний эпизод, как местные крестьяне, вооружившись кольями, освободили пойманного полицией странника от конвоиров в 1873‑м284. В одном из тверских уездов странники чувствовали себя настолько в безопасности, что в 1881 году один из них написал в полицию донос на своих единоверцев, чтобы заставить их сохранять режим скрытности285. Из приведенных выше свидетельств складывается впечатление широкой интеграции странников в социальные пространства за пределами их сообществ.
И если до начала XX века, по крайней мере для высших эшелонов имперской власти, невидимость странников оставалась буквальной, после их подпольность оказалась проницаемой и для властей. Подробные списки каргопольских странников и благодетелей в 1900 году публиковали «Олонецкие епархиальные ведомости»286. О составе и членах страннических общин, живущих иногда практически открыто, сообщали епархиальные сводки для владимирского губернатора287. В той же Владимирской губернии шуйский уездный исправник имел информацию о поименном составе местных страннических общин288. О деятельности конкретных странников, о которых идет речь в этой книге, знали многие, в том числе и полиция. Полицейские сводки, включенные в рапорт Бальца, доходили в 1912 году до министра юстиции289. Причем сводки содержали точную информацию как о самих странниках (с указанием настоящих фамилий), так и о спонсорах общины – Понизовкиных. При этом если странники все же попадали в руки полиции, то к 1900‑м годам, если дело и доходило до суда, подсудимые отделывались незначительными сроками.
При декларируемом с обеих сторон антагонизме взаимоотношения странников с властями (от местных до имперских) складывались таким образом, что на практике категории вроде «гонения» и «подпольности» стали метафорическими для обеих сторон. Иными словами, за 50–70 лет с момента печально известного «открытия» странники практически перестали скрываться, а государство практически перестало делать вид, что ловит их. Такой режим существования в метафорическом подполье, по-видимому, вполне устраивал странников, так как не подразумевал капитуляции собственных идеологических представлений о границах допустимого взаимодействия с государством. И хотя кажется, что разрыв между принципами, разработанными Евфимием, и практически открытым существованием в начале XX века огромен, нет причин думать, что этот разрыв беспокоил странников, о которых идет речь. По крайней мере, полемическая литература и протоколы соборов данных лет не отражают это беспокойство.
На пороге перемен
Итак, в начале XX века странники существовали во вполне комфортных условиях собственного метафорического подполья. Цинично описанная Полянским «игра в гонения», с одной стороны, оправдывала денежные вливания со стороны спонсоров, а с другой – в случае обнаружения странников не сулила им крупных уголовных неприятностей. Кроме того, вольно или невольно странники организовали свое комфортное пространство таким образом, что при попытке выхода за его пределы они столкнулись бы с рядом противодействующих внутренних и внешних факторов.
Важнейшим внутренним фактором, не позволявшим странникам открыться внешнему миру полностью, была собственно эскапистская догматика. Так или иначе странники крепко держались за собственное отречение от мира, хотя и понимали границы этого «мира» зачастую очень размыто. Крещеные (то есть полноценные) странники не связывали себя светской деятельностью и потому, что этого не позволяло их религиозное мировоззрение, и потому, что у них не было в этом практической необходимости. Спонсоры обеспечивали сообщество всем необходимым, и у странников не было потребности заботиться о материальной сфере жизни.
Кроме того, идеологически обусловленный номадизм странников оставался важной составляющей их онтологии и препятствовал какому-либо пространственному укоренению в виде светской деятельности. Догматика не предписывала странникам обязательных перемещений в физико-географическом пространстве. Свои важнейшие перемещения странники совершали в ландшафте эсхатологической географии, скрываясь (по крайней мере, декларативно) в духовном пространстве, недосягаемом для антихриста. Крещение как разрыв с испорченным миром – важнейшее для странников перемещение из статичной имперской социальной системы координат в динамическое пространство эсхатологической неукорененности. Такое перемещение предполагало полный разрыв с прежней модальностью существования и номинально лишало странника (при условии, что он все еще хотел оставаться странником) обратного пути в мир. Таким образом, статус странника был несовместим с какой-либо светской активностью, которая даже если и не привязала бы его к физико-географическому пространству, то сделала бы «вечный побег» потенциально обратимым. Кроме того, в свою очередь, открытое участие в мирской деятельности предполагало позиционирование странников в имперском социальном пространстве, что в условиях пореформенной модернизирующейся империи означало бы включение в определенные формальные иерархические и бюрократические отношения с государством. Такое включение также было для странников недопустимым, даже при условии, что они так или иначе являлись частью более широких городских и деревенских социальных пространств. Для наставников удаленность от светского пространства, по-видимому, была еще более значительной. Архиепископ Владимирский и Суздальский Николай, например, докладывал губернатору в 1910 году, что наставники странников не берут в руки денег290.
Другим важным внутренним фактором, препятствовавшим полноценной и открытой интеграции странников в позднеимперское социальное пространство, были их представления о непрерывности собственной религиозной традиции и ее догматической стабильности и устойчивости. Странники оправдывали любые доктринальные, практические или иерархические трансформации своих сообществ обязательной апелляцией к уже существовавшим христианским догматам и практикам первых веков нашей эры. Для них было важно подчеркнуть неразрывность собственной традиции с религиозной традицией, заложенной воплощенным Богом Исусом Христом. При таких онтологических вводных резко изменить свой режим существования было бы довольно проблематично, поскольку это потребовало бы значительных богословских усилий, учитывая, что с точки зрения богословия однажды испорченный мир все еще оставался поврежденным и непригодным для открытого существования. У странников не было повода полагать, что природа имперской власти изменилась со времен Петра I или стала менее еретической или инфернальной. Следовательно, у странников не было повода менять режим существования, выбранный в XVIII веке, или, по крайней мере, оправдывать его изменения. Разумеется, на практике этот режим уже мало походил на образ жизни, предписанный Евфимием. Однако до определенного времени этот разрыв не вызывал у странников идейно-практического диссонанса. В собственных глазах странники все еще оставались наследниками Евфимия, поморских староверов, соловецких мучеников, средневековых русских святых и гонимых христиан Римской империи.
Одним из внешних факторов, довлевших над странниками, к началу XX века был, собственно, их нечетко сформулированный легальный статус. Эта неопределенность по мере либерализации имперской религиозной политики зачастую оказывалась собственным идеологическим выбором странников. Однако нет причин полагать, что решившиеся пойти на бюрократический контакт с государством странники были бы радушно приняты в имперскую конфессиональную «семью». Даже те бюрократические дебаты, которые заканчивались опровержением изуверства странников, демонстрируют низкий уровень толерантности к сообществу. Так, разбирательство, инициированное олонецким губернатором в 1900‑х годах, не привело к полному отказу от преследования странников, зато еще раз подтвердило допустимость их наказания по уголовным нерелигиозным статьям.
Даже те из чиновников и журналистов, кто так или иначе призывал перестать демонизировать странников, например Бальц и Кромов, не отрицали того, что речь идет о потенциально подрывной религиозной идеологии. Так, несмотря на то что Бальц поставил вопрос о декриминализации странников как сообщества, тем не менее он все же не отрицал, что отдельные странники могут подвергаться преследованию за антигосударственную пропаганду291. Кромов, хотя и не допускал существования в среде странников «красной смерти», высказывался еще жестче: «С государственной точки зрения, с точки зрения порядка, подпольники несомненно преступная секта и как таковая подлежит преследованию»292. Таким образом, возможная внешняя социальная интеграция осложнялась бы тем, что открытые странники уже не смогли бы существовать в «серой зоне» и их статус должен бы был быть четко закреплен законодательно. Однако из вышесказанного вовсе не вытекает, что странники обязательно получили бы легальный статус.
Наконец, препятствием были экспертные и публичные дискурсы о странниках. С момента «открытия» странники все время воспринимались производителями этих дискурсов как плохо совместимые с модернизирующимся имперским пространством. Их практики и догматика (реальные и воображаемые) описывались в почти медицинских терминах, как удручающая девиация293, которой подвержена часть «русского национального тела». «Эх, горе-горе! Темнота бегунская! Когда пройдешь ты, когда развеешься?» – писал о тайных похоронах странников журналист либерального «Волжского вестника» в 1899 году294. Розов описывал практики странников выражениями «печальная язва», «отвратительная душевная болезнь»295. Для Ивановского странники были «заблудшими овцами»296, а для Пругавина жертвами «дикого, мрачного учения»297. Даже те из народников и большевиков, кто идеализировал странников, негласно сходились в том, что по причине архаичности они не в состоянии самостоятельно канализировать свой богословский протест в классовый.
Преодоление гегемонии таких дискурсов потребовало бы от странников готовности вторгнуться в публичную сферу. Для этого понадобились бы значительные усилия со стороны представителей преимущественно крестьянских и городских низов, далеких от сфер, где эти дискурсы производились. Может показаться, что тех, кто отрекся от мира, не должно сильно волновать общественное мнение о себе. Однако, как выяснится в следующих главах, странники были осведомлены об исследованиях и газетных статьях о себе и очень чувствительно реагировали на попытки очернить их публичный образ.
Основная идея этой главы в том, чтобы показать, что у странников не было ни малейших причин покидать комфортную «серую зону» и менять режим своего существования. При попытке выйти за пределы обжитого пространства они неизбежно столкнулись бы с необходимостью собственной идеологической ломки и сопротивлением внешнего мира, который смотрел на них с брезгливым скепсисом. Тем не менее странники существовали в режиме метафорического, а не буквального подполья, а значит, были не только частью собственного религиозного пространства. В начале XX века общество активно трансформировалось и модернизировалось, в нем появлялись новые социальные и экономические ниши и возможности. Странники не были оторваны от этих процессов. Поэтому, несмотря на все опасности, которые сулила попытка шагнуть за пределы привычного уклада, они все же решились на нее и вольно или невольно запустили необратимые процессы изменения собственного режима существования. Так, будучи сектантами, раскольниками, антимонархистами, изуверами, неполноценными русскими и девиантными православными, странники отправились в плавание по волнам и водоворотам модернизирующейся Российской империи.
Глава 2
Мельница безградных
Ускользающая статистика
Евфимий до своей смерти в конце XVIII века успел крестить не более семи человек, а к началу XX века его наследникам удалось сформировать немногочисленное, но централизованное сообщество, представители которого проживали на огромной территории от Тверской губернии на западе и Олонецкой на севере до Алтая и Западной Сибири на востоке298. При этом странники, разумеется, не были распределены по регионам равномерно. Ярославская губерния со знаменитой столицей странников селом Сопёлки так и осталась важнейшим центром религиозного движения. Прилегающие Владимирская, Костромская, Вологодская, Ивановская губернии также были зонами активности странников. Далее география присутствия странников распространялась на восток через Нижний Новгород, Саратов, Вятку, через Урал в районе Перми и Сарапула и восточнее заводов Екатеринбургской губернии – по огромной территории Сибири до Бийска и Томска сетью спорадических общин и таежных скитов. Пятницкий сообщал, что странники доходят едва ли не до Персии299, а ОГПУ при обысках в 1930‑х будет находить у них карты подмандатной Палестины с железнодорожными маршрутами300. Но все же в реальности ничто не говорит о том, что они могли путешествовать так далеко. В отличие от многих других старообрядцев, по крайней мере в первой половине XX века, странники, о которых идет речь, не покидали Российской империи и СССР.
Статистика старообрядчества и вообще русского религиозного диссидентства – предмет политических и историографических дебатов на протяжении по меньшей мере полутора столетий301. Само поле подобной статистики еще во времена, когда она была актуальной, стало полем столкновений различных подходов (кого считать? как считать?) и политических пристрастий акторов подсчета (кто считает?). Спустя полтора столетия даже использование методологии digital humanities не дает однозначного вопроса на поставленный на рубеже XIX и XX веков знаменитый вопрос Пругавина: сколько их, «два или двадцать миллионов?»302.
Сложность вопроса заключается прежде всего в том, что, каким бы образом ни считать количество религиозных диссидентов, итоговые цифры не способны вместить в себя многообразие форм религиозной идентичности. Причем это утверждение справедливо не только для религиозного пространства. Любая статистика – это попытка загнать естественное многообразие поля своего применения в жесткие рамки бюрократических категорий, конструируя таким образом воображаемые сообщества303.
Бюрократическая идентификация диссидентов слабо коррелировала с их самоидентификацией. В свою очередь, чиновники МВД и синодальные бюрократы разрабатывали сложные классификаторы раскольнических движений, всерьез оценивая численность сект с причудливыми названиями вроде «дырники», которые, вероятно, никогда не существовали в реальности304. Кроме того, вне поля статистики оказывались индивиды, формально принадлежавшие к никонианской церкви, но практиковавшие старый обряд. И речь здесь идет не о единоверцах305, а о верующих, которые со времен Петра I не видели противоречия в том, чтобы числиться прихожанами синодальной церкви, оставаясь при этом крипто-старообрядцами306.
Не только нерелевантность аналитических категорий препятствовала сбору актуальной статистики. Значительное количество старообрядцев (в том числе и странники) избегало участия в переписях и регистрациях, считая подобные мероприятия угрозой собственному благочестию307. Некоторые даже решались на радикальные шаги, как, например, старообрядец (не странник) Федор Ковалев, заживо похоронивший 25 человек близ Тирасполя, спасаясь от переписи 1897 года308. Таким образом, даже при самой выверенной и продуманной статистической классификации за ее пределами остались бы те, кто не открыл счетчикам дверь.
Статистика диссидентов – это сложное переплетение логик акторов и методологий, приводившее к полной несогласованности цифр, предоставляемых местной полицией, приходским духовенством и бюрократическими инстанциями МВД309. Очень условно можно выделить несколько подходов в зависимости от актора статистики и его интенций310. Во-первых, статистику диссидентов собирало МВД, организуя с этой целью целые статистические экспедиции в районы распространения «раскола». Так, например, крупнейшие статистические комиссии МВД, проводимые в 1850–1860‑х годах при участии Мельникова и Аксакова, выявили огромный разрыв между официальной статистикой диссидентов и реальным положением дел311. Чиновники – участники экспедиций занимались количественной полицейской социологией, выявляя при помощи расследований и допросов истинное, с их точки зрения, количество раскольников. Этот метод сбора данных старообрядец-экономист Иван Кириллов справедливо называл «разведкой в тылу врага»312.
Во-вторых, данные о раскольниках предоставляли приходские священники и местные полицейские. Эти сведения основывались преимущественно на личных наблюдениях и статистике регулярного непринятия Святых Таинств в никонианских церквях. В-третьих, «частные исследователи» (в основном народники и другие политические активисты313) занимались чем-то вроде включенного наблюдения, путешествуя по империи и проживая в общинах диссидентов. Перепись 1897 года, насчитавшая около 2,2 миллиона старообрядцев и сектантов по всей империи, сделала возможным и сбор данных на основании личных свидетельств диссидентов314. Кроме того, после 1905 года представители отдельных направлений старообрядчества делали попытки количественно оценить численность представителей прочих ветвей Старой веры315.
Стоит ли говорить, что каждая из этих логик сбора данных таила в себе изъяны и может справедливо подвергаться критике за методологическое несовершенство? Кроме того, каждая группа акторов эти подходы вполне справедливо критиковала за сознательное завышение или занижение цифр. Однако, как убедительно показала Ирина Пярт, спорившая с традиционными историографическими представлениями о сознательном занижении государственной статистики диссидентов316, высшие регистры власти модернизирующейся империи совершенно не были заинтересованы в сознательном приуменьшении числа раскольников и сектантов. Напротив, следуя логике «разведки в тылу врага», имперская бюрократия стремилась обладать знанием о точном числе потенциально опасных религиозных элементов317. Как отмечала Пярт, «статистика давала чувство безопасности: тот факт, что религиозное инакомыслие можно измерить, означал, что им можно управлять»318.
Если несовершенство «статистики сверху» можно списать лишь на методологические изъяны, а не на сознательное искажение цифр, остальных исследователей статистики диссидентов легко заподозрить в намеренном завышении или занижении числа раскольников. Так, например, местные чиновники, полиция и приходское духовенство прямо были заинтересованы в преуменьшении реального числа старообрядцев и сектантов, поскольку высокое число диссидентов на подведомственной территории прямо свидетельствовало бы о неэффективности их работы319. Тех, кого Пругавин назвал «частными исследователями», а именно Иосифа Каблица и самого себя, можно упрекнуть в завышении статистики в попытках продемонстрировать глубину общественного раскола имперского общества. Романтизируя диссидентов религиозных, диссиденты политические рисовали головокружительную статистическую динамику пространства несинодальной религиозности: 13–14 миллионов диссидентов Каблица в 1881 году320 стали 20 миллионами Пругавина в 1902‑м321, чтобы стать 35 миллионами Бонч-Бруевича в 1903‑м322.
Вопрос статистики диссидентов кажется принципиально неразрешимым, учитывая многообразие религиозного ландшафта поздней Российской империи, который не в состоянии был бы уловить даже самый разработанный и изощренный методологический инструментарий. Не говоря уже о том, что сборщики информации были однозначно предвзяты в своих намерениях и не ставили перед собой цель запечатлеть это многообразие на бумаге. О числе старообрядцев в поздней империи можно говорить лишь очень приблизительно и только в случае, когда аффилиация индивидов недвусмысленна и выражена в принадлежности к конкретной общине или сообществу. В противном случае можно лишь сказать, что к началу XX века на территории Российской империи проживало от 2 до 20 миллионов старообрядцев и сектантов.
Что касается странников, то внешняя статистика вообще нерелевантна для учета людей, которые выбрали целью своей жизни избегать внешнего подсчета. Государственные и приходские статистики и наблюдения исследователей странников, как и в случае остальных старообрядцев, при сопоставлении слабо коррелируют между собой. Так, в начале 1890‑х в Данилове (Ярославская губерния), будущей столице странников, а на тот момент уже важном центре религиозного движения, по сообщениям местного протоиерея не проживало ни одного истинно православного християнина странствующего323. По данным переписи 1897 удалось насчитать 6076 странников – и 6712 странников во всей империи324. И хотя эта цифра отчасти близка к действительной (хотя и завышена), совершенно невозможно представить, чтобы столь многие из странников или благодетелей добровольно сообщили о своей религиозной принадлежности. Еще один повод усомниться в подобной статистике – то, что последующие попытки посчитать странников оканчивались провалами и не могли продемонстрировать таких стройных и достоверных цифр. Такие попытки встречали на своем пути привычные проблемы подсчета количества религиозных диссидентов – непонимание, кого считать и как.