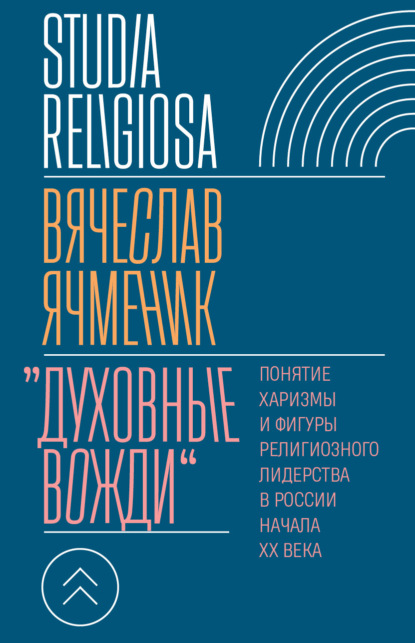Полная версия
Вечный побег. Старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом_clone_2025-12-13
Популярность легенды, хотя и довольно скачкообразная208, пришлась на рубеж XIX и XX веков. В 1895 году в журнале «Мир Божий» была опубликована статья о некой секте «подпольников-душителей», орудующей в лесах Царевококшайского уезда Казанской губернии209. Хотя в статье не упоминались странники, сам ритуал был описан именно так, как он фигурировал в более поздних рассказах о «красной смерти».
В 1897 году в нескольких деревнях Каргопольского уезда Олонецкой губернии были обнаружены человеческие захоронения, предположительно совершенные местными странниками. Однако, несмотря на то что следователи считали достоверным существование ритуальных убийств у странников (хотя и не называли ритуал «красной смертью»), экспертиза быстро пришла к выводу, что смерть погребенных была ненасильственной210. В том же году на скамье подсудимых по обвинению в ритуальном убийстве в Шуе оказались еще двое крестьян-странников (на этот раз в зале суда прозвучало выражение «красная смерть»). Но благодаря усилиям Василия Маклакова, адвоката, а впоследствии видного политического деятеля, странники были оправданы211.
Распространение мифа о «красной смерти» приводило к неожиданным последствиям. Так, в защиту странников выступали люди, от которых трудно было ожидать сочувствия к ним. Синодальный расколовед и профессор богословия Николай Ивановский в труде, опубликованном в 1901 году на основе его лекций в казанском миссионерском Братстве святого Гурия, привел по крайней мере один обвинительный приговор в отношении странников за такое убийство в 1880‑х годах212. Однако Ивановский отвергал сами обвинения, настаивая на легендарности «красной смерти»213. Того же мнения придерживался и Иван Пятницкий, также связанный с синодальным расколоведением214.
Что касается академической этнографии, то светские ученые, напротив, в основном не сомневались в существовании ритуала. В 1883 году народник Александр Пругавин, в частности, был одним из первых, кто не только описал сам ритуал в том виде, в котором он будет фигурировать в поздних легендах, и связал его со странниками (впрочем, не упоминая выражение «красная смерть»), но и настаивал на реальности слухов о ритуальных убийствах в их среде215. В 1904 году в научном «Этнографическом обозрении» была опубликована короткая заметка этнографа Владимира Богданова, описывавшего слухи о «красной смерти», распространенной в среде загадочной секты «голубишников»216 в районе Кинешмы (Костромская губерния). Более того, по утверждению Богданова, исполнением ритуала у «голубишников» занимался специально обученный человек – «душила». Этнограф также выдвигал гипотезу, что «русский культ смерти» может быть связан с индийскими религиозными практиками через «среду наших еще малоисследованных инородцев»217. В ответной статье в том же журнале другой в будущем известный этнограф Дмитрий Зеленин выступил в качестве эксперта, заявив, что ритуальное удушение распространено именно среди странников218.
Пожалуй, самый скандальный эпизод с обвинениями странников в ритуальных убийствах относится к 1911 году. В октябре этого года в Саратове был найден труп Ивана Кабанкина, извозчика, пропавшего месяц назад. 19 ноября 1911 года в «Саратовском вестнике» была опубликована небольшая статья о деле Кабанкина. По данным «Вестника», в убийстве подозревался сын покойного, 40-летний Тимофей Иванович. В статье также утверждалось, что убийство носило ритуальный характер, то есть было так называемой «красной смертью» – обычаем «богоугодного» удушения, приписываемого странникам, к которым принадлежали Кабанкины219. Буквально на следующий день расследование было закончено – патологоанатом не обнаружил признаков насильственной смерти Кабанкина220. Однако волна газетных статей, вызванная обнаружением трупа Кабанкина, быстро распространилась по всей империи.
Странники внезапно стали позднеимперской сенсацией и оказались в центре скандала, сравнимого по масштабам с их «открытием» в Сопёлках. И, разумеется, эта популярность не несла с собой ничего хорошего. Газеты – от либеральных «Биржевых ведомостей» до националистического «Южного края» – пугали читателей распространением опасной секты душителей. Душители «открывались» в Забайкалье, на Алтае, в Перми, Сарапуле, Казани и Шуе221. Журналисты описывали воображаемую секту как нечто «чудовищное, кровавое и бесчеловечное», называя главными ее «основаниями» убийства стариков и детей222. Паника, вызванная слухами о распространении ритуальных убийств среди странников, легла на благодатную почву разворачивавшегося «дела Бейлиса»223. Однако эта истерия имела важную отличительную особенность. В отличие от Бейлиса или мултанских удмуртов, обвиненных в ритуальном убийстве русского крестьянина (1892–1896)224, в газетных публикациях шла речь об этнически русских странниках, внешне неотличимых от русских обывателей.
С одной стороны, такая особенность была призвана испугать читателя еще сильнее, но, с другой, – признание очевидной русскости сектантов для некоторых публицистов послужило основанием для попыток оправдать странников. Парадоксальным образом, два автора статей о Кабанкиных – большевик Бонч-Бруевич и, казалось бы, его идеологический оппонент националист Кромов в статьях, вышедших по горячим следам саратовского происшествия, пришли к одинаковым выводам: странники – русские и поэтому не способны совершить ритуальное убийство. Более того, в публикации в газете «Столичная копейка» Бонч-Бруевич проговорил это совершенно прямо: «Я решительно не представляю возможности существования в России, среди русского народа, ритуальных убийств. Этого не может быть»225. Аргументация Кромова строилась, впрочем, на несколько других основаниях. Он, в свою очередь, указывал на то, что обвинения странников в ритуальных убийствах – это попытка «еврейской прессы» переключить внимание публики с «дела Бейлиса» на русских странников. В статье в газете «Полтавские ведомости» от 9 декабря 1911 года Кромов заявлял:
…многочисленные и многообразные защитники евреев бросят нам в лицо существование изуверских сект у нас, русских. Они скажут: какое вы имеете нравственное право обвинять евреев в том, в чем повинны сами, повинен ваш народ226.
Кабанкины так никогда и не предстали перед судом по обвинению в «красной смерти», а интерес конкретно к этому сюжету у газетчиков ослабел довольно быстро. Возможно, это говорит о том, что страх перед крупной подпольной организацией душителей не нашел отклика в сердцах читателей. Что, впрочем, не мешало историям о «красной смерти» время от времени появляться на страницах прессы.
В феврале 1915 года в деревне Бызова Ялуторовского уезда (Тобольская губерния) полицией были обнаружены несколько бездокументных человек, назвавших себя «истинно православными христианами». Как сообщал представитель тобольского губернатора в Департамент духовных дел, вскоре после прибытия этих людей в Бызовой исчезли двое крестьянских детей, чьи трупы были вскоре обнаружены в погребенными в стае – помещении для скота. Короткое расследование пришло к выводу, что дети умерли от скарлатины, а перед смертью над ними был совершен обряд крещения: по-видимому, чтобы позволить безнадежно больным умереть странниками227. 25 февраля 1915 года Петербургское телеграфное агентство распространило короткое сообщение: «Ялуторовск. 25 февраля. В деревне Бызова обнаружена секта душителей. Проводится следствие»228.
Истории с сектой душителей из Ялуторовска уже не суждено было стать имперской сенсацией. 4 марта в «Биржевых ведомостях», три с половиной года назад пугавших обывателей таинственной сектой душителей, выходит статья Владимира Бонч-Бруевича, посвященная этому эпизоду. Эксперт начинает свой отклик так:
Официальное Петербургское телеграфное агентство оповестило весь мир, что мы, русские, действительные дикари и что у нас существует какая-то секта душителей!229
Далее Бонч-Бруевич приводит аргументы в пользу легендарности практики ритуального удушения, попутно вспоминая случай Кабанкина и надуманное «дело Бейлиса» и почему-то путая странников с другими старообрядцами, Спасова согласия230. В заключение Бонч-Бруевич пишет: «Надо твердо знать, что век каннибальства давным-давно и безвозвратно миновал русский народ»231.
За четыре года, прошедшие со смерти Ивана Кабанкина, риторика Бонч-Бруевича стала заметно жестче и бескомпромисснее. Однако изменилась и социальная реальность империи, в которой странники становились нормальными. Как показывал Эрик Лор, Первая мировая стала мощным катализатором процессов национализации Российской империи и перекраивания ее по воображаемым этническим границам232. Эта динамика нашла свое отражение и в газетных публикациях об истории в Бызовой. Странники превратились в хоть и своеобразную, но все-таки часть воображаемого русского национального пространства, которую важно защитить от внешней угрозы. Ведь нападение на странников – это нападение на русский народ. 13 марта 1915 года журналист Эр. Печерский (Эразм Павчинский) в статье «Секта душителей» в газете «Раннее утро» пишет о событиях в Бызовой:
Мы глубоко возмущаемся той гнусной ложью, которая распускается о нас немецкими газетами. И в то же самое время мы клевещем на самих себя: распространяем о себе нелепые позорные сказки. Зачем? Во имя чего?233
В том же 1915 году в местные полицейские управления был разослан циркуляр МВД о мерах по борьбе с сектантами, содержавший список вредных сект. На этот раз исключительно протестантских, которые по логике документа были связаны с пропагандой прогерманских настроений в условиях Первой мировой войны234. Разумеется, странников не было в этом списке. Империя стремительно национализировалась, а религиозная идентичность ее граждан уступала первенство этнической235. В этой ситуации странники чаще становились объектом внешней нормализации и оказывались скорее русскими, чем какими-то мрачными сектантами.
Александр Эткинд236 в своих работах отмечал, что для позднеимперских публичных сфер сектанты были олицетворением коллективного Другого237. Однако, похоже, есть причины для того, чтобы подвергнуть сомнению такой обобщающий взгляд, поскольку к 1910‑м годам становится ясно, что национализация если и не сделала странников частью коллективного Я, то, по крайней мере, могла способствовать их дискурсивной нормализации. Взгляд на место сектантов (и странников, в частности) в бинарной системе «Я – Другой» в поздней империи становился более сложным, чем предполагал Эткинд.
Конечно, в начале XX века представление о русской национальности все еще было тесно связано с никонианским православием238, а понимание позднеимперскими чиновниками, журналистами и политиками связи между категориями национальности и религии действительно выглядело невероятно сложным и запутанным. Пол Верт отмечал, что, с точки зрения чиновников, отвечавших за религиозные вопросы, религиозная принадлежность никогда не была полностью отделена от национальности, а сама империя так и оставалась конфессиональным государством до самого 1917 года239. И все же даже при формальном сохранении конфессиональной организации империи эта ситуация в начале XX века уже кажется весьма шаткой. По мере модернизации и национализации политического режима для части публичных акторов стало очевидным, что ситуация, при которой в империи существует значительная группа этнически русских старообрядцев, чей правовой статус существенно отличается от статуса их русских соседей-никониан, ненормальна. Процесс общественного признания того, что быть русским не обязательно означает быть синодальным православным, развивался медленно, противоречиво, но неумолимо. Конфессиональная империя доживала свой век.
«Красная смерть» с самого начала была плодом воображения публицистов и расколоведов. Общественности так никогда и не было предъявлено ни одного убедительного доказательства реальности ритуала. Тем не менее легенда оказалась чрезвычайно живучей и даже пережила старый режим, так что уже советские юристы были вынуждены доказывать ее несостоятельность240. Кроме того, сами странники, конечно, не могли безучастно слушать подобные обвинения. Они, как будет показано в главе 2, болезненно воспринимали свою репутацию «душителей», и попытки оправдаться стали для них способом добровольно открыться внешнему миру.
Странники как угроза государствуПодчеркнутая неприязнь странников к высшим уровням имперской власти тоже стала частью их внешнего образа. С самого «открытия» антигосударственная проповедь странников быстро стала объектом критики со стороны синодальных и лоялистских экспертов. Об этом крайнем скептицизме по отношению к государству сообщали чиновники, общавшиеся со странниками, уже начиная с 1850‑х годов241. В дальнейшем митрополит Филарет (Дроздов) будет одним из ярых критиков именно этой составляющей страннической догматики242. Кроме того, те же авторы, что обвиняли странников в изуверстве, настаивали и на подрывной (в антигосударственном смысле) природе их доктрины. Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» перечислил в ряду негативных особенностей сообщества изуверство и нежелание подчиняться властям243. И если те, кто писал о странниках, спорили друг с другом о «красной смерти», половой распущенности и убийстве младенцев, которые якобы были распространены среди них, то в том, что бегуны бегут именно от государства, до определенного времени никто не сомневался.
Этот образ народных борцов с монархическим режимом привлекал, разумеется, политических диссидентов. Тут нельзя не согласиться с Александром Эткиндом, что народники и большевики не только романтизировали «сектантов», но и идеологизировали их244, стремясь разглядеть в их богословии знакомые политические черты. Афанасий Щапов видел в странниках бунт против закрепощения245. Иосиф Каблиц, признавая, что в среде странников есть очень разные взгляды на монархию246, все же с энтузиазмом описывал, как странники гордо не снимают головных уборов в присутствии чиновников247. Владимир Бонч-Бруевич в подборках газетных публикаций о религиозных меньшинствах подчеркивал карандашом упоминания о враждебности странников властям248.
Разумеется, антимонархизм странников и политических диссидентов имел совершенно разную природу. Последние изо всех сил стремились разглядеть союзников в первых, но странники не искали этого союза и, вероятно, на этом этапе не очень понимали, чего хотят от них народники и большевики. И все же авторы, отмечавшие страннический антимонархизм в политико-романтическом или политико-алармистском ключе (как это делали синодальные и лоялистские эксперты), сходились в том, что он один из столпов онтологии странников.
Некоторые попытки проблематизировать бескомпромиссность страннического отношения к властям относятся уже к 1910‑м годам. Образцом такой попытки стал доклад, поданный прокурором Казанской судебной палаты Владимиром Бальцем министру юстиции в 1912 году249. Формальным поводом для доклада стало прокурорское расследование предполагаемого эпизода «красной смерти» в Казанской губернии. Бальц, как и многие его предшественники, убедившись в недостоверности легенды о ритуальном убийстве, обратился к министру с предложением о полной легализации странников ввиду их непричастности к какому-либо изуверству. Особенно он акцентировал внимание на том, что доктрина странников по сути не является антимонархической. С точки зрения прокурора, это подтверждается тем, что благодетели странников вполне законопослушны, служат в армии и не были замешаны в революционных беспорядках во время первой русской революции в 1905–1906 годах. Более того, Бальц напрямую говорит, что странники – своего рода монархисты, они молятся пусть и не за императора, но за его возвращение «к древнему благочестию»250.
Можно было бы предположить, что прокурора волнуют вопросы религиозной терпимости в целом, если бы не тот факт, что за два года до этого Бальц принимал активное участие в уголовном преследовании ваисовцев, представителей радикального религиозно-политического движения мусульман Поволжья, существовавшего в регионе с 1860‑х по 1920‑е годы251. Таким образом, Бальц выделял странников, противопоставляя их «истинным антигосударственникам» ваисовцам. Однако, хотя министр и согласился с доводами Бальца, эта бюрократическая переписка не имела для странников никаких юридических последствий. Правовое положение странников с момента их «открытия» и до 1917 года оставалось слабо регламентировано, а представления об их крайнем антимонархизме доминировали в дискуссиях о них. Впрочем, после 1917 года они и сами научились извлекать из этих представлений пользу.
Обживая «серые зоны»
На протяжении всего периода с 1850 по 1917 год образ странников в публичном и экспертном дискурсах за вышеупомянутыми исключениями оставался в целом довольно мрачным, если не демонизированным. И все же подобных крайне предвзятых в своей негативности оценок было мало для того, чтобы законодательно допустить преследования странников лишь по факту принадлежности к вероучению, поставив их в одинаковое положение со скопцами. С точки зрения законодателей между странниками и скопцами все же была огромная разница. Если вокруг мнимого изуверства странников всегда возникали дискуссии и споры, насчет изуверского характера вероучения скопцов сомнений у экспертов не возникало. Вероятно, единственное законодательное положение, в тексте которого между ними был поставлен знак равенства, – это правила о производстве дел о совращении в раскол, изданные МВД в 1866 году252. Так, статья 6 этого документа предполагала некоторые послабления наказания для старообрядцев, обратившихся в никонианство в период проведения следствия. Однако в примечаниях к ней было указано, что послабления не распространяются на скопцов и странников.
Впрочем, отсутствие законодательных актов, прямо криминализирующих принадлежность к религиозному движению, не означало, что странники существовали в правовом поле. Еще в постановлении МВД от 23 октября 1859 года со ссылкой на повеление Александра II предписывалось избегать применения к странникам «законоположений о раскольниках», а наказывать их лишь за беспаспортность и бродяжничество253. Эта же позиция была подтверждена и в 1891 году в официальном обращении Синода к министру внутренних дел, в котором подчеркивалась необходимость продолжать преследование странников согласно уголовным положениям о бродяжничестве254. Логика преследования бегунов не за принадлежность к вероучению, а за гражданские преступления оказалась крайне жизнеспособной. Так, с конца 1850‑х до 1917 года обнаруженные в разных регионах Европейской России и Сибири странники формально не судились за свое вероисповедание, зато подвергались арестам и представали перед судом за неимение паспортов255, отказ платить подати256, содержание притонов257, незаконные захоронения258, антиправительственную пропаганду259 и совращение в раскол260. Иными словами, человеку не запрещалось быть странником, но запрещалось делать то, что делает странника странником.
Последняя и самая продолжительная попытка законодательной криминализации странников была предпринята уже в самом начале XX века. В 1899 году обсуждение этого вопроса было инициировано олонецким губернатором, обеспокоенным распространением странников в своем регионе. Губернатор обратился к министру внутренних дел с предложением признать секту особенно вредной и карать ее последователей, как и скопцов, по статье 203, то есть по факту принадлежности подозреваемого к религиозному движению. В результате бюрократических итераций продолжительностью в девять лет Министерство юстиции в 1908 году приняло решение о нецелесообразности применять в отношении бегунов статью о принадлежности к изуверному учению. По логике чиновников министерства, постановления о кощунстве (ст. 74) и наказуемой пропаганде (ст. 90)261 достаточно «охраняют православную веру», а статьи 203 и 84 (совращение в раскол) «могут быть применены и без специального о том предписания закона»262. Странники остались в своем законодательном лимбе.
Невозможно выделить из общей массы подданных Российской империи, осужденных за бродяжничество или беспаспортность, непосредственно странников, а следовательно, и оценить, насколько интенсивным было преследование странников со стороны имперских правоохранительных органов, также достаточно трудно. Очевидно, что существовала определенная тенденция если не к законодательной, то, по крайней мере, к фактической нормализации странников. Как уже говорилось, империя стремительно национализировалась, перестраиваясь по национальному, а не религиозному принципу. Результатом этой трансформации становилась плавная дискурсивная нормализация странников. И все же по состоянию на последние годы существования старого режима хотя сами странники все чаще воображались как часть конструирующегося национального пространства, все, что делало их странниками, едва ли воспринималось законодателями как норма.
Все эти дискуссии о странниках до определенного времени оставались монологичными. Сами бегуны не стремились участвовать в них, по-прежнему говоря с высшими уровнями имперской власти языком эсхатологии и побега. В последнюю четверть XIX века статус старообрядцев постепенно претерпевал изменения в сторону более широкой гражданственной инклюзии. В 1874 году старообрядцам позволили заключать браки при условии регистрации в полицейских метриках263. В 1883 году им было гарантировано право занимать общественные должности и получать паспорта на общих основаниях264. Однако эта довольно умеренная либерализация религиозной политики в отношении старообрядцев265 все же требовала от последних ответных действий. В 1874 году таким ответным действием могла быть готовность регистрировать эти самые браки в полиции, а в 1883‑м – принимать эти самые паспорта. Стоит ли говорить, что для странников и то и другое было гораздо менее приемлемо, чем сохранять свой режим существования в «серой зоне» между почти легализированными старообрядцами и почти полностью криминализированными скопцами?
Эта «серая зона», впрочем, требует некой концептуализации. Джейн Бербанк во влиятельной статье о российском правовом плюрализме описывала легальную систему старого режима как «имперский правовой режим»266. Такой режим предполагал существование сложной зонтичной правовой матрицы, которая обеспечивала доступ к правовой системе широкому кругу граждан и подданных империи. И русский крестьянин, обращающийся в волостной суд, и кавказский или центральноазиатский мусульманин, обращающийся в исламский суд, оказывались интегрированными в единую, но многообразную имперскую правовую систему, а благодаря ей приобщались к институту гражданства как таковому. В случае со странниками пребывание в «серой зоне» означало существование вне этой инклюзивной правовой системы, то есть вне границ гражданства. Более того, отказ от соприкосновения с имперским правовым режимом был для них в значительной степени добровольным и полностью соответствовал их общей антигосударственной ориентации. И ярче всего эта добровольность проявилась, пожалуй, в последние 12 лет перед революциями 1917 года.
В 1905 году увидел свет указ «Об укреплении начал веротерпимости», фактически легализовавший практически все направления Старой веры, допускавший отпадение от православия и переход в другие конфессии, в том числе в старообрядческие сообщества267. Как и предыдущие меры по постепенной либерализации религиозной политики, «Указ» требовал ответного стремления к диалогу. Введенные 17 октября 1906 года «Правила о порядке устройства последователями старообрядческих согласий общин, а также правах и обязанностях сих лиц» предписывали конкретные процедуры регистрации общин в местных органах власти268. Несмотря на то что «Указ» 1905 года предполагал, в том числе и для странников, теоретическую возможность легального существования, необходимость взаимодействовать с государством в очередной раз оказалась для них недопустимой. Более того, по донесениям местных властей, «Указ» воспринимался странниками как «антихристова ловушка», расставленная властями с целью искусить верующих легализацией и заставить отойти от привычного режима побега269. Хотя Алексей Беглов, изучавший историю подпольного православия в межвоенном СССР, подчеркивал нелегальность как неотъемлемую черту подполья270, это, пожалуй, было не совсем так в случае со странниками. Подпольность была во многом их собственным выбором.
В итоге странники существовали в «серой зоне» на границе легального пространства. Причин того, что они оказались в такой подвижной правовой ситуации, было несколько. Во-первых, публичные и экспертные дискурсы о них хоть и не воплощались в конкретные законодательные меры, все же создавали стигматизирующую атмосферу в чиновничьих кабинетах. Вырезки газетных статей о «красной смерти», например, всерьез прикреплялись к документам об обсуждении легального статуса бегунов271. Во-вторых, сама амбивалентность такого положения оставляла широкое пространство для произвольного правоприменения. Странников судили не за то, что они странники, а за то, что они делали то, что делают странники. Впрочем, самым важным фактором, осложняющим их правовое положение, похоже, стало последовательное идеологическое неприятие странниками любого взаимодействия с высшими имперскими чиновниками. Таким образом, существование в «серой зоне», несмотря на все законодательные повороты, в определенной степени оказалось доктринально мотивированным выбором самих странников. Синодальный вологодский миссионер Иван Полянский в своих записках о спорах со старообрядцами резко, но, кажется, точно охарактеризовал эту добровольную полулегальность таким образом: