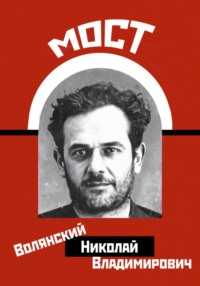Полная версия
Шестнадцать
Картина на стене изображала очень худое дерево, возможно, голодное, с золотой аурой вместо листьев. В её нижнем углу кто-то читал, сидя спиной к зрителю, – безликий и поэтому особенно тревожный. На подоконнике стоял фарфоровый лебедь с облезшей шеей, у клюва была капля воска – будто он только что целовал свечу.
Он появился сразу, как только она переступила порог – точно его не было до того, как она пришла. Просто сложился из тени, воздуха и запаха жасмина.
На нём были серые штаны, слишком правильные, чтобы быть удобными, и чёрная водолазка, в которой шея казалась длиннее, чем требуется человеку. Кожа – светло-жёлтая, как у тех, кто пьёт много зелёного чая и никогда не матерится. Глаза – тёпло-чёрные, блестящие, как промасленные пуговицы. Волосы – густые, стянуты в низкий узел, почти монашески. Возраст – от тридцати до бесконечности.
У него был один из тех голосов, которые не звучат – просто происходят. Как капля, упавшая в воду.
Он показал ей на кресло. Белое, угловатое, с видом на стену. Повернув голову вбок, она увидела стеклянную полку с тремя камнями – розовый кварц, лазурит и кусочек вулканической лавы. Наверху, чуть в стороне, стоял маятник: металлический, с крошечным вкраплением янтаря. Он блестел, как мысль на границе сна.
Он предложил попить. Надя отказалась. Тогда он предложил начать.
– Как проснётесь – мы проговорим. И найдём решение – сказал он. Почти шёпотом. Будто стряхивал пыль с чужой судьбы.
Она кивнула, хотя внутри у неё всё хихикало, как на уроке биологии в седьмом классе. Но внешне – сплошной дзен. Её ладони были сухими, но изнутри их словно облизывало что-то тёплое. Настолько странное спокойствие, что захотелось встать и выбежать, но ноги уже были под креслом – аккуратно, точно чужие.
Маятник начал двигаться. Медленно. Не как часы – как лезвие, примеряющееся к артерии. Она закрыла глаза. Медленно. Будто ныряла в собственное отражение.
Падение началось с тишины.
ГЛАВА 5. ГОРОД ПОД КОЖЕЙ
Надя сперва подумала, что умерла.
Не от боли – от изнеможения, будто ткань жизни где-то протерлась в шве, и она, растрепанная, высыпалась наружу, как мука из старого мешка. Её не было – и в то же время она осталась.
Тело исчезло. Кто-то взял его, как пальто, снял и аккуратно повесил на спинку чужого стула.
Она подумала об этом спокойно, без трагедии. Как о факте. Словно выплыла – не вышла, а именно выплыла – из московского тела. Из тревожной суеты, из усталости. Из её Гали, которая умеет рисовать звёзды и не умеет держать вилку. Из Паши, который курит в подъезде. Из Никиты и Даши – её маленьких пчёлок, что бесконечно спорят по дороге в школу. Из Макса. Из Виктора. Всё осталось – там, за горизонтом.
А здесь – камень и жар.
Иерусалим.
Не святой. Не благостный. Телесный. Горячий. Шероховатый.
Город, где запахи сталкиваются, как люди на узких улицах: масло и навоз, мёд и рыба, человеческий пот и благовония. Город, где кровь не прячется – она капает с мяса на прилавках, засыхает под ногами, стекает по щекам ослов, побитых, изнурённых, с рваными сбруями и сломанными копытами.
Сквозь арку прошла римская трига – латы, золото, лошади. Двое солдат молчали. Но тень шла одна – будто не люди, сама власть империи бросала себя в лицо городу.
Люди расступались. Старик плюнул вслед. Одна женщина подняла глаза к небу и прошептала: «Адонай, помилуй» – хотя и сама знала, что уже поздно. Мир был разорван, и все знали это.
Надя стояла на пересечении улиц. Камень под ступнями был тёплым, как ладонь больного. Сквозь тонкие кожаные сандалии она ощущала жар – словно сама земля дышала ей в пятки. Солнце било не сверху, а со всех сторон, будто их было несколько.
И тут же – языки. Слева кричали торговцы – арамейский. Справа римляне в доспехах – латынь звучала, как удар железа по камню: жёстко, повелительно. У лавки спорили двое – греческий, певучий, как волна. У таверны две женщины с корзинами – армянский, сиплый, быстрый, как пламя на ветру.
И Надя всё понимала. Ей стало страшно – она не знала, как справиться с этим знанием.
Словно кто-то вживил ей древний слух, вложил в кости эти интонации. Или – может быть – она всегда знала. Просто забыла.
Она смотрела, растерянная, на белёные стены, на порезы от кинжалов, на следы пальцев в глине, на процарапанные гвоздём надписи: «Элиазар – лжец», «Рахиль – нечиста», «Осанна Сыну Давидову», и чуть ниже – детская ладошка, оставленная, как вызов смерти.
И она могла читать. Понимала всё, всё.
И тогда он подошёл. Не вышел, не появился. Просто – встал рядом. Это был Иуда. Она не объясняла себе, как узнала это. Просто знала.
– Да, это я, – сказал он, будто услышал её мысль.
Он был молод, но с лицом уставшего. Из тех, кто не спит не потому, что не может, а потому что боится того, что увидит во сне. Одежда простая, пыльная, как день. Кожа – смуглая. Глаза – обычные. Но в них – тишина, не от умиротворения, а от того, что внутри всё давно сгорело.
– Ты здесь, – сказал он просто.
Надя хотела ответить, что ничего не понимает, что это сон, психоз, инсульт. Но язык не повернулся. Только мысль: где дети? Где Паша, где Никита, где Даша? Где Галя, которая плачет, если кто-то громко чихнёт?
– Они живы, – сказал Иуда, не поворачиваясь. – Время здесь – не прямое. Оно гнётся.
– Что это? – хрипло спросила она.
Он медленно пошёл вперёд. Она пошла за ним.
Вошли в переулок. В тени сидела женщина, обматывая ноги тряпками. Мальчик с разрисованным лицом продавал финики. Кошка прошла по низкой стене и исчезла – как мысль, которую не осмелились подумать.
– Ничего не меняется, – говорил Иуда, не оборачиваясь, – люди любят простое.
Он говорил медленно, будто слова были камешками, которые он перекатывал на языке.
– Свет – добро. Тьма – зло. Предатель – плохой. Герой – праведный.
Он остановился.
– Это – удобно. Но это – ложь.
На стене вдруг вспыхнул огонь: кто-то зажёг лампу. Она смотрела на него, как на преступника. Так ведь учили: Иуда – змея. Продажный. Слепой. Серебро. Поцелуй. Петля.
– Я не предал, – сказал он, уже мягко. – Я исполнил.
Он замолчал, будто взвешивал следующее слово.
– Ты – мать. У тебя есть боль, и ты молчишь. У тебя страх – и ты говоришь: надо потерпеть. Ты похожа на меня больше, чем думаешь.
– Ты тоже однажды сожгла себя – ради других.
Они шли дальше. По рынку. Старик продавал голубей. Девочка пела псалом. Кто-то ругался с римским сборщиком. Всё было осязаемо. Камни под ногами были тёплые. В животе шевельнулся голод.
Они вошли в низкую таверну. Внутри пахло нутом, уксусом, мясом, дымом, потом. На стенах – вырезы, как в школьном туалете: «Илия – вор». «Господь придёт». «Ты не знаешь, кто я».
– Ешь, – сказал он.
– Это слишком реально, – прошептала она.
– Потому что это и есть настоящая реальность. Та, что под вашей.
Он кивнул:
– Под бетонными остановками. Под пластиковыми игрушками. Под асфальтом. Под смартфонами и тюльпанами. Вот она. Ткань.
Надя ела. Еда была грубая, но вкусная. Вкус жареной кожи рыбы заполнял рот. Хлеб был тёплый, с угольками. Вино обжигало язык. Рядом сидели трое мужчин. Один кашлял. Другой смеялся. Третий смотрел на неё, как на странное явление.
– Учитель был не богом среди людей, – сказал Иуда. – Он оказался человеком среди богов.
Пауза.
– Он говорил не для толпы. Он говорил, чтобы погибнуть. И я… Иуда опустил голову. …я был тем, кто освободил его от тела. Надя смотрела на него – и не чувствовала страха. Впервые – стыд. Потому что он был живой. А она – в своей жизни – была мёртвой.
– Почему ты говоришь мне это? – прошептала она.
Он взял бокал вина, медленно поднял его к губам, почувствовал тепло напитка, как жизнь, струящуюся по венам. Его глаза на миг встретились с её, полные усталой силы.
– Потому что ты, всё равно, не поверишь.
Он усмехнулся.
– А значит – ты готова услышать правду.
И тут на стене – над дверью – вспыхнул свет. Кто-то зажёг светильник. Пламя дрогнуло, и на стене, на старой штукатурке, всплыли буквы, почти невидимые днём. Арамейские:
«Иногда тьма – верней света. Потому что тьма – не врёт». Иуда посмотрел на неё.
– Пойдём, – сказал он. – Ты хотела увидеть – я покажу.
И они вышли на улицу, где уже опускался вечер, где город шептал, пел, умирал и снова рождался, и где шаги сандалий звучали, словно биение сердец по камням.
ГЛАВА 6. ОН СТОЯЛ У ДОРОГИ
Они шли долго. Или не шли вовсе.
Сначала был Назарет. Улицы – кривые, как следы снов. Стены – пыльные, в желтоватых подтёках, будто давно забыли, чьи они и зачем. Мальчишки катали обруч – жёсткий, звенящий, словно выдранный из старой корзины. Женщины трясли ковры и глядели исподлобья, как будто Надя несла в себе что-то неуместное.
Они прошли мимо колодца. Там сидела девочка с выбитым передним зубом и коркой хлеба в руках. Надя глянула на неё – и на мгновение ощутила, будто девочка её узнала. Но как? Откуда? Глаза девочки у колодца снова всплыли в памяти – те же, что смотрят на неё сейчас. Но изнутри.
Потом был Капернаум. Или что-то, что звали этим именем.
Там были лодки. Облупленные. Верёвки, как змеи, сохли на камнях. Мужчины чинили сети, бормоча себе под нос проклятия и цены на свой улов. Одна женщина продавала рыбу, чья голова напомнила Наде лицо её покойного дедушки – надутый рот, глаза стеклянные.
– Учитель любил здесь останавливаться, – сказал Иуда, – но никогда не оставался.
– Почему?
– Потому что вода всегда уходит.
Пространство уже не подчинялось логике – оно было, как дыхание в полусне: врывалось и исчезало. Капернаум растворился, уступая место пустынной тропе. Камни стали больше. Тени – острее. Тишина обострилась так, будто кто-то удалил из воздуха сам звук.
– Где мы? – спросила Надя, но Иуда не ответил.
Он просто шагал. Тихо, с опущенными плечами, как тот, кто считает шаги до расплаты.
Они оказались у дороги. Пыльной, размытой солнцем. Дерево стояло поодаль. Маленькое. Почти голое. С такой кроной, как у человека, который уже принял, что волосы не вернутся.
Под деревом стоял Он.
Не окружённый светом. Не в сиянии. Не с глазами, полными звезд.
Обычный. Усталый.
Он смотрел в землю. Или – вглубь. Словно искал в камнях что-то последнее. Необходимое.
– Это был первый раз, – тихо сказал Иуда. – Я увидел его не в храме. У дороги.
Надя замерла.
Он стоял – и не звал. Не ждал. Не обращал внимания. Но его присутствие было таким сильным, что мир вокруг перестал быть фоном. Он стал сценой – для одного взгляда.
Иуда подошёл.
– Ты уже идёшь, – сказал Он. Просто.
Ни призыва. Ни обещаний. Ни огня.
Только взгляд. Такой, как бывает у врачей, когда диагноз ясен, но сказать его нельзя.
– Он никогда не просил, – сказал Иуда. – Он смотрел – и ты уже знал, что отступить нельзя.
Надя молчала. Внутри было что-то знакомое. Что-то, что она чувствовала, когда рожала Гальку: врач сказал, что всё в порядке, а она вдруг заплакала, сама не зная почему. Когда Макс вышел, не обернувшись, – и в его спине было что-то чужое. Когда Даша вцепилась в неё у школы и шептала: «Ты ведь придёшь? Правда?» – а у неё была встреча, срочная, важная.
Это было то же чувство: будто любовь проходит мимо. Молча. Навсегда.
Он не делал чудес. Он просто был. И это – было чудом. Она хотела спросить: «Где ты был, когда я просила?» – но рот не раскрылся – будто был зашит изнутри. В такие моменты даже обида кажется богохульством.
– Он не брал учеников, – сказал Иуда. – Он притягивал тех, кто уже был готов сгореть.
Пауза.
– Я не был его учеником. Я был его тенью.
Надя почувствовала – в горле встало что-то горячее. Не слёзы. Не страх. Почти зависть.
– Ты был с ним с самого начала?
– Нет, – ответил Иуда. – Я был с ним до конца. А это – куда больнее.
Он сел у дерева. Земля была горячей, как жертвенник.
– Он был красив? – спросила Надя.
– Он был точным. И это – самое страшное.
Ветер поднял пыль. Где-то закричала птица – словно вспомнила, что не всем дано взлететь.
– Когда я смотрел на него – я знал, что погибну. Но я хотел остаться. Потому что погибать рядом с истиной – чище, чем жить вдалеке от неё.
Пауза.
– Он был человеком. Не сказкой. Не светом. Он знал цену каждой боли. Он не утешал – он показывал рану. И не зашивал её – он говорил: «Вот она. Живи с ней. Или умри с ней. Но не прячь.»
Надя села рядом. Её руки бессильно сжали колени.
– Он уже знал, кем ты станешь?
Иуда кивнул.
– Он знал всех. Но меня – иначе. Не глубже. Точнее.
В его глазах мелькнула усталость, но голос остался твёрдым.
– Он выбрал меня не потому, что я был слаб. А потому, что я был способен выдержать чужую ненависть.
Он посмотрел на неё. Внимательно. Не как на женщину. Как на правду, которую нельзя игнорировать.
– Ты называешь это слабостью. Но это не слабость – сказал он. – Это то, чем станешь, когда узнаешь, для чего выбрана.
Надя не знала, что сказать. Это было похоже на исповедь, но без священника. Или на письмо, которое никто не прочтёт, потому что оно вшито под кожу.
Иуда достал из-за пояса маленький хлеб – пресный. Надломил. Хруст – и трещина в чём-то живом.
– Он называл нас хрупкими сосудами. И знал, кто треснет первым.
Надя взяла кусочек. Молча. Её пальцы дрожали. Он продолжил, глядя в небо, где уже выцветала голубизна:
– Быть первым – легко. Быть последним – трудно. А быть тем, кто переворачивает чашу – невыносимо.
И тут – тишина. Почти физическая. Давящая. В ней – всё.
Он был. Он смотрел на неё. И в этом взгляде – не обвинение. Не укор. Не «почему». А – будто:
– Я знал, что ты однажды дойдёшь. Теперь – смотри.
ГЛАВА 7. ОН ВЫБРАЛ МЕНЯ
Надя стояла в полумраке, растворённая в толпе. Время застыло. Слова и движения ползли в воздухе, как вязкие волны. Мир дышал медленно – будто боялся вдохнуть слишком глубоко. Её душа напрягалась, стараясь ухватить скрытый смысл, который ускользал от всех, кроме неё
Учитель говорил, что будет предан – тихо, почти шёпотом – словно боялся нарушить священную тишину, повисшую над ними. В Его голосе не было ни гнева, ни жалости – лишь неизбежность, роковая и спокойная, как смерть, от которой не укрыться. И всё же, хотя слова звучали ясно, они почему-то не достигали самого сердца. Оставались звуками. Тенью того, что должно было случиться.
Пётр сжимал кулаки. Лицо его налилось кровью, глаза – тоже. Он не мог принять ни мысль о предательстве, ни смерть, ни отказ от власти. В его отказе не было наивности. Только страх – такой, от которого человек зашивает себе глаза, лишь бы не увидеть то, что уже идёт к нему.
– Нет! – кричал Пётр, но не всему миру, а самому себе. – Нет, никто из нас не способен на такое!
Но Надя видела: в его глазах трещал лёд – страх признать, что даже самые близкие могут предать.
Ученики спорили. Кто будет первым? Кто займёт место по правую руку? Кто – лавры, кто – власть? Их лица светились нетерпением, в голосах звенела гордыня. Они говорили о будущих коронах, забывая, что пока они – всего лишь идущие. Царство далеко. А цена – почти непомерна.
В стороне, почти незаметный, стоял Иуда. Неподвижный, холодный, как камень в глубокой воде. Его глаза блестели тёмной, странной мудростью – и казалось, он знал то, что было скрыто от остальных. Он наблюдал, впитывал каждое слово, каждое движение – не с горечью, не с раскаянием, а с тяжёлым, неподъёмным пониманием. Не спокойствием – чем-то глубже, глуше.
Когда над толпой пронёсся гул сомнений, Иуда подошёл к Наде. Его голос был тихим, но в нём звучала тяжесть веков:
– Они не услышали, – сказал он. – Потому что слушали ушами, а не внутренним страхом.
Он говорил не просто о том, что слова прошли мимо – он говорил о глубокой, первичной немоте, о том, что никто из них не мог заглянуть в бездну, куда заглянул он. Никто не мог принять истину, потому что она требовала смирения и одновременно была ужасна.
– Учитель не собирался становиться царём, – продолжил Иуда. В его голосе звучала горькая уверенность. – Он собирался умереть. Не как жертва, не как мученик, которого воздвигают на крест, а как зерно – чтобы дать жизнь тем, кто пойдёт за ним. Чтобы каждый мог вкусить эту смерть и обрести жизнь.
Надя смотрела на него, и в сердце её зародился холодный вопрос – мог ли Иуда знать то, что было скрыто от остальных? Мог ли он, в своей преданности и измене, быть ближе к истине, чем все?
И тогда Иуда сказал, глядя прямо в её глаза:
– Он выбрал меня. Не за верность. За то, что я мог быть ненавидимым. Через меня должна была пройти вся отравленная ненависть мира – чтобы расчистить путь. Для него. Для всех.
Надя не ответила. Но внутри что-то откликнулось.
Она ощутила, как в груди разливается тяжесть. И страх. Пророчество – это не слова, произнесённые вслух. Это живая, обжигающая реальность, которую ещё никто не смог принять. Пророчество – это глас тишины, который слышит лишь тот, кто осмеливается заглянуть в бездну своей души и не отвести взгляд.
Иуда стоял в тени – словно сама тень предательства. Но в его спокойствии было нечто иное, нечто большее, чем злодейство. Что-то, что Надя пока не могла понять, но уже чувствовала кожей.
Что значит предать?
Всплывали обрывки памяти – холодные ночи, взгляд мужа. Четыре ребенка, Галя тихо плачет в соседней комнате, и Надя – центр этого маленького мира, и одновременно его палач.
Она не любит, но не уходит. Она не может. Не из любви – из страха разрушить то, что держится только на ней. Как хлеб, который режут – а он всё равно кормит. Потому что больше некому.
Потом – чужие руки, нелепые, липкие. Побег. Отчаяние. Не страсть, а попытка забыться. Исчезнуть. И душ, горячий, как казнь.
В груди кололо. Не от боли. От узнавания.
И в этот миг она поняла, что истинная трагедия – не в предательстве. Не в смерти. А в том, что истина всегда звучит слишком тихо. И чтобы её услышать, надо сначала умереть – внутри.
ГЛАВА 8. В ВИФАНИИ
Дом Лазаря дремал в полумраке, утопая в запахе земли, увядающих трав и близкой грозы. Воздух был густой, как варево, и в нём слышался глухой пульс – как если бы где-то под землёй били в большой барабан. Всё вокруг словно знало: время сжалось в кольцо, выхода нет.
Внутри – тишина, плотная и тяжёлая, как мокрая простыня. Даже дыхание казалось лишним. В этой тишине каждый звук – скрип дерева, едва слышный вздох – пронзал, как гвоздь.
В углу, под мерцающей лампой, сидел Иуда. Его осанка – сгорбленная, закрытая – выдавала уставшего, опустошённого человека. Глаза горели изнутри – не злостью, не тоской, а чем-то тёмным, неотвязным. Рот дрожал, будто слова застряли – не рождаясь, а умирая в горле. Он дышал, словно учился снова – с усилием, с болью.
Он был среди людей – и не с ними. Один. И одиночество это не было обидой. Это была цена. Он знал то, чего никто не хотел знать. И нёс в себе то, что не мог рассказать.
На его поясе висел общий кошелёк – тяжёлый, потертый, с тёмной застёжкой, натёршей кожу.
Учитель когда-то дал его ему. Иуда никогда его не снимал.
Надя стояла рядом. Спокойная. Не как свидетель, а как соучастник, способный услышать то, что звучит между словами. Она чувствовала, как Иуда уходит вглубь себя, и видела не страх смерти, а страх быть началом.
В центре комнаты Мария лила миро на Его ноги. Пахло сладко, резко – как мёд с перцем. Этот запах впитывался в воздух, в кожу, в память. В нём было всё: любовь, прощание, нежность, которая знает, что ей осталось одно касание.
Иуда произнёс тихо – но голос резал, как стекло:
– Для чего эта трата? Это миро можно было продать и раздать нищим.
Фраза, звучавшая как упрёк, не была о деньгах. Надя услышала другое: отчаянную, беспомощную надежду. Как будто, назвав бессмысленным этот жест, он мог остановить не жест, а то, что за ним. Мог отсрочить то, что уже шло – медленно, неумолимо.
Он хотел – не жертвы. Он хотел паузы. Передышки. Шанса. И тогда взгляды встретились. Он и он. И в этом молчаливом взгляде было всё. Понимание. Принятие. Прощение. Но не спасение.
Он смотрел на Иуду – мягко, глубоко, без страха. Словно говорил: «Я знаю. И всё равно».
Иуда отвёл глаза. Просто человек. С невыносимым – и без пути назад.
– Я не хотел, – прошептал он. – Я ждал, что Он… передумает.
Голос хрипел, ломался. Это был не упрёк и не исповедь – скорее попытка удержать душу, когда та уже трескается. Он говорил, как человек, который давно проиграл, но продолжал надеяться, что проигрыш ещё можно объяснить.
Он не был злодеем. Он был тем, кто понял слишком рано. И выдержал страшное. Надя смотрела на него, и ей казалось, что она видит не человека, а бездну, в которой отражается каждый, кто когда-либо выбирал между собой и правдой.
Тишина снова сгустилась. Даже сердца стучали иначе – будто приближалась не судьба, а тень чьей-то воли.
И тогда она поняла:
предательство – это не действие. Это точка, где выбор становится невозможным. Иуда уже прошёл эту точку. И теперь он был не предателем, не жертвой – а живым воплощением той боли, которую человек несёт, когда соглашается быть инструментом чужого замысла.
ГЛАВА 9. ГЕФСИМАНИЯ
Ночь опустилась над Гефсиманией, как тяжёлое покрывало, сотканное из холода и молчания. Всё замерло. Даже деревья – жёсткие, с острыми листьями, словно застывшие лезвия – пригнулись к земле, будто и они страшились прорезать эту тишину. Воздух был густ и насыщен запахами пыли, смолы и влажной земли. В этом плотнеющем пространстве чувствовалось надвигающееся нечто – невыносимое и необратимое.
Иуда шёл по саду, как человек, несущий не ношу – приговор. Его шаги были тяжёлыми, и каждый казался шагом в глубину. Ветви касались его плеч, как пальцы судьбы. Он сжимал кулаки, будто это удерживало его от распада. Рядом шла Надя – молча, чуть позади. Она не говорила ничего, но её взгляд был опорой. Иуда чувствовал: она знает. Она видит то, что он боится себе признать.
Они остановились. Между ними и Ним – несколько шагов. Но расстояние это было – как пропасть. Он стоял, как всегда, – спокойно, незыблемо. И всё же в этой тишине, перед ночной бездной, даже Его фигура казалась сотканной из света и прощания.
Иуда посмотрел на Него. Это был не взгляд – прикосновение. В нём – путь, вера, любовь. И ужас. Уже тогда в нём жил выбор.
Он хотел сказать что-то – но слова гибли в горле.
– Ты должен, – произнёс Он. Голос был негромким, но в нём звучала вечность. – Не потому, что ты меньше других. А потому что ты ближе всех.
Иуда вздрогнул. Внутри него что-то оборвалось, но не упало – стало холодным огнём.
– Они проклянут меня, – прошептал он.
– И ты примешь это. Без славы. Без оправданий. Ты отведёшь нож на себя.
Внутри Иуды что-то застонало. Словно мир вывернулся. Он кивнул – едва, будто соглашаясь не с Ним, а с судьбой, что уже стояла рядом.
– Я исполню.
– Тогда иди, – сказал Он. – Без тебя я останусь Учителем. С тобой я стану хлебом.
Мир на миг остановился. Даже ветер стих. В этот момент не было ни времени, ни просторов. Только они.
Надя сделала шаг ближе. Положила руку на плечо Иуды. Её прикосновение – как ниточка, что ещё держала его в мире людей.
– Ты не один, – сказала она. – Мы с тобой. Не просто я и ты. Эта боль – общая, даже если многие её не признают. Мало кто может понять, но кто-то знает…
Он посмотрел на неё. И впервые за эту ночь – по-настоящему – заплакал. Тихо. Беззвучно. Не от слабости – от любви. Потом отвернулся – и шагнул в ночь. Сад снова погрузился в молчание. Но теперь это была не просто тишина – это было ожидание.
Где-то в глубине сада зашевелились тела. Ученики, измотанные, разбуженные не тревогой, а внутренней пустотой, начали подниматься. Лица их были бледны, глаза – тусклы. Пётр поднялся первым. Взгляд его метался в темноте.
– Где Он? – спросил он, голос был хриплым, сдавленным.
Никто не ответил.
Иоанн поднялся следом. Он смотрел в темноту, как будто пытался разглядеть то, что давно знал: страх.
– Что происходит? – выдохнул он. Но слова растворились.
Тени деревьев казались теперь чужими. Воздух был тяжёл. Всё говорило о том, что что-то ушло – или вот-вот случится.
Надя стояла в стороне. Её лицо было спокойным, но глаза – как открытая рана. Она подошла к Петру и сказала тихо:
– Он не ушёл. Он – в том, что ты сделаешь. В том, что ты выберешь.
И в этих словах был смысл, которого они ещё не поняли. Но скоро поймут.
А в глубине сада Иуда шёл. Один. Ночь обволакивала его, словно мрак в сердце. Но он шёл.